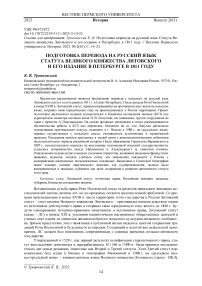Подготовка перевода на русский язык статута Великого княжества Литовского и его издание в Петербурге в 1811 году
Автор: Трояновский К.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Публикации исторических источников: вопросы теории и практики
Статья в выпуске: 2 (61), 2023 года.
Бесплатный доступ
Предметом рассмотрения является организация перевода с польского на русский язык Литовского статута и его издания в 1811 г. в Санкт-Петербурге. После раздела Речи Посполитой в конце XVIII в. Литовский статут, перепечатывавшийся на протяжении двух веков на польском языке, сохранил свою юридическую силу на присоединенных к России территориях. Проект подготовки двуязычного издания осуществлялся в Комиссии составления законов (КСЗ) под кураторством министра юстиции князя П. В. Лопухина; им занималась группа сотрудников во главе с юристом А. Повстаньским. На основе архивных материалов в статье рассматриваются обстоятельства работы в КСЗ над переводом. Несмотря на то, что Лопухин располагал экземплярами оригинального статута, изданного в г. Вильно в 1588 г. на «рус(ь)ком» языке, перевод осуществлялся с польского текста, считавшегося аутентичным в юридической практике. Реализация проекта находилась в тесной связи с внешнеполитическими событиями послетильзитского периода российской истории. После образования Герцогства Варшавского в 1807 г., всколыхнувшего надежды на воссоздание полноценной польской государственности, усилилось соперничество между Наполеоном и Александром I за симпатии поляков. Определенное недовольство в высших сословиях герцогства, вызванное введением французских правовых кодексов, создало удобную почву для повышения лояльности к России у консервативно настроенных польскоязычных подданных. Вышедшее в Сенатской типографии новое издание, помимо практического значения для судопроизводства, должно было восприниматься в западных губерниях как залог сохранения и развития автономного статуса этого края.
Литовский статут, источники права, российская империя, западные губернии, комиссия составления законов
Короткий адрес: https://sciup.org/147246473
IDR: 147246473 | УДК: 94(47).072 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-2-14-25
Текст научной статьи Подготовка перевода на русский язык статута Великого княжества Литовского и его издание в Петербурге в 1811 году
Историческая судьба права Речи Посполитой после ее разделов привлекает внимание исследователей многие десятки лет, но по-прежнему остается малоизученной проблемой. Со времени присоединения в конце XVIII в. части территории этого государства к России Литовский статут – свод законов Великого княжества Литовского - признавался новыми властями одним из источников действующего права и сохранял свою юридическую силу вплоть до 1840 г. Будучи одновременно историко-правовым памятником и источником права, Литовский статут (далее ‒ ЛС) в начале XIX в. усилиями патриотически настроенных общественных деятелей и ученых стал одним из символов жизнеспособности польского культурно-языкового сообщества. Зримое присутствие этого памятника в публичной жизни виделось залогом сохранения традиций Речи Посполитой и будущности ее народов. Созданный в золотой век шляхетской демократии, ЛС должен был напоминать современникам о славных временах польско-литовского государства.
Утвержденный в 1529 г. как первый результат кодификации старолитовского права, статут впоследствии дополнялся и перерабатывался. В 1566 и 1588 гг. были приняты последовательно две новые редакции, известные как Второй и Третий статуты. Хотя Третий статут первоначально был издан в Вильне в типографии Мамоничей в 1588 г. на «рус(ь)ком язы-ке»/«рус(ь)кой мове» - книжно-актовом языке Великого княжества Литовского (далее – ВКЛ),
его польский перевод, впервые напечатанный в 1614 г., в течение XVII в. вытеснил оригинальный текст из административной и судебно-правовой сфер ВКЛ. Статут на протяжении двух столетий переиздавался только на польском, а память о «руськом» издании почти исчезла. Тадеуш Чацкий, опубликовавший в 1800 г. свои штудии по истории права, это издание не упомянул [ Linde , 1816, s. 30, 35], хотя и отмечал, что Третий статут был написан на «руськом» языке [ Czacki , 1800, s. 48].
В 1811 г. в Сенатской типографии вышло новое издание Литовского статута. Оно представляло собой два тома общим объемом более тысячи страниц. На каждой странице в параллельных колонках были помещены польский текст статута и его русский перевод. В начале 1812 г. двухтомник был отправлен из Петербурга в главные суды и другие присутственные места западных провинций. Местный судебный корпус был польскоязычным и пользовался изданиями статута, вышедшими во времена Речи Посполитой. Двухтомник предназначался как для служивших в западном регионе русскоязычных чиновников от короны - членов местной администрации, судов, губернских прокуроров, стряпчих и др., так и для центральных и высших учреждений империи, в т.ч. Сената, являвшегося апелляционной инстанцией для гражданских и уголовных дел.
Издание ЛС на двух языках отвечало требованиям гражданско-процессуальных норм, регулировавших судопроизводство по апелляционным делам западных губерний. Согласно сенатскому указу от 11 сентября 1797 г., в главных судах «польских» губерний, являвшихся первой апелляционной инстанцией, резолюции и приговоры должны были писаться на двух языках - на польском с параллельным русским переводом. В случае апелляции по гражданским делам губернские суды должны были представлять в Сенат «экстракт» (краткое изложение) из дела вместе с переводом на русский (ПСЗ, № 18135).
Предметом данной статьи является изучение осуществления перевода Литовского статута на русский язык, а также подготовка его издания в 1811 г. Рассматриваемый сюжет известен главным образом историкам права. Наиболее информативный, основанный на архивных материалах, но не во всем точный, его очерк дал в начале XX в. А. Э. Нольде [ Нольде , 1906, с. 69‒73]. Последующая историография черпала сведения из этой работы. Если брать более широкий исторический контекст, выходя за пределы отдельного, весьма обширного поля историко-правовых исследований, посвященных ЛС (современная библиография по этой проблематике приведена в работе С. Годека [ Godek , 2012 ] ), то следует отметить, что литература об интеграции западных территорий в имперское пространство в первые десятилетия XIX в. обходит вниманием проблемы сосуществования местного и имперского права в регионе.
Цель статьи – на основе опубликованных и неопубликованных документов исследовать ход работы по переводу и подготовке издания Литовского статута и указать на связь этого проекта с внешнеполитическим фоном послетильзитского периода российской истории.
Присоединение обширных территорий Речи Посполитой и сохранение там прежнего гражданского права поставили в правительственных кругах вопрос о необходимости иметь точные переводы местных законов на русский язык. Русский поэт и писатель И. И. Дмитриев, служивший в 1797‒1799 гг. обер-прокурором 1-го отделения III департамента Сената, отмечал неудовлетворительноcть переводов на русский подборок местных законов, которые имелись в Сенате. Они были переписаны от руки плохим почерком, а верность перевода никем не была заверена. Именно такими рукописными, потрепанными от постоянного использования сборниками приходилось пользоваться сенаторам и чиновникам сенатских департаментов. Оригинальные сборники местного права также находились в Сенате, однако большинство русскоязычных чиновников могло пользоваться ими только с помощью переводчиков. Когда Дмитриев пытался представить свои предложения по подготовке перевода этих законов, генерал-прокурор кн. А. Б. Куракин отнесся к этому равнодушно ( Дмитриев , 1866, с. 136‒137).
Тем не менее работа по изучению законодательства Речи Посполитой в Петербурге в это время велась. Учрежденная Павлом I Комиссия составления законов (далее ‒ КСЗ) собирала материалы и приступила к переводу Литовского статута на русский язык, который, однако, не был закончен [ Нольде , 1906, с. 33‒35]. В описи дел III департамента Сената также сохранилось упоминание о том, что в январе 1801 г. начались работы по переводу хранившихся там немецких и польских законов (РГИА. Ф. 1347. Оп. 281. Д. 1875. Л. 1 об.).
Организацию нового перевода ЛС на современный русский удалось осуществить несколько позже министру юстиции князю П. В. Лопухину, одновременно возглавлявшему Комиссию составления законов. Одними из задач комиссии являлись собирание и систематизация местного права, сохранявшего юридическую силу в отдельных регионах империи. Для этих целей в составе КСЗ были созданы несколько редакций (ПСЗ, № 21187). Руководителем редакции, отвечавшей за польское и литовское право, был назначен адъюнкт (вице-профессор) Виленского университета, доктор права А. Повстаньский (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 900. Л. 39‒40). В 1807 г. Лопухин поручил Повстаньскому и его сотрудникам перевести с польского на русский язык справочник по польскому и литовскому праву, который был издан в Варшаве в 1783 г. (Uwagi…, 1829, s. 39), и имел, по-видимому, широкое хождение. В апреле ‒ мае 1808 г., помимо своих основных задач, Повстаньский занимался «по особенному препоручению присутствия» КСЗ исправлением русского перевода этой книги (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 39. Л. 39‒39 об.). В 1808 г. перевод был опубликован Сенатской типографией, а через два года вышло исправленное издание (Ручной словарь..., 1808).
Следующим логическим шагом должно было стать издание Литовского статута на русском языке. Важным фактором, ускорившим движение в этом направлении, стали внешнеполитические обстоятельства. О значении для рассматриваемого сюжета создания в 1807 г. Герцогства Варшавского и введения в нем наполеоновского законодательства будет сказано ниже.
Стоит отметить, что первый перевод Литовского статута ВКЛ на русский язык появился в Московском государстве еще в середине XVII в. и послужил, видимо, источником заимствований при составлении Уложения 1649 г. [ Мякишев , 2014, с. 328]. С присоединением левобережной Украины имперское правительство вновь должно было познакомиться с ЛС, который являлся одним из основных источников права в этом крае. В 1738 г. комиссия, работавшая по указанию центральных властей над кодификацией малороссийского права, закончила перевод Литовского статута с польского на «великороссийский» язык (Права..., 1997, с. XLVII). Применявшийся судами Гетманщины во второй половине XVIII в. текст переведенного ЛС был известен в России как Малороссийский статут. На этой территории имели хождение рукописные списки статута, адаптированные переписчиками к местной языковой норме [ Мякишев , 2014, с. 327-328 ] .
Перевод статута, выполненный комиссией в 1738 г., находился в III департаменте Сената (РГИА. Ф. 1347. Оп. 94. Д. 754. Л. 2‒2 об.). Зная о Малороссийском статуте, Лопухин наводил справки и о других текстах ЛС на кириллице. Вероятно, именно во время этих поисков Лопухин узнал о существовании старопечатного издания 1588 г. К весне 1808 г. в распоряжении Лопухина было по крайней мере два экземпляра этого издания: один был получен от С. В. Руссова, второй поступил из Императорской библиотеки.
Известный в истории литературы писатель С. В. Руссов в 1806 г. был назначен волынским губернским прокурором. Будучи любителем древностей, он собирал исторические сведения, посещал в Волынской губернии места, известные по летописям и хроникам, отыскивал исторические памятники, во многих из которых он видел свидетельства бытия древней России. Итогом «розысканий» стал своего рода путеводитель по историческим местам Волыни, включенный в «Волынские записки» Руссова - авторское описание этой губернии. В результате поисков старинных книг, печатанных на кириллице, Руссов обнаружил в частных руках издание Литовского статута 1588 г. на «российском языке», которое ему удалось приобрести ( Руссов , 1809, с. 108, 99‒109). Примечательно, что Руссов в «Записках» не подчеркивал уникальность своей находки. Приводимые им данные (с ошибками) о хронологии изданий ЛС (Там же, с. 132‒133) заимствованы из польского издания статута 1786 г., в котором ничего не сказано о том, что первое издание статута на польском языке вышло только в 1614 г. В 1808 г. свое сочинение о Волыни и экземпляр старопечатного статута 1588 г. С. В. Руссов прислал Лопухину (РГИА. Ф. 1405. Оп. 520. Д. 4001. Л. 240 об.). После доклада министра в мае 1808 г. Александр I повелел напечатать «Записки» Руссова за счет средств своего кабинета, а экземпляр ЛС передать на хранение в Сенат ( Руссов , 1809, с. i‒ii).
Еще один старопечатный экземпляр ЛС на «российском языке» Лопухин получил из Императорской библиотеки. Из переписки чиновников невозможно установить, какая именно библиотека имелась в виду - будущая Публичная библиотека, книгами которой по служебной необходимости периодически пользовались чиновники ведомства юстиции (ОАД РНБ. Ф. 1.
Оп. 1. 1800. Д. 19. Л. 1, 2, 3, 8‒9, 13, 18), или же Эрмитажная библиотека, также подведомственная Кабинету его императорского величества, в которой, вероятно, в это время уже хранился кириллографический статут [ Мякишев , 2014, с. 298].
Руссов в своих «Записках» называет язык старопечатного статута «русским» или «российским» ( Руссов , 1809, с. XV, 107, 108). Кажется, что в определении языковой принадлежности текста для Руссова были важны алфавит и рисунок шрифта, которыми были выполнены рукописи и книги. Кириллицу он называет «русскими буквами» (Там же, с. 107). Язык и шрифт статута 1588 г. мог напоминать Руссову старые церковнославянские издания. В научной литературе отмечается, что в языковом сознании людей той эпохи не существовало противопоставления церковнославянского и русского. Последнее наименование могло прилагаться и к книжному языку, и к языку некнижной письменности [ Живов , 1996, с. 277]. Лопухин принимает это обозначение языка статута 1588 г., и в дальнейшей переписке он именуется «российским». Трудно судить, несло ли такое определение в себе имперскую нагрузку или же оно, скорее, объясняется особенностями языкового сознания того времени.
Ввиду слабой научной разработанности истории ЛС перед Лопухиным и его сотрудниками возник вопрос о том, как соотносятся три группы текстов статута: 1) содержащиеся в обнаруженных старопечатных экземплярах на кириллице; 2) польскоязычные, используемые во вновь присоединенных областях, и 3) «малороссийские», применяемые на левобережной Украине. Пожалуй, единственной печатной работой, из которой тогда можно было почерпнуть исторические сведения о статуте, было исследование Т. Чацкого «О польских и литовских законах», в котором говорилось о трех редакциях статута. Однако в нем было трудно найти ответы на возникшие вопросы.
В начале марта 1808 г. министр передал полученный из Императорской библиотеки («кабинетский») экземпляр «Литовского на Российском языке Статута» обер-прокурору 1-го отделения III департамента Сената С. П. Татищеву с устным приказанием сличить текст этой книги с «таковым же», хранящимся в департаменте. В случае выявления расхождений в текстах Лопухин просил без отлагательства сообщить, в чем именно заключается «несходственность в выражениях» с указанием разделов, артикулов и параграфов статута и каким образом их следует исправить (РГИА. Ф. 1347. Оп. 94. Д. 754. Л. 1‒1 об.).
В III департаменте имелись экземпляр последнего польскоязычного издания, вышедшего в Вильно в 1786 г., и уже упоминавшийся рукописный экземпляр Малороссийского статута. Зная о разных редакциях статута, сановники хотели определить, как соотносятся тексты старопечатного издания 1588 г. и малороссийского. К выполнению этой задачи - сличению польского и кириллических текстов - Татищев привлек чиновников, являвшихся носителями польского языка: С. Козелло и И. Бучиньского. Первый возглавлял «Польскую метрику», которая представляла собой хранившуюся при Сенате часть государственного архива Речи Посполитой, а второй с апреля 1805 г. служил в Сенате «переводчиком польского языка» (РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 328. Л. 115‒116). Татищев, очевидно, полагал, что с поручением более успешно справятся знатоки оригинала статута, поскольку именно польский текст тогда считался аутентичным [ Музыченко, 1989, с. 64 ] .
18 марта 1808 г. чиновники представили рапорт о проделанной работе. По их словам, в III департаменте находились три текста статута: помимо упоминавшихся выше польскоязычно-го издания 1786 г. и рукописного малороссийского, был и третий текст, принадлежавший секретарю Бохановскому. Это был перевод «с Польского Печатанного Статута с подведением всех Конституций какие в оном под всяким разделом имеются» (РГИА. Ф. 1347. Оп. 94. Д. 754. Л. 2). Из рапорта невозможно понять, кто являлся автором перевода и был ли этот текст близок к рукописям статута, имевшим хождение в Малороссии. Скудную информацию о Павле Боха-новском (Бухановском) можно получить из его формулярного списка. Начав свою карьеру в Переяславском повете Киевского наместничества, он с сентября 1794 г. служил в III департаменте Сената, где последовательно проходил должностные ступени и в 1806 г. был назначен секретарем 1-го отделения (РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Ф. 278. Л. 33‒34).
Сопоставление хранящихся в Сенате статутов с присланным Лопухиным показало, что «в содержании своем [они] согласны». Чиновники имели в виду, что эти книги тождественны по структуре и смыслу заголовков разделов, артикулов и параграфов. Тем не менее они признава- ли, что «Статут печатанный в Вильне в 1586 году по древнему слогу есть непонятен, и во всяком почти слове с Малороссийским несходственный...» (РГИА. Ф. 1347. Оп. 94. Д. 754. Л. 2). В качестве иллюстрации было приведено сравнение двух отрывков из этих текстов. Если указывать на каждое такое расхождение, как замечали Козелло и Бучиньский, «то они составют таковую ж книгу как и Статут» (Там же. Л. 2 об.). «Малороссийский переведенный в 1738 году так же есть непонятен и во многих пунктах заключает в себе противный смысл настоящему Статутовому Праву» (Там же). Под последним, согласно тогдашним воззрениям, понимались нормы, содержавшиеся в польскоязычном статуте. Рапорт заканчивался рекомендацией приобрести у Бохановского рукописный перевод, который «есть несоразмерно лутше Малороссийского», для «поверки» с оригинальным польским изданием (Там же. Л. 3). Чиновники выражали свою готовность к этой работе.
Реакция Румянцева неизвестна, однако содержавшееся в рапорте заключение могло только укрепить мысль о необходимости либо найти уже существующий текст приемлемого переложения статута на русский язык, либо выполнить новый. 13 июля 1808 г. Лопухин направил секретарю присутствия КЗС Г. А. Розенкампфу, являвшемуся ее фактическим руководителем [ Kaplunovsky , 2019, p. 174], ордер, вместе с которым был передан и «Литовский Статут переведенный на Российский язык с Польского». Лопухин предписал «оной поверить с подлинником и исправить в слоге». Это поручение должны были выполнить А. Повстаньский, «а в помощь ему» предписывалось «дать Икосова», помощника Розенкампфа в 1-й экспедиции (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 592. Л. 1).
Никаких указаний на происхождение этого переводного текста в ордере Лопухина не содержалось. Можно предположить, что это была рукописная книга, принадлежавшая Боха-новскому. Поскольку Козелло и Бучиньский уже засвидетельствовали хорошее качество этого перевода, Лопухин поручал чиновникам КСЗ произвести, помимо сверки, и литературную правку текста. Розенкампф запросил из архива комиссии хранившийся там «другой перевод сего Статута по видимому исправнейший... в некоторое облегчение труда сего» (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 39. Л. 59).
16 октября 1808 г. Повстаньский и Икосов представили присутствию комиссии рапорт о ходе порученной им работы. Чиновники отмечали, что быстрого прогресса им достичь не удалось. Причин этому приводилось несколько. Во-первых, оказалось, что сам перевод содержит «по большей части выражения ... не чисто Российские, а более Малороссийские» (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 592. Л. 2); во-вторых, «самая конструкция во многих местах совсем Польская, Российскому языку не свойственная; в ином месте смысл совсем затемнен; а в некоторых важных местах мысль выражена совсем противно Польскому оригиналу» (Там же. Л. 2–2 об.); в-третьих, чиновники обнаружили, что сеймовые конституции, приведенные в издании 1786 г. при каждом артикуле (дополнявшие статутовое право и показывавшие для справки, в чем оно отличается от польских законов), или вовсе не приводились в рукописи, или содержали неправильное обозначение года их принятия. К тому же выяснилось, что в «подлиннике Польском» конституции приведены с ссылками на издания, ставшие уже библиографической редкостью. Поэтому необходимо было перевести с польского недостающие в рукописи конституции, а Повстаньский должен был проверить правильность дат конституций и привести ссылки на «новейшие издания, которые всегда найти можно» (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 592. Л. 2 об.; Д. 39. Л. 94‒94 об.).
Чиновники при этом не были освобождены от своей основной работы в КЗС. Так, Пов-станьский в августе и сентябре 1808 г. продолжал заниматься систематизацией норм, регулирующих деятельность католической и униатской церквей. Он проверял также перевод на русский язык собранных им по плану КСЗ гражданских законов Речи Посполитой (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 592. Л. 3; Д. 39. Л. 94‒94 об.). Известный в истории русской литературы поэт П. П. Икосов выполнял свои обязанности по 1-й экспедиции и занимался литературной правкой перевода (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 592. Л. 3; Uwagi…, 1829, s. 40). За два с половиной месяца чиновники успели исправить только два с половиной раздела статута – 92 артикула, почти при каждом из которых, по их словам, нужно было проверять или переводить конституции (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 592. Л. 3 об.). 29 ноября 1808 г. присутствие комиссии в составе Лопухина и недавно вошедшего в него М. М. Сперанского, выслушав очередной рапорт, поручило чинов- никам продолжать работу и представлять обработанные разделы статута по мере их окончания (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 6. Л. 54).
В конце 1808 г. ‒ начале 1809 г. произошла реорганизация КСЗ, инициированная М. М. Сперанским, который сделался докладчиком Александру I по ее делам (ПСЗ, № 23525) [ Корф , 1861, с. 148‒152]. 7 мая 1809 г. назначенный в результате реорганизации начальником отделения малороссийских и польских законов Повстаньский представил присутствию КСЗ рапорт о ходе работ. «По причине остановки перевода Литовского Статута, которой приказано переводить», он просил «препоручить продолжение сего занятия» ему самому и его помощнику В. Г. Анастасевичу (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 40. Л. 37; Д. 7. Л. 43). Из этого краткого документа мы узнаем о том, что в конце 1808 ‒ начале 1809 г. было принято решение осуществить новый перевод статута на русский язык. Хотя о причинах остановки в работе Повстаньский не сообщает, скорее всего, она была вызвана реорганизацией комиссии и изменившимся под влиянием Сперанского общим планом ее работ. Произошли изменения в составе переводчиков. В 1804‒1808 гг. основным штатным переводчиком отделения, подпись которого стоит на многих работах, был бывший майор польской службы Л.-И. Жуковский. Однако в 1809 г. он не вошел в утвержденный правлением новый штат. На должностях переводчиков были утверждены В. Копецкий и недавний выпускник Высшего училища правоведения И. Вылаский-Горегляд (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 7. Л. 37).
Тем не менее коллектив, работавший над переводом статута, был усилен. 7 марта 1809 г. в КСЗ определили поэта, книговеда и переводчика В. Г. Анастасевич, служившего тогда в канцелярии попечителя Виленского учебного округа (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 900. Л. 22‒23, 24‒25). Повстаньский ходатайствовал о привлечении Анастасевича в комиссию еще в начале декабря 1808 г. Редактор сетовал на нехватку в отделении чиновников и канцелярских служащих. Ему также требовался сотрудник, который бы среди прочего занимался проверкой правильности и редактированием переводов с польского на русский. Помимо хорошего знания этих языков, такой сотрудник должен был быть также «сведущ[им] в латинском, а для случающихся сношений с другими чиновниками разумеющ[им] по француски и по немецки» (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 39. Л. 120 об.). Повстаньский указывал, что в числе сотрудников «редакции польских и литовских законов» нет ни одного, обладающего такими компетенциями. Анастасе-вич же, по сведениям Повстаньского, имел все требуемые качества и был известен как переводчик нескольких научных работ с польского и французского (Там же. Л. 120‒121).
По более позднему свидетельству Повстаньского, работа по переводу ЛС была разделена между Анастасевичем и штатными переводчиками Гореглядом и Копецким. Сам Повстаньский, помимо проверки перевода с польского на русский, выверял правильность приведенных в польском издании статута ссылок на нормы коронных статутов и сеймовых конституций. Икосов отвечал за стилистику и соответствие переведенного текста нормам русского языка (Uwagi…, 1829, s. 39‒40).
7 января 1810 г. Повстаньский представил оконченный перевод статута с «подведением в кратце почти на каждом листе приличных конституций» (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 40. Л. 120). В этот момент в связи с учреждением Государственного совета произошли кадровые изменения в высших правительственных кругах. В январе 1810 г. Лопухин оставил Министерство юстиции, чтобы занять должность председателя одного из четырех департаментов Госсовета. Министром юстиции был назначен И. И. Дмитриев, который, как мы уже видели, будучи обер-прокурором III департамента Сената, был знаком с положением дел в области местного права и понимал важность доведения до конца начатого его предшественником предприятия.
Выполненный в КСЗ перевод ЛС был передан в Сенат, при котором существовала типография, публиковавшая правительственные указы и законы. В середине июля 1810 г. М. М. Сперанский получил от И. И. Дмитриева отношение, в котором тот «по случаю неисправностей, замеченных в некоторых местах перевода» ЛС, просил командировать Повстань-ского и Икосова в распоряжение и.о. обер-прокурора З. Н. Посникова для исправления текста (РГИА. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 592. Л. 5‒5 об.).
Была ли проверка перевода в Сенате сразу же поручена Посникову и кто заметил «неисправности», нам неизвестно. Посников служил в должности обер-прокурора 1-го отделения III департамента Сената с марта 1810 г. и был на ней утвержден в декабре того же года. Судя по формулярному списку, Посников начал свою служебную карьеру в 1775 г. в Полоцкой пограничной комиссии, а с 1781 по 1784 г. служил внештатным переводчиком в правлении Полоцкого наместничества (РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1796. Л. 33‒38), образованного из белорусских земель, присоединенных к России. По свидетельству служащих в Сенате, Посников знал польский язык (РГИА. Ф. 1405. Оп. 26. Д. 4209. Л. 5). Этим и можно объяснить поручение именно ему проверить правильность перевода статута. Повстаньский позднее указывал, что Посников с прикомандированными чиновниками КСЗ занимались проверкой в течение восьми недель «едва ли не каждый день по несколько часов» (Uwagi…, 1829, s. 40). К работе по подготовке издания были привлечены и другие чиновники. По поручению Посникова, упомянутый выше секретарь III департамента Сената Бучиньский занимался «корректурой» (РГИА. Ф. 1405. Оп. 26. Д. 4209. Л. 5). К сожалению, архивное дело, в котором должен был находиться рапорт Посникова о проверке, не сохранилось. Однако, судя по своем малому объему, – дело состояло из трех листов – Посников дал весьма краткое описание итогов своей работы (РГИА. Ф. 1405. Оп. 8. Л. 193).
В начале декабря 1810 г., когда редакторские работы, видимо, подходили к концу, Дмитриев приказал обер-прокурору I департамента Сената Д. О. Баранову, курировавшему Сенатскую типографию, распорядиться об изготовлении к январю 1811 г. польских литер для печатания статута (РГИА. Ф. 1341. Оп. 257. Д. 19. Л. 7 об.‒8).
В делопроизводственных документах КСЗ не удалось обнаружить следов работы над переводом и проектированием нового издания: инструкций переводчикам, черновиков первоначальных редакций перевода, обсуждения вариантов передачи трудных мест статута. Для освещения отдельных аспектов этих работ определенную ценность имеет более позднее свидетельство самого Повстаньского, опубликовавшего в 1829 г. в Вильно книгу, одна из целей которой заключалась в попытке парировать выпады в отношении качества сенатского издания ЛС (Uwagi…, 1829). К суждениям в этой книге необходимо относиться с осторожностью, поскольку, как справедливо заметил А. Э. Нольде, приводимые в ней аргументы могли родиться у бывшего сотрудника КСЗ много позже после выхода в свет сенатского издания 1811 г. [ Нольде , 1906, с. 73]. Критика состояла в том, что основу сенатского издания составил польский текст, содержавший множество погрешностей, а его перевод на русский язык не везде был точен.
Титульная страница статута 1811 г. не содержала традиционного для предыдущих поль-скоязычных публикаций указания на то, что новое издание содержит перепечатку старого текста ЛС; какое-либо указание на его источник отсутствовало. В появившемся в 1816 г. текстологическом исследовании печатных статутов варшавский филолог С. Б. Линде указал, что издание 1811 г. воспроизводит текст последнего польского издания, опубликованного в 1786 г. [ Linde , 1816, s. 77‒79]. Сравнивая тексты «руського» 1588 г. и последующих польскоязычных изданий, Линде пришел к выводу, что каждое переиздание статута содержало все большее количество ошибок, пропусков и опечаток, добавляя к старым все новые; исправления же были редким исключением. Наихудшим Линде считал издание 1786 г. [Ibid., s. 37, 77, 84‒154, 156]. Этот тезис был полностью поддержан виленским правоведом И. Даниловичем [ Daniłowicz , 1823, s. 290, 291, 292].
В «журналах» (протоколах) КСЗ не отражено рассмотрение вопроса о том, какой текст ЛС следует положить в основу русского перевода и будущего издания. Кажется, что руководители КСЗ вполне доверились мнению эксперта по польско-литовскому праву Повстаньского, и проблемы выбора текста-основы не возникало. Хотя в распоряжении Лопухина, как мы видели, было два экземпляра старопечатного кириллического статута, тем не менее он вряд ли рассматривался как возможная основа для перевода. Стоит повторить, что, согласно господствовавшему тогда мнению, оригиналом ЛС считался польский текст. Лишь в 1816 г. появилось предположение, выдвинутое Линде, о том, что впервые статут был напечатан только на «руськом» языке.
Действительно, исходным текстом для перевода послужило последнее польское издание 1786 г. Такой выбор объяснялся повсеместным его использованием в судах западных губерний. Перепечатка, сопровождаемая русским переводом, не вносила каких-либо новшеств в судебноправовую систему, складывавшуюся в присоединенных областях, на территории которых продолжало действовать прежнее право. Согласно общепринятому взгляду, который разделял и
Повстаньский, только польскоязычный статут являлся источником действующего права на территории бывшего ВКЛ (Uwagi…, 1829, s. 50‒51).
Текст статута 1786 г. был воспроизведен в новом издании со всеми ошибками и даже очевидными опечатками. Повстаньский утверждал, что это было сделано намеренно, говоря в оправдание, что «и наименьшее изменение текста могло бы навлечь на издателей ответственность за безпечность» (Uwagi…, 1829, s. 52). Точная перепечатка текста последнего польского издания должна была служить защитой от возможных упреков и критики. Даже немногие исправления этих ошибок в петербургском издании Повстаньский объявлял «мимовольными» (Ibid., s. 52, 94). Это подтверждает и другой сотрудник. По свидетельству Бучиньского, во время окончательного редактирования текста замеченные в польском издании ошибки и огрехи были воспроизведены в новом издании, поскольку Посников «не находил себя в праве переправлять оных» (РГИА. Ф. 1405. Оп. 26. Д. 4209. Л. 5‒5 об.). О наличии очевидных ошибок в польском издании 1786 г. можно было убедиться при его сличении с предыдущими польскоя-зычными или с кириллическим изданием 1588 г.
В своей книге Повстаньский утверждал, что работавшим над переводом чиновникам не было известно о существовании «руського» старопечатного экземпляра статута, находившегося в «Польской метрике» при III департаменте Сената (Uwagi…, 1829, s. 49, 50). Этому утверждению противоречит, однако, примечание к тексту русского перевода 70-го артикула 4-го раздела в сенатском издании. Оно содержит прямую отсылку на соответствующее место в старопечатном статуте 1588 г. (Статут Великого Княжества Литовского…, 1811, с. 414). Появление указанного примечания Повстаньский объяснял тем, что, когда при окончательной проверке перевода возник спор по поводу уместности употребления частицы «не» в польском тексте одного из артикулов, обер-прокурор Посников затребовал печатный экземпляр статута из «Польской метрики», чтобы прояснить этот трудный случай. А поскольку материал уже пошел в печать, то для сверки других мест времени не оставалось (Uwagi…, 1829, s. 49‒50). Указание Повстань-ского на нехватку времени для выверки перевода с «руським» оригиналом из-за начала печати сомнительно. Если предположить, что Посников, Повстаньский и Икосов начали работу по редактированию в середине июля 1810 г. и занимались этим восемь недель, то закончить ее они должны были до середины сентября. Печатание же началось не ранее января 1811 г.
Более важная причина прекращения сверки и продолжения печатания, по словам Пов-станьского, заключалась в том, что «не экземпляр руский, но последнее польское издание Статута Литовского [вышедшее в 1786 г.] считалось действующим правом» (Ibid., s. 50). Сверка же современного русского перевода со старопечатным изданием 1588 г., по его мнению, скорее была бы равносильна самодеятельной научной работе, а не точным исполнением распоряжения правительства, которое заключалось в переводе польскоязычного статута на русский язык (Ibid.). Оправдываясь таким образом, Повстаньский невольно подтверждает, что он и его сотрудники знали о существовании печатного ЛС на кириллице. Утверждение о сверке только одного места нового перевода статута с изданием 1588 г. опровергает также исследование Линде, который указал на несколько случаев, когда переводчики при неясности польского текста прибегали к «руському» оригиналу [ Linde , 1816, s. 78, 80, 99‒100]. Можно согласиться с А. Нольде в том, что мамоничевское «издание игнорировалось, главным образом, потому, что с него было труднее переводить, чем с польского» [ Нольде , 1906, с. 73]. Препятствием для переводчиков были трудности как в прочтении старого кириллического шрифта, так и в понимании самого книжно-актового языка ВКЛ.
Проект издания Литовского статута в Петербурге находилcя в прямой связи с внешнеполитическими событиями. Создание Герцогства Варшавского и перспектива возрождения полноценной польской государственности оказали существенное влияние на общественные настроения в западной полосе Российской империи. Появление на границах империи зависимого от Наполеона образования требовало от российских властей обращать особое благосклонное внимание на своих польскоязычных подданных. В Петербурге резонно полагали, что публикация правительством сборников польского и литовского права будет с воодушевлением встречена в западных областях империи.
Наполеон и Александр оказались в политической ситуации, в которой они должны были конкурировать за симпатии поляков, подогревая их надежды на воссоздание суверенного поль- ского государства. По мере роста напряженности между Францией и Россией Александр I в своей польской политике преследовал цель нейтрализовать популярность Наполеона в общественном мнении поляков, в особенности тех их них, кто находился на территории Российской империи. В сложной политической игре российский император чувствовал необходимость иметь на руках сильные козыри, которые можно было бы пустить в ход в случае необходимости. Помимо принятия титула польского короля, Александр I серьезно рассматривал проект создания российской Литвы в противовес профранцузскому Герцогству Варшавскому. Так, в 1811‒1812 гг. император поддерживал предложенный польско-литовским аристократом М.-К. Огиньским план создания из «польских» губерний Великого княжества Литовского в составе империи [Nawrot, 2008, s. 69-71; Польша и Россия..., 2010, с. 31-36].
В мае 1808 г. в Герцогстве Варшавском вступил в силу кодекс Наполеона, на основе которого должны были регулироваться гражданские правоотношения. Поначалу суды герцогства в своей практике руководствовались французским оригиналом кодекса, поскольку частные переводы на польский язык содержали ошибки. Только в 1813 г. появилось новое издание кодекса с параллельным текстом на трех языках – французском, польском и латинском, которое предназначалось для использования в судах. Судьи могли полагаться на польский перевод, если он не противоречил французскому оригиналу [Historia państwa i prawa..., 1981, s. 132‒133]. В этих условиях как нельзя кстати было появление сенатского издания ЛС, который на протяжении веков после заключения Люблинской унии воспринимался как символ правовой обособленности ВКЛ [ Godek , 2012, s. 485 ] . Находясь осенью 1811 г. в Литве, Огиньский охотно распространялся о планах Александра по воссозданию ВКЛ, включающего восемь российских губерний [ Nawrot , 2008, s. 71 - 72]. Новое издание Литовского статута могло служить весомым подкреплением таких рассказов. Подготовленное в Петербурге издание статута должно было также подчеркнуть выгодное положение поляков - российских подданных, пользовавшихся своим традиционным правом, по сравнению с ситуацией в Варшавском Герцогстве, жители которого должны были принять из рук Наполеона франкоязычные кодексы. На фоне широкого недовольства католической церкви, польской аристократии и землевладельческой шляхты скоропалительным введением наполеоновского законодательства [ Gałędek , Klimaszewska , 2018, p. 273‒275], основанного на внесословных принципах, Александр I мог надеяться на увеличение числа своих сторонников после выхода в свет российского издания статута.
Хотя на протяжении 15 лет, прошедших со времени разделов, многие нормы ЛС были либо отменены явочным порядком путем введения российских законов, либо изменены указами; петербургское издание не содержало каких-либо указаний на произошедшие изменения в правовой сфере края. В нем не было ни одной ссылки на нормы российского законодательства. Это могло вести к мысли о том, что реставрация ключевых элементов прежнего польско-литовского государственного строя вполне возможна.
Вместе с тем, издавая Литовский статут, верховная власть желала сохранить в дальнейшем свободу рук, что являлось характерной чертой политического стиля Александра I. Показательно то, что издание не содержало указаний на его утверждение каким-либо государственным органом. Ордер министра юстиции, вместе с которым 6 января 1812 г. новое издание было разослано в столичные подведомственные учреждения, был весьма лаконичен и не содержал каких-либо предписаний или рекомендаций руководствоваться в своей деятельности этим изданием: «Препровождаю при сем к Вашему... (следует титул) один экземпляр Литовского Статута с Российским переводом для... (следует название органа управления)» (РГИА. Ф. 1345. Оп. 279. 1812 г. Д. 3. Л. 1). Условно официальный характер изданию придавал факт его выхода из типографии «при Правительственном Сенате», которая специализировалась на печатании правительственных постановлений.
Практика издания российских нормативных актов с параллельными русским и польским текстами существовала, начиная со времени присоединения территорий Речи Посполитой. Так, были изданы манифест М. Н. Кречетникова в 1793 г. (О присоединении..., 1793), «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи», вышедшие в 1794-1796 гг. в западных губерниях, и другие [Сводный каталог…, 1966, с. 282]. Принципиально новым являлось то обстоятельство, что в 1811 г. был издан сборник законодательства иностранного государства на иностранном же языке, сопровождаемый переводом на русский. Тем не менее двуязычность нового издания важнейшего законодательного кодекса ВКЛ, помимо практического значения и соответствия требованиям губернского судопроизводства, имела дополнительный смысл. Наличие русского текста могло ослабить опасения имперского дворянства в отношении статуса присоединенных «польских» областей, которые позже выразит Н. М. Карамзин в записке «Мнение русского гражданина» [Западные окраины..., 2006, с. 90‒91].
За исключением употребления в отношении языка старопечатного статута определения «российский» проект не имел выраженной идеологической направленности. Русские сановники были далеки от использования обнаруженного издания 1588 г. как средства для исторического обоснования русского характера присоединенных провинций. Они смотрели на ЛС глазами своих польскоязычных сотрудников. Издание 1811 г. останется характерным памятником той эпохи, когда перспектива закрепления за западными областями особого автономного статуса казалась наиболее явственной.
Список литературы Подготовка перевода на русский язык статута Великого княжества Литовского и его издание в Петербурге в 1811 году
- Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 591 с.
- Западные окраины Российской империи / науч. ред. М.Д. Долбилов и А.И. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 608 с.
- КорфМ.А. Жизнь графа Сперанского. СПб.: Имп. публ. биб-ка, 1861. Т. 1. 283 с.
- Музыченко П.П. К вопросу о польском происхождении III Литовского Статута // Третий Литовский Статут 1588 года. Вильнюс: Изд-во Вильнюс. ун-та, 1989. С. 63-72.
- Мякишев В. Кириллические издания Литовского статута 1588 года. Krakow: Wyd. LEXIS, 2014. 394 s.
- Нольде А.Э. Очерки по истории кодификации местных гражданских законов при графе Сперанском. Вып. 1. Попытка кодификации литовско-польского права. СПб.: Сенат. типография, 1906. 314 с.
- Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского. 1815-1830 гг. / отв. ред. С.М. Фалькович. М.: Индрик, 2010. 584 с.
- Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. 1725-1800. М.: Наука, 1966. Т. 3. Czacki T. O Litewskich i Polskich prawach. Warszawa: w Drukarni J.C.G. Ragoczego, 1800. Т. 1. 398 s.
- Danilowicz I. Opisanie bibliograficzne dot^d znanych egzemplarzy Statutu Litewskiego, r^kopismiennych i edycji drukowanych // Dziennik Wilenski. 1823. T. 2. Lipiec. S. 261-293.
- Galqdek M., Klimaszewska A. A Controversial Transplant? Debate over the Adaptation of the Napoleonic Code on the Polish Territories in the Early 19th Century // Journal of Civil Law Studies. 2018. Vol. 11, no. 2. P. 269-298.
- Godek S. III Statut Litewski w dobie porozbiorowej. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2012. 807 s.
- Historia panstwa i prawa Polski / рod red. J. Bardacha i M. Senkowskiej-Gluck. W.: Pan. wyd. naukowe, 1981. T. III. 865 s.
- Kaplunovsky A. The Alexandrine Commission for the Compilation of Laws: In Search for Codifying Models for the Russian Empire // The Enigmatic Tsar and His Empire. Russia under Alexander I. Berlin, 2019. P. 167-217.
- Linde S.B. O statucie litewskim ruskim j^zykiem i drukiem wydanym wiadomosc. Warszawa: Zawadzki i W?cki, 1816. 222 s.
- NawrotD. Litwa I Napoleon w 1812 roku. Wyd-wo Uniwersytetu Sl^skiego, Katowice, 2008. 792 s.