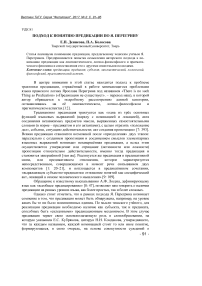Подход к понятию предикации по Я. Перегрину
Автор: Денисова Евгения Павловна, Колосова Полина Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования лексики, грамматики, фонетики
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена пониманию предикации, предлагаемому чешским учёным Я. Перегрином. Предпринимается попытка осмысления авторского подхода к пониманию предикации как лингвистического, логико-философского и прагматического феномена и сопоставления его с другими известными подходами.
Предикация, предикат, субъект, лингвистический, логический, философский, прагматический аспект
Короткий адрес: https://sciup.org/146122055
IDR: 146122055 | УДК: 81
Текст научной статьи Подход к понятию предикации по Я. Перегрину
В центре внимания в этой статье находится подход к проблеме трактовки предикации, отражённый в работе занимающегося проблемами языка пражского логика Ярослава Перегрина под названием «There is no such Thing as Predication» («Предикации не существует». – перевод наш), в которой автор обращается к подробному рассмотрению данной категории, останавливаясь на её лингвистическом, логико-философском и прагматическом аспектах [12].
Традиционно предикация трактуется как «одна из трёх основных функций языковых выражений (наряду с номинацией и локацией), акта соединения независимых предметов мысли, выраженных самостоятельными словами (в норме – предикатом и его актантами), с целью отразить «положение дел», событие, ситуацию действительности; акт создания пропозиции» [7: 393]. Всякая предикация становится возможной после «преодоления» двух этапов: параллельно с созданием пропозиции и соединением смыслов элементарных языковых выражений возникает незавершённая предикация, а вслед этим осуществляется утверждение или отрицание (истинности или ложности) пропозиции относительно действительности, именно тогда предикация и становится завершённой [там же]. Реализуется же предикация в предикативной связи, или предикативном отношении, которое характеризуется непосредственным, совершающимся в момент речи связыванием двух компонентов [1: 20–21], и воплощается в предикативном сочетании,
«выражающем субъектно-предикатное отношение понятий как специфический акт, лежащий в основе человеческого мышления» [9: 109].
Обращение к известному высказыванию А.Ф. Лосева, дефинирующему язык как «всеобщее предицирование» [8: 47], позволяет нам говорить о наличии предикации на разных уровнях языка, как более простых, так и более сложных.
Однако стоит отметить, что в рамках подхода Я. Перегрина возникает сомнение в том, что предикация может быть обнаружена, например, на уровне каких бы то ни было номинативных единиц. По мысли чешского учёного, для реализации предикации необходимо наличие как субъекта, так и предиката, способных быть «склеенными» предикационным механизмом. В этом случае предикация теряет свою основополагающую роль в словообразовании, на которую указывала Е.С. Кубрякова, цитируя Н.И. Кондакова, утверждавшего, что за каждым названием, каждой номинацией стоит то или иное понятие, формирующееся, в свою очередь, на основе совокупности суждений о - 91 - предмете [5: 456]. Иными словами, Е.С. Кубрякова подчёркивает тесную связь словообразования как с лексиконом, так и с синтаксисом, поскольку оно «уходит постоянно в сферу предикативных знаков, пропозиции и в структуру суждения о предмете, явлении или признаке» [6: 40]. Лишённое предикативной связи исходное предложение способно компенсировать этот факт «внутренним синтаксисом» деривата или предложения: он ворует – он вор; он чистит трубы – он трубочист (примеры Е.С. Кубряковой). В подобных словах, по её мнению, обнаруживается латентная, скрытая, имплицируемая предикация [цит. раб.: 41].
В свою очередь вызывает вопрос и возможность сопоставления предикации по Я. Перегрину с такой категорией, как макропредикация. Под макропредикацией понимается последовательность составляющих дискурс предикаций, объединённых за счёт содержащихся в них смыслов в предикацию более высокого порядка. Макропредикация есть «выражение того, о чём говорится в художественном высказывании, в форме одного тезиса» [10: 246]. «Если тема – это то, о чём говорится в высказывании, то макропредикация – это то, что высказывание сообщает о теме. Она имплицитно содержится в монологическом высказывании, предстаёт его концептуальной характеристикой» [там же].
Для иллюстрации своих рассуждений Г.Д. Скнар приводит следующий пример: «Любовь у людей пуганная и с зажмурью: ныряет в сумерки, шмыгает по тёмным углам, шушукает, прячется за занавески и тушит свет» (С. Кржижановский. В зрачке). По её мнению, в данном отрывке содержится метафорическая характеристика любви как «иррационального чувства», и этот тезис является темой высказывания, которая извлекается имплицитным образом. Что касается макропредикации, то она может иметь следующий вид: сложившаяся ситуация чревата негативными последствиями [там же].
С одной стороны, понятие «макропредикация» вполне сопоставимо с представлением о предикации, излагаемом Я. Перегрином, поскольку оно также предполагает наличие субъекта (темы) и предиката (высказывания о теме). Их же совокупность и осмысление и образуют макропредикацию. С другой стороны, несмотря на абстрактный характер предикации, подчёркиваемый Я. Перегрином, макропредикация представляется категорией ещё более высокого уровня абстрагирования, что в значительной мере лишает их сходства.
Помимо лингвистического подхода к феномену предикации, существует также подход логико-философский. Если с точки зрения лингвистики понятие предикации, несомненно, в первую очередь является инструментом описания языковых явлений, то с точки зрения философии главный вопрос состоит в том, что является первичным: предикация или её языковое выражение. Иными словами, заложена ли первоначально предикация в объектах реальности или она является сугубо научным конструктом.
Так, ещё Аристотель в своей работе «Категории» подразделяет всё, что говорится о предмете на то, что «говорится о подлежащем, но не находится ни в каком подлежащем», «находится в подлежащем, но не говорится о каком то подлежащем», «находится в подлежащем и говорится о подлежащем» и, наконец, что «не находится в подлежащем и не говорится о нём» [2]. Иными - 92 - словами, Аристотель видит предикацию не просто как семантическую категорию, но как категорию во многом онтологическую. Это означает, что связь между объектами и их свойствами в реальном мире первична (и происходит независимо от нас), а языковое выражение этой связи вторично.
Подобные взгляды в начале XX века высказывал Б. Рассел, в чьей интерпретации семантика предложений полностью основывается на фактах реальности, которые в свою очередь представляют собой естественное совпадение объектов и их свойств. Однако такая постановка вопроса порождает проблему интерпретации «ложных предикаций», связей между объектами и их свойствами, противоречащими реальности или не существующими в реальности, о которых мы, тем не менее, можем говорить. Поэтому позже философ согласится с необходимостью признания существования так называемых отрицательных фактов, которые также можно назвать фактами потенциальными. То есть помимо «естественной предикации», отражающей факты действительности, существует предикация, которая целиком и полностью зависит от говорящих [13].
С точки зрения И. Канта, предикация представляется в первую очередь явлением, имеющим непосредственное отношение к мыслительной деятельности человека, и только потом получает языковое выражение. Предикация выступает в качестве своеобразного клея, скрепляющего ментальные сущности (субъект и предикат, говоря лингвистически) при образовании суждения. При этом получающаяся в результате такого «склеивания» пропозиция, как неоднократно отмечалось разными учёными, включая Б. Рассела, не равна сумме её компонентов и ускользает от исследователя при попытках анализа, который неизбежно связан с разбором на составные части. Другими словами, в ходе таких рассуждений остро встает проблема единства пропозиции. В философии И. Канта «клей», скрепляющий субъект и предикат в суждении, понимается буквально и получает название трансцендентальной схемы:
«Ясно, что должно существовать нечто третье, однородное, с одной стороны, с категориями, а с другой – с явлениями и делающее возможным применение категорий к явлениям. Это посредствующее представление должно быть чистым (не заключающим в себе ничего эмпирического) и, тем не менее, с одной стороны, интеллектуальным, а с другой – чувственным. Именно такова трансцендентальная схема» [4: 244].
Однако Я. Перегрин считает такое решение проблемы неудовлетворительным, поскольку Кант понимает трансцендентальную схему как некий третий концепт, а не как связь, пронизывающую субъект и предикат и превращающую их в единое целое.
Если рассматривать предикацию с прагматической точки зрения, то большинство логико-философских проблем, имеющих непосредственное отношение к предикации, разрешаются сами собой. Язык в таком случае представляется не как набор условных символов, замещающих объекты реальной действительности, а как набор инструментов, используя которые мы можем непосредственно совершать различные действия. Такое понимание языка было предложено Л. Витгенштейном в его «Философских исследованиях»:
«Представь себе инструменты, лежащие в специальном ящике. Здесь есть молоток, клещи, пила, отвёртка, масштабная линейка, банка с клеем, гвозди и винты. Насколько различны функции этих предметов, настолько различны и функции слов» [3].
Я. Перегрин переносит данную метафору на процесс предикации. Если представить, что субъект это, например, отвёртка, а предикат – шуруп, то предикация это то, что происходит, когда мы используем эти инструменты вместе, например, соединяя между собой две доски [12: 37]. В результате мы получаем предложение – ещё более мощный инструмент для осуществления наших прагматических целей, связанных в основном с взаимодействием, которое мы осуществляем с другими людьми. При этом всё то, что не имеет никакого отношения к самому процессу соединения – наши мысли и чувства в этот момент, наше отношение к описываемой ситуации, – не будет играть никакой существенной роли для понимания самого феномена предикации.
Я. Перегрин также указывает, что согласно такому подходу субъект и предикат, понимаемые как своеобразные инструменты, будут выполнять определённые функции. Ссылаясь на исследования P. Богдана, он указывает, что субъект выполняет функцию направления внимания на некий объект, знакомый или доступный восприятию взаимодействующих сторон, а предикат в свою очередь даёт комментарий по поводу свойств и состояния объекта, адресованный собеседнику. При этом P. Богдан, рассматривавший становление речи у детей, говорит о том, что на первых этапах развития речи можно наблюдать предикацию в её рудиментарной форме – субъект и предикат предстают перед нами в «склееном» виде. Ребёнок использует свои первые слова сразу и для привлечения внимания к объекту, и для выражения отношения к нему, прибегая при этом к средствам невербальной коммуникации, и только на более поздних этапах они окончательно «расклеиваются» [11].
Такой подход к понятию предикации, по мнению Я. Перегрина, снимает множество вопросов. Прежде всего, это вопросы онтологического характера, касающиеся соотношения предикации с объективной реальностью. Сложно отрицать, что за предикацией как лингвистическим феноменом стоят определённые мыслительные процессы, однако, попытки их проследить методом интроспекции не дают однозначных результатов. Если рассматривать предикацию как нечто, имеющее место при использовании языковых «инструментов» для соединения двух разнородных частей в одно целое с сугубо прагматической целью взаимодействия с другими людьми, то этот процесс представляется гораздо менее умозрительным и ускользающим от исследования. Поэтому подобный подход к пониманию предикации, несомненно, представляет определённый интерес.
Список литературы Подход к понятию предикации по Я. Перегрину
- Адмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка. Л.: Наука, 1973. 366 с.
- Аристотель. Категории . URL: http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/kategorii.txt (дата обращения: 06.04.2017).
- Витгенштейн Л. Философские исследования . URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000273/st000.shtml (дата обращения: 06.04.2017).
- Кант И. Критика чистого разума. М.: Наука, 1998. 960 с.
- Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975. 720 с.
- Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 160 с.
- Лингвистический энциклопедический словарь: Предикация/Ю.С. Степанов; под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 393-394.
- Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во МГУ, 1982. 480 с.
- Попова З.Д. Синтаксическая форма как предмет синтаксиса//Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л.: Наука, 1975. С. 109-114.
- Скнар Г.Д. Тема как конституирующий компонент художественного текста: прагматический и когнитивный аспекты: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19. Ростод-на-Дону, 2014. 371 с.
- Bogdan R. Predicative minds. Cambridge: MIT Press, 2009. 156 p.
- Peregrin J. There is no such Thing as Predication . URL: http://jarda.peregrin.cz/mybibl/PDFTxt/573.pdf (дата обращения: 14.01.2017).
- Russel B. Our Knowledge of the External World . URL: https://ia800301.us.archive.org/29/items/ourknowledgeofth005200 mbp/ourknowledgeofth005200mbp.pdf (дата обращения: 31.12.2016).