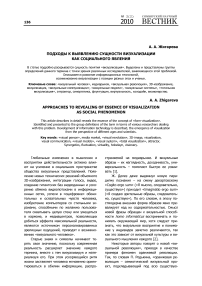Подходы к выявлению сущности визуализации как социального явления
Автор: Жигарева Алина Александровна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (2), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье подробно раскрывается сущность понятия «визуализация». Выделены и представлены группы определений данного термина с точки зрения различных исследователей, занимающихся этой проблемой. Описывается развитие информационных технологий, возникновение визуализации с позиции разных эпох и ученых.
"визуальный человек", медиарынок, "визуальная революция", 3d-изображение, визуализация, "визуальные коммуникации", "визуальные модели", "визуальные системы", "тотальная визуализация", аттрактор, синергетика, флуктуация, виртуальность, холодайн, визионерство
Короткий адрес: https://sciup.org/14113519
IDR: 14113519
Текст научной статьи Подходы к выявлению сущности визуализации как социального явления
Глобальные изменения в мышлении и восприятии действительности активно влияют на усиление в социальном пространстве общества визуальных представлений. Появление новых технических решений объемного 3D-изображения, интеграции голоса, видео, создание гигантских баз видеоданных и ускорение обмена видеопотоками в информационных сетях, успехи в «оцифровке» обонятельных и осязательных чувств человека, изобретение компьютеров со стильными экранами, способными по желанию пользователя охватывать целую стену или умещаться в кармане, и медиацентров, позволяющих добиться эффекта максимальной реальности, являются источником персонализированных зрелищных ощущений, приводят к возникновению «визуального человека».
Старые знаки и символы начинают терять свое значение, поскольку современная реальность расширяет значение каждого термина, вместе с тем визуализируя и материализуя его. При этом ускоряющийся ритм жизни заставляет человека мгновенно ориентироваться в обилии информации, распро- страняемой на медиарынке. И визуальные образы – их наглядность, доходчивость, универсальность – помогают быстро ее усваивать [1].
Ж. Делез даже выдвинул новую парадигму познания – на смену декартовскому «Cogito ergo sum» («Я мыслю, следовательно, существую») приходит «Imaginatio ergo sum» («Я создаю зрительные образы, следовательно, существую»). По его словам, в эпоху постмодерна внешняя форма образов явно превалирует над их содержательностью. Смысл новой фразы обращен к визуальной способности homo informaticus воспринимать и понимать окружающий мир, хотя следует признать, что визуальное восприятие и понимание у индивидов заметно различаются, так как это зависит от визуальной культуры и визуального мышления каждого [2].
Некоторые авторы говорят о новой «визуальной революции», приводя в качестве примера феномен оранжевой революции. Так, по словам П. Родькина, «оранжевая революция – семиотический визуальный проект, подкладывающий под всю существую- щую семиосферу, вне зависимости от политических полярностей, скрытую семиотическую бомбу. Подрывной оранжевый дискурс может быть использован сегодня против любого строя, общества или культуры, которые не будут готовы к современным коммуникативным и перцептуальным вызовам» [3].
Визуализация в самом общем смысле – представление информации в виде оптического (визуального) изображения. Визуализация – относительно новое понятие, основанное на крайне многозначных и близких по смыслу терминах «visual» (от англ. – визуальный, видимый, изобразительный, наглядный, оптический) и «vision» (от англ. – зрение, предвидение, зрелище, видение, мечта, образ, представление, взгляд, изображение), емких и богатых по смыслу. В настоящее время они широко употребляются и скрупулезно исследуются во многих сферах – дизайне, психологии, искусстве, культурологии, теории массовых коммуникаций и теории кино, а также телевидения. Здесь вводятся в оборот термины «визуальные коммуникации», «визуальные модели», «визуальные системы», которые, по мнению ученых, активно воздействуют на массовую культуру, направляя ее по пути чуть ли не «тотальной визуализации».
Поскольку визуализация выступает динамическим и самоорганизующимся процессом, используем для анализа ее изменений методологический инструментарий синергетики. С точки зрения синергетики как комплексного междисциплинарного подхода к исследованию сложных систем, динамика процесса визуализации социального пространства представляет собой движение по траектории развития от одного аттрактора [4] к другому.
Будучи неустойчивой и легкоизменчивой по своей природе визуализация постоянно осуществляет флуктуации (колебания), связанные с указанными выше причинами. При удалении системы от состояния равновесия флуктуации вместо того, чтобы затухать, наоборот, усиливаются и завладевают всей системой, вынуждая ее эволюционировать к новому режиму [5].
При попадании в поле притяжения определенного аттрактора, которым на разных этапах выступают визуально-иконические модели (наскальные рисунки, скульптура, живопись, фотография, кино, телевидение, видео, компьютерная графика), визуализация начинает эволюционировать к этому устойчивому состоянию, строиться по плану, заложенному в аттракторе, т. е. в текущий момент своего развития система определяется ее будущим конечным видом [6].
Моменту перехода визуализации к новому состоянию предшествует приближение к точкам бифуркации [7], в которых система определяется с дальнейшим выбором своего пути. Представляется, что подобными точками бифуркации в отношении визуализации становится создание новых визуальных технологий с присущим их потребителям новым типом восприятия мира («Галактика Гутенберга» – 1440 г.; «Электрическая Галактика» телевидения – 1926 – 1939 гг.; «Галактика Интернет» – 1969 – 1990 гг.). Так, по словам М. Маклюэна: «Когда же капризная изобретательность человека овнешняет какую-то часть его существа в материальной технологии, полностью изменяется соотношение между всеми чувствами человека. Тогда эта часть его существа представляется ему самому, словно закованной в сталь, и глядя на эту новую для себя вещь, он вынужден стать ею… Когда общество заключено в рамки конкретного фиксированного соотношения между чувствами, оно совершенно не способно увидеть то, что выходит за эти рамки» [8].
Однако «воистину поразительно и таинственно, – считает Х. Ортега-и-Гассет, – то тесное внутреннее единство, которое каждая историческая эпоха сохраняет во всех своих проявлениях. Единое вдохновение, один и тот же жизненный стиль пульсируют в искусствах, столь несходных между собою. Не отдавая себе в том отчета, молодой музыкант стремится воспроизвести в звуках в точности те же самые эстетические ценности, что и художник, поэт и драматурги – его современники» [9].
В настоящее время благодаря изобретению новых информационных и коммуникационных технологий визуальный дискурс стал всеобщим. Цифровые вещательные технологии, мобильная видео- (конференц-) связь, теле- и видеопрограммы, олицетворяющие визуальную культуру, стали вездесущими и способствовали превращению мира в «глобальную деревню». В том, что массовые коммуникации преображают мир, сегодня уже никто не сомневается. Национальные и международные системы вещания благодаря цифровым технологиям постепенно, но последовательно и неуклонно превращаются в эффективное средство культурной глобализации.
На наших глазах гиперактивно формируется новый визуальный дискурс будущего (постсовременности), который описывается виртуальным [10] характером своих проявлений. Представляется, что виртуальность – наиболее адекватная характеристика особого постмодернистского состояния как отсутствия единого центра, основы, на которую можно опереться, неуверенности в границах и определенностях реального, смыслового, культурного, острого осознания их необязательности, призрачности и симулятивности, а также необходимости постоянно пересматривать эти пределы. Визуально-виртуальные 3D-модели дизайнеров, виртуальное общение в Интернете, эффект присутствия и сопричастности зрителя в выпусках теленовостей, рядоположенное и последовательно реализуемое в одном визуальном пространстве множество разнотипных по месту, времени и сути событий существуют только в рамках сложноорганизованных коммуникаций и именно это придает им статус фактического и реального, но именно это делает их виртуальными, т. е. реально не присутствующими.
Существенной особенностью виртуальности визуального дискурса, основанного на небывалом ранее механизме генерирования знаков и их качественных характеристик, является открытая среда композицирования и редактирования образов-текстов (телевидение, Интернет) как в плане подвижности и возвратности-обратимости текстопорожде-ния, интеграции в конечном продукте различных типов текстов (визуальных, аудиаль-ных, интерактивных), так и в плане совершенно иного подхода к качеству знака [11].
В качестве примера симбиоза технологий телевидения и Интернета можно назвать «гуглотелевизор» – продукт компаний Sony и поисковой системы Google – домашний телевизор как медиацентр для всех визуальных и компьютерных домашних устройств, который, помимо отбора и просмотра колоссального набора программ, позволяет путешествовать по Сети, просматривать видеоклипы на YouTube и фотографии на Google Picasa, при- нимать передачи телевидения высокой четкости.
В этих условиях необходимо определить, что же представляет собой явление визуализации. При этом следует учитывать всю мно-гослойность, неявность и даже определенную сокрытость от непосвященного глаза данного феномена.
Понятие визуализации имеет множество значений, среди которых для выявления его сущности необходимо выделить разные контексты его применения и в соответствии с этим обозначить различные группы определений визуализации: гносеологическую, семиотическую, культурно-эстетическую, психологическую, техническо-информационную, паранаучную и др.
Техническо-информационные определения визуализации акцентируют внимание на технологической стороне визуального восприятия. Так, по мнению социолога Ю. М. Пло-тинского, визуализация информации – представление числовой и текстовой информации с использованием современных компьютерных технологий в виде графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т. д. [12]
Визуализация, считает Д. Берн, – процесс создания изображения, представляющего реалистичную сцену или новый изобразительный стиль, сформированного с помощью различных технологий: киносъемки под определенным освещением, создания экспозиции (оптических эффектов) и композиции (постановочных эффектов), последующей компьютерной обработки (коррекции цвета, текстуры, имитации) и компоновки (монтажа) с помощью соответствующего программного обеспечения [13].
Гносеологические определения визуализации представлены аналитиками киноискусства Р. Археймом и З. Кракауэром. Так, Р. Архейм представлял визуализацию как особую образную форму отражения реальности, которая устанавливает непривычные и невероятные сочетания предметов и их свойств и осуществляется на основе преобразования образов восприятия в образы-представления. Синтез впечатлений, согласованность с оценкой, качественные изменения последовательности движения глаз, видение мира в новых формах, мысленное представление и комбинирование пространственных форм и отношений формируют в сознании своеоб- разные эталоны восприятия образов реальности в формах самой реальности [14].
З. Кракауэр полагает, что визуализация является результатом развития аналитического подхода к действительности, стремления мумифицировать неразрывность пространства и времени, изменить протяженность и длительность зрелищной формы. Разрушение хронотопов традиционной культуры расширило пространство коммуникации. Визуализация посредством кино актуализировало то, что перестало замечаться и стало как бы незнакомым [15].
К культурно-эстетическим определениям следует отнести теорию К. Э. Разлогова, полагающего, что визуализация – проявление становящейся экранной культуры, синтеза компьютера с видеотехникой, средств связи и каналов передачи информации, образующих в совокупности информационный космос экранной культуры – принципиально новой парадигмы коммуникации между людьми [16].
Семиотическое определение визуализации принадлежит Ю. М. Лотману и представлено творческим отображением искусством мира с превращением его образов в икониче-ские (зрелищные) знаки, с насыщением мира значениями, с приобретением ценности информации. Знаки не могут не иметь значения, не нести информации. Поэтому то, что в объекте обусловлено автоматизмом связей материального мира, в искусстве становится результатом свободного выбора художника и тем самым приобретает ценность информации [17].
Психологическое определение визуализации представлено В. Вульфом, который является автором холодинамики (от англ. the whole dinamic – динамика целого, сила целого в действии), юнгианской психологической методики, близкой к визуализации. Холодайн – это трехмерная голографическая мысле-форма, поле сознания, обладающее силой. «Холодайн – обычное переживание. Мы называем такой процесс «воспоминанием», «мечтами наяву», «воображением». Однако по существу это – невероятное событие. Нечто из призрачного прошлого или будущего неожиданно появляется в вашем сознании, воздействуя на вас. Один из способов получить доступ к холодайну – ощутить его, затем внутренне сконцентрироваться на этом чувстве и придать ему такие визуальные качест- ва, как цвет и форма. Можно также позволить ему вступить в общение с вами» [18].
Ощущение присутствия холодайна индивидуально для каждого. Некоторые люди без особого труда используют свое воображение, видят образы. Другим проще услышать внутренние звуки, голоса. Третьи обладают большими способностями чувствовать, ощущать нечто внутри себя. Для доступа к своим холодайнам хорош любой из этих методов. Независимо от того, воспринимаете ли вы их или нет, холодайны присутствуют в вашем подсознании, активно влияя на вашу жизнь. Это то, что определяет наши поступки и формирует, конструирует доступную нашему восприятию реальность.
К паранаучному определению визуализации следует отнести позицию Ш. Гавайн, которая утверждает, что визуализация является таким способом использования воображения, который позволяет создавать то, чего вы желаете. Это естественная мощь вашего воображения, первичная созидательная энергия космоса, которой вы сознательно или неосознанно постоянно пользуетесь [19]. Визуализация – это волшебное рисование перед внутренним взором любой картины. И эта картина становится для вас живой, она динамична и объемна, в ней могут быть звуки и запахи. Это значит, что мысль, как направленный сгусток энергии, может воздействовать на все, что происходит в этом мире. То есть мысль способна творить. Для того чтобы мечты стали реальностью, необходимо быть уверенным в том, что они сбудутся, и придерживаться некоторых правил визуализации.
Паранаучное определение тесно связано и с феноменом визионерства (от фр. visionnaire – видение), при котором, по мнению одних ученых, человек (визионер) страдает галлюцинациями, которые при мистической настроенности нередко истолковываются как способность видеть сверхъестественные явления [20]. По мнению других мыслителей, визионер – это тот, у кого бывают спонтанно возникающие видения – образы и картины, воспринимаемые как объективно реальные, но не имеющие каких-либо конкретных материальных носителей в нашем мире. Свои видения визионер интерпретирует как приходящие свыше или с иных планов бытия, поскольку сам он не является их инициатором и не может своей волей их контро- лировать. Другими словами, он выступает ясновидцем и прорицателем [21].
Однако следует учитывать, по мнению А. А. Гостева, православный опыт, согласно которому образы способны быть инструментом для того, чтобы войти в духовные и «высокие душевные» состояния. Общая же установка православной святоотеческой традиции заключается в осторожном отношении к образам. Создание мысленных «божественных картин» опасно для развития духа:
-
– определенной неискренностью;
-
– «самоуспокоительным лукавством»;
-
– вероятностью эмоциональной экзальтации и привязки к духовно благодатным состояниям;
-
– невозможностью использовать образы во время молитвы [22].
Человек начинает мнить себя созерцателем божественных тайн и, по сути, «творить» Бога по своему разумению. Визионерство, таким образом, выступает ложной духовностью, горделивым мнением о себе, своем духовном совершенстве, обусловленном желанием духовных дарований, переживаний. В том, что человек в этом состоянии теряет способность сознавать свое заблуждение, заключается особенный вред «прелести»: образ кажется «естественным» и «святым» [23].
Манипулятивное определение принадлежит В. М. Розину, который утверждает, что визуализация означает употребление визуальной информации с целью управления или воздействия на сознание, чувства и поведение человека. Это явление широко распространено в современной культуре. Политики в государственной и частной сферах жизни сегодня понимают, что визуальные системы и произведения – плакат, реклама, одежда, внешний облик машин и предметов обихода, интерьер и экстерьер, газеты, журналы, кино и телевидение, произведения искусства являются достаточно эффективными средствами формирования установок, симпатий и антипатий человека, влияют на принятие им решений, на выбор и ценностные ориентации, на мироощущение, настроение, чувства и эмоции. При этом предполагается, что визуальные средства, в отличие от вербальных или интеллектуальных (слово, понятия, теории), позволяют человеку практически мгновенно воспринимать запрограммированное воздействие (хотя сработать оно может зна- чительно позднее), причем это воздействие является и более глубоким, поскольку визуальные системы влияют не только на интеллект, но и на эмоционально-чувственный базис человека [24].
Таким образом, под визуализацией следует понимать воплощение мысленного представления, идеи в виде изображения, придание зримой формы любому мыслимому объекту, процессу, явлению, как реально существующим, так и созданным в сознании, основанные на способности сознания видеть предметы в образах, активно влияющей на различные аспекты жизни социума.
Исходя из сказанного, следует полагать, что визуализация сегодня становится полем дискурсопорождения, источником самых разнообразных визуальных образований, отличающихся огромной коммуникативной интенсивностью, действующей во всем объеме пространства-времени, продуцирующей и транслирующей огромное количество сообщений, которые активно воздействуют на общественные процессы.
-
1. Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М., 2009. С. 217.
-
2. Карцев И. Жиль Делез. Введение в постмодернизм. Философия как эстетическая имаги-нация. М., 2005. С. 115.
-
3. Родькин П. Оранжевая визуальная революция. Фирменные стили против символических систем. Эскалация дизайна и эскалация власти. М., 2005.
-
4. Аттракторы (англ. attract – привлекать, притягивать) – реальные структуры в пространстве и времени, на которые выходят процессы самоорганизации в открытых нелинейных средах. Структуры-аттракторы выглядят как цели эволюции. В качестве таких целей могут выступать различные типы структур, имеющих симметричную, правильную архитектуру и возбуждаемых в среде в некотором смысле резонансно.
-
5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 194-195.
-
6. См.: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М., 1994. С. 143.
-
7. Точка бифуркации (от лат. bifurcus – раздвоенный) – место разветвления путей эволюции открытой нелинейной системы, в котором осуществляется выбор дальнейшего направления ее развития.
-
8. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: сотворение человека печатной культуры. Киев, 2004. С. 386-387.
-
9. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 1991.
-
10. Виртуальный (от лат. virtualis – возможный) буквально означает «фактический», «действительный», происходящий на самом деле. Тем не менее данный термин имеет крайне противоречивый амбивалентный характер и означает то, что предмет или явление существует не на самом деле, является «не реальным», «не актуальным», имеет статус «как бы» существования.
-
11. Галкин Д. Виртуальный дискурс в культуре постмодерна // Критика и семиотика. 2000. Вып. 1-2. С. 26-34.
-
12. Плотинский Ю. М. Визуализация информации. М., 1994.
-
13. Берн Д. Цифровое освещение и визуализация. М., 2003. С. 21-22.
-
14. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
-
15. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
-
16. Новые аудиовизуальные технологии. Введение в экранную культуру / отв. ред. К. Э. Разлогов. М., 2005.
-
17. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973.
-
18. Вульф В. Холодинамика. Вся сила в действии. М., 1995. 190 с.
-
19. Гавайн Ш. Созидающая визуализация. М., 2007.
-
20. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1.
-
21. Василенко Л. И. Краткий религиозно-философский словарь. М., 2000.
-
22. Гостев А. А. Духовное «трезвение» как неотъемлемый компонент духовного познания: постановка проблемы // Индивидуальный и групповой субъекты в изменяющемся обществе. М., 1999. С. 45.
-
23. Там же. С. 46.
-
24. Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М., 2006. С. 27.
Список литературы Подходы к выявлению сущности визуализации как социального явления
- Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М., 2009. С. 217.
- Карцев И. Жиль Делез. Введение в постмодернизм. Философия как эстетическая имагинация. М., 2005. С. 115.
- Родькин П. Оранжевая визуальная революция. Фирменные стили против символических систем. Эскалация дизайна и эскалация власти. М., 2005.
- Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 194-195.
- Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М., 1994. С. 143.
- Маклюэн М. Галактика Гутенберга: сотворение человека печатной культуры. Киев, 2004. С. 386-387.
- Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 1991.
- Галкин Д. Виртуальный дискурс в культуре постмодерна//Критика и семиотика. 2000. Вып. 1-2. С. 26-34.
- Плотинский Ю. М. Визуализация информации. М., 1994.
- Берн Д. Цифровое освещение и визуализация. М., 2003. С. 21-22.
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
- Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
- Новые аудиовизуальные технологии. Введение в экранную культуру/отв. ред. К. Э. Разлогов. М., 2005.
- Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973.
- Вульф В. Холодинамика. Вся сила в действии. М., 1995. 190 с.
- Гавайн Ш. Созидающая визуализация. М., 2007. 20. Толковый словарь русского языка: в 4 т./под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1.
- Василенко Л. И. Краткий религиозно-философский словарь. М., 2000.
- Гостев А. А. Духовное «трезвение» как неотъемлемый компонент духовного познания: постановка проблемы//Индивидуальный и групповой субъекты в изменяющемся обществе. М., 1999. С. 45.
- Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М., 2006. С. 27.