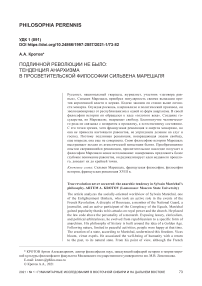Подлинной революции не было: тенденция анархизма в просветительской философии Сильвена Марешаля
Автор: Кротов Артем Александрович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
Руссоист, национальный гвардеец, журналист, участник «заговора равных», Сильвен Марешаль приобрел популярность своими выпадами против королевской власти и церкви. Кодекс законов он ставил выше личности монарха. Осуждая роскошь, клерикализм и политический произвол, он эволюционировал от республиканизма к одной из форм анархизма. В своей философии истории он обращался к идее «золотого века». Создание государства, по Марешалю, подрывает свободу. Благополучие человеческого рода он связывал с возвратом к прошлому, к естественному состоянию. С его точки зрения, хотя французская революция и свергла монархию, но она не принесла настоящего равенства, не упразднила деление на слуг и господ. Поэтому подлинная революция, возвращающая людям свободу, еще впереди, она еще не совершена. Свою философию истории Марешаль выстраивает исходя из атеистической концепции бытия. Преобразованное опытом свершившейся революции, просветительское наследие получает в философии Марешаля новое истолкование: намереваясь предложить более глубокое понимание равенства, он радикализирует идеи недавнего прошлого, доводит их до крайней точки.
Сильвен Марешаль, французская философия, философия истории, французская революция xVIII в.
Короткий адрес: https://sciup.org/170175976
IDR: 170175976 | УДК: 1 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-1/73-82
Текст научной статьи Подлинной революции не было: тенденция анархизма в просветительской философии Сильвена Марешаля
Анархизм как политическое течение сформировался в XIX столетии, но его теоретические истоки восходят к более ранним временам. Особое значение в этом плане принадлежит концепции мыслителя, выступившего продолжателем традиции, заложенной классиками французского Просвещения. Философское творчество Сильвена Марешаля (1750–1803) неотделимо от истории французской революции XVIII в. Исследователи нередко относят его к представителям «младшего поколения» французских материалистов. Но значение его идей не может быть сведено к приведенному абстрактному положению. Обращение к его философии истории не только подтверждает тезис о многоаспектно-сти просветительского наследия, но и способствует уточнению представлений о роли этого наследия в политических событиях рубежа XVIII–XIX вв.
Марешаль родился в семье парижского виноторговца. В коллеже он познакомился с классической литературой. Особое восхищение у него вызывал Плутарх. Вопреки желанию отца, Марешаль не стал его преемником по профессии, обратившись к изучению права. Но карьера адвоката его не увлекает. Смысл своей жизни он видит в литературном творчестве. В первых поэтических сборниках Марешаля доминирует любовная тематика. Нуждаясь в деньгах, он принимает предложение поступить служащим в библиотеку Мазарини. Отмечаемая современниками эрудиция Марешаля связана с открывшейся для него возможностью регулярно пользоваться богатым книгохранилищем. Нередко он задерживался после ухода читателей. Обдумывая прочитанное, он постепенно приходит к отрицанию религиозной веры. В книгах находит он подтверждение правомерности 74
свершившейся в его сознании мировоззренческой перемены. Его кумиром становится Руссо. С восторгом он встречает французскую революцию XVIII в., вступает в национальную гвардию. С 1790 г. Марешаль публикует многочисленные статьи в еженедельной газете «Парижские революции», издаваемой Прюдоммом. Он выступает с критикой политики королевского двора, противопоставляет интересы народы и монарха. Высказывает он обвинения и в адрес священнослужителей. Марешаль сближается с Шометтом, пишет революционные пьесы, самая известная из которых – «Страшный суд над королями» – была отмечена комитетом общественного спасения как исключительно полезная для воспитания умов в республиканском духе. На заседании комитета, состоявшемся 14 ноября 1793 г., было принято решение заказать для распространения три тысячи экземпляров пьесы. Кроме того, в пропагандистских целях шесть тысяч экземпляров были заказаны военным министерством. Помимо парижского театра Республики, пьеса была представлена публике на сценах Гренобля, Меца, Лилля, Руана и других городов. Сентекс в якобинском клубе призывал в январе 1794 г. отметить годовщину казни Людовика XVI постановкой пьесы на всех парижских сценах. В 1793 г. Марешаль знакомится с Бабёфом, который, обращаясь к нему за помощью, пишет о своем бедственном положении. Бабёф ссылается на тексты Марешаля, свидетельствующие о патриотизме их автора, который наверняка не отвергнет просьбы нуждающегося. Действительно, благодаря дружеским отношениям с Шометтом, Марешаль помог Бабёфу найти работу. Впоследствии Марешаль становится участником заговора «равных», возглавляемого Бабёфом. «10 жер- миналя IV года (30 марта 1796) был образован повстанческий комитет, куда вошли с Бабёфом Антонель, Буонарроти, Дарте, Феликс Лепелетье и Сильвен Марешаль» [11, p. 453]. По доносу Жоржа Гризеля главные заговорщики были схвачены полицией, но Марешаль избежал ареста. Бабёф не выдал своего друга. Молчали и остальные. Гризель, вероятно, видел Марешаля на одном из заседаний тайной директории, он упоминал о человеке, которого ему не представили [6, p. 301]. Предатель не смог установить личность незнакомца, что позволило философу сохранить свободу. В последующие годы своей жизни Марешаль работает над философскими текстами, публикует открытое письмо Бонапарту, сохраняя желание оказывать влияние на ход политических событий. Последние свои дни, глубоко больной, он провел в Монруже.
«Книга для всех возрастов, или современный Пибрак» (1779) в поэтической форме выражает социальную позицию Марешаля. Катрены он сопровождает комментариями в прозе. Автор заявляет о намерении изобразить добродетель как о главной цели своего произведения. Добродетель, по его мнению, не требует определений. Она постигается человеком в глубине сердца, проявляется в поступках. Настоящее достоинство не выпрашивает милостей; оно совсем не совпадает с принятой лестницей рангов. Напрасно было бы его искать у тех лиц, которые в волнении ожидают утреннего выхода государя. Те, кто в стремлении возвыситься обивает пороги дворца, подобны «эфемерным насекомым», все существование которых зависит от утреннего луча солнца. Марешаль в «Книге для всех возрастов» не склонен ставить под сомнение понятие собственности. Она «служит основой законам общества», «священна даже для королей», важна для социального равновесия [7, p. 9]. Добрые нравы Марешаль уподобляет плащу, необходимому для путешествия «по дороге жизни». Это уникальный плащ, известный всем народам, пригодный к использованию во всякое время года, в любом возрасте. Счастье народов зависит, прежде всего, от их нравов.
Согласно Марешалю, лишь две книги – природы и человеческого сердца – написаны на универсальном языке. К ним следует прислушиваться, искать в них настоящую мудрость. Но их надо уметь читать: эти книги можно найти всюду, однако нелегко разобрать их буквы. Чтению мешают страсти; надлежит сохранять ясный разум, чтобы понять их глубину. «Знания этих двух Книг может хватить, чтобы оценить все остальные и даже чтобы обойтись без них. Чем больше от них удаляются, тем больше сбиваются с пути» [7, p. 22].
Марешаль настаивал на том, что золотой век в истории человечества – отнюдь не вымысел, и это положение, на его взгляд, находит свое подтверждение в сердцах всех честных людей. Труд в его понимании – «хранитель нравов, друг здоровью»; «трудящийся человек редко бывает злым», «труд должен быть основой хорошего воспитания» [7, p. 83]. Роскошь губительна и для отдельного человека, и для государства в целом. «Человек носит в себе зародыш всех добродетелей и всех талантов. Но одна только необходимость может развить этот зародыш» [7, p. 155]. Нередко неблагоприятные условия жизни, нищета, развивают в человеке настойчивость, смелость, одаренность. Случается и так, что изобилие рождает изнеженность, вялость, апатию.
Марешаль выступает приверженцем антиклерикализма и критиком деспотизма. Имеются все основания считать его в предреволюционный период сторонником республиканской формы правления.
«Поправка к революции» (1793) – своеобразный манифест, в котором философ выразил свое понимание современной ему эпохи в ее отношении к прошлому и будущему. Он говорит о деспотизме как давящей на людей, угнетающей их силе. По Марешалю, существует три вида деспотизма: одного лица, нескольких, всех. В последнем случае подразумевается «состояние насилия», социальное беззаконие, непрерывный раздор, который не может продолжаться слишком долго. Легче всего уничтожить деспотизм одного: об этом, согласно Марешалю, свидетельствует сама история, жизненный путь Цезаря, Карла I, Людовика XVI. Сложнее победить деспотизм нескольких, но и его возможно обуздать законами. Деспотизм и свобода несовместимы. Она присуща, по мнению автора «Поправки», отношениям людей внутри «изолированной семьи», управляемой самым старшим. Это система патриархального управления, выступающая идеалом для поэта революционного времени. По сути, перед нами уже не республиканский, а анархистский идеал. Государственное устройство, гражданское общество губит свободу. Само его происхождение – «порочно». Его основателем был беспринципный честолюбец, «дитя преступления», внушившее людям ради собственной выгоды ложные представления о необходимости больших объединений. Историю человечества Марешаль уподобляет движению реки: истоки ее чисты и неторопливы, но затем ее воды бурно обрушиваются в океан. Первоначально люди следовали законам природы, ограниченные семейным бытом, мирно вели домашнее хозяйство, чувствовали себя счастливыми. Они никогда не были одиноки. Но теперь они проживают в пределах обширных царств и, чуждые друг другу, находятся в постоянной борьбе. Человек рождается в семье и предназначен именно для частной жизни. В политическом обществе он оказывается подобно заключенному в тюрьме. Марешаль «с болью» констатирует, что патриархальное управление сменяется в истории чудовищным, абсурдным и незаконным строем. Его символом служит королевский скипетр.
Ссылаясь на Ньютона, Марешаль говорит о равновесии центробежной и центростреми- тельной силы в природе. Аналогичный принцип действия и противодействия он призывает применить к политике. «Человек родился наделенный разом свободой и общительностью» [8, р. 9]. Законодателям не удалось сохранить необходимое равновесие между двумя главными силами, приводящими в движение человеческий род. В результате права человека принесли в жертву его обязанностям. Сложилась возмутительная и несправедливая ситуация. Как только человека убедили признать иную власть, помимо отцовской, «все было потеряно». Возник «диссонанс», откуда проистекают все несчастья, сопряженные с гражданским обществом.
«Нельзя служить двум господам одновременно: или природа, или общество! Нужно выбирать». По Марешалю, этот выбор не слишком сложный: «Человек исчерпал все возможные формы правления. Пришло время, чтобы он возвратился к тому пункту, из которого отправился в путь» [8, p. 12]. Возврат к природе мыслится как возврат к добродетели. Таков для человека единственный способ достичь подлинного счастья. Люди должны, наконец, осознать, что по-настоящему они были счастливы только в те времена, когда все законы для них сводились к отеческим распоряжениям, а всякий культ выражался в сыновней любви. Позднее им лицемерно внушили, что они должны обращать взоры к небесам, дабы вернее подготовить их порабощение на земле. Что же до отеческой власти, то она отнюдь не прообраз тирании; каждый родитель в силу долга и инстинкта является главным защитником своих детей. Жизнь в гражданском обществе неверно истолковывать как предназначение человека. Прежде всего потому, что такого рода общество не может считаться созданием природы. Поскольку способы действия природы всегда просты, чужды принципу умножения сущностей, можно предположить, что патриархальный строй наиболее подходит человеку. Разрастание социального круга, его структурное усложнение не соответствует естественному порядку достижения целей кратчайшим путем. Природа, вечно экономная в своих средствах, открыла людям путь к счастью, задолго до появления гражданского общества. Оно, следовательно, излишне.
В социальной иерархии человек занимает место по большей части вследствие обстоятельств, которые не имеют отношения к его личным качествам. Пороки скрываются, добродетелью нередко пренебрегают, взаимная борьба рожда- ет неустойчивость и удаляет от счастья, которое обретается только в гармонии. Отклоняясь от природы, человек заключает себя в большие «позолоченные тюрьмы» (города). О мегаполисах Марешаль призывает судить не по блестящим представлениям, развлекающим публику, а по жизни большинства их обитателей, по предместьям, больницам, рынкам. Тем, кто склонен рассуждать о преимуществах гражданского общества, Марешаль решительно возражает ссылкой на немногочисленность людей, способных воспользоваться ими. Общество делает людей жадными, завистливыми, эгоистичными. «В обществе, как в рукопашной схватке. Каждый сам за себя. Спасайся, кто может» [8, p. 41]. Люди становятся нечувствительными к страданиям ближних. Войны между государствами воспитывают у них жестокость. Естественной родиной человека должна быть его семья. Никто из людей не рождается злым. Тщетно льстецы пытались уверить людей, будто монарх по отношению к ним играет роль заботливого отца. Все это выглядит красиво лишь в теории, на деле же народ и король всегда чувствуют взаимную антипатию. Неприязнь естественна, когда стремление к свободе не может быть реализовано. Рабское подчинение себе подобному не может удовлетворять человека, всегда будет вызывать неизбежный протест. Настоящие мудрецы чувствуют себя чуждыми гражданскому обществу, отсюда их мечты о лучшем мире, о необходимости изменить отношения между людьми.
Поскольку характеры людей разнообразны, установить на земле подходящее для всех политическое устройство, согласно Марешалю, невозможно в принципе. Общественный договор потребовал бы исключений для каждого участника, потому для жизни людей вполне достаточно «семейного договора». Жить следует для себя, а не ради общественной репутации. Политическое общество существовало не всегда, оно представляет собой некоторый переходный этап на пути человечества к совершенству. В основе совместного бытия людей должно лежать доверие, но ни один политический режим не может его обеспечить. Ибо каждая форма правления порождает постоянную борьбу между гражданами государства. Мораль не требует многотомных трактатов, она столь же естественна для человека, как способность есть и спать. От природы никто не предназначен к роли слуги или господина, выборщика или депутата. Безграничное, безначальное существо- вание Вселенной, всегда равной себе в своей сущности, с несомненностью свидетельствует, что лишь один способ организации человеческого бытия пригоден для достижения счастья. Он подсказан людям самой природой, не следует чрезмерно запутывать этот вопрос. Рождаясь на свет, человек уже готов к семейной жизни, сразу же включен в нее.
Французская революция, замечает Марешаль, породила как энтузиастов, так и недовольных. Она нуждается в корректировке, ибо не сделала людей ни лучше, ни счастливее. Она нуждается в своем продолжении. «Революция не совершена; так как она еще пока только в умах… Мы бросили в огонь скипетр королевской власти, ферулу духовенства и грамоты дворянства. Очень хорошо. Но революция пока еще только на словах, и вся в теории. Она не существует пока еще в действительности. Свобода человека, равенство, предмет желаний всех патриотов, права человека, обязанности гражданина; мы хорошо знаем все это… мы не управляем нашим поведением и нашими привычками с помощью наших принципов» [8, p. 306–307]. Несоответствие теории и реальности философ видит в сохранении социальной несправедливости. С его точки зрения, ситуация была улучшена, но все еще не исправлена должным образом. «В двух словах: пока будут слуги и хозяева, бедные и богатые; пока люди будут народом: нет свободы! Нет равенства! Революция нисколько не совершена» [8, p. 307].
Человеческий род должен возвратиться к счастливому для него патриархальному строю. Ибо то, что существовало однажды в природе, легко может возникнуть вновь.
В пьесе «Страшный суд над королями» (1793) Марешаль аллегорически изображает будущую судьбу монархов. В «обращении автора» к зрителям он замечает, что в прошлом в угоду королям и их слугам, ради их развлечения, в театрах «унижали» и «высмеивали» разные слои народа. Теперь настал черед для народного смеха. Среди персонажей – повелитель Священной римской империи, российская императрица, неаполитанский король, римский папа, короли Англии, Испании, Пруссии, Польши, Сардинии. Отсутствует король Франции, но публике это понятно – он уже казнен народом. Действие происходит на некоем уединенном острове. Двадцать лет старик, гражданин Франции, отбывает на нем наказание, несправедливо наложенное по приказу коронованного деспота. Прибывают санкюлоты, представляющие различные народы Европы, они ищут подходящее место для депортации бывших владык мира. Осматривая остров, они встречают старика, не сломленного испытаниями, сохраняющего верность идеалам равенства и свободы. Санкюлоты освобождают его и торжественно сообщают о том, что вся Европа сделалась республиканской, следуя примеру Франции. В пьесе подчеркивается, что «санкюлот – свободный человек, истинный патриот. Масса подлинного народа, всегда добрая, всегда здравая, состоит из санкюлотов» [9, р. 11]. Именно они – честные граждане, любящие труд, преданные друзья. Они, наконец, восстали против привилегированных «паразитов», долгое время использовавших народ в своих эгоистических интересах как слепое орудие. Они свергли иго всех аристократов, священников, королей. Тираны, оказавшиеся на острове без своих слуг, устраивают свалку из-за случайно сохранившегося куска хлеба у одного из них. Санкюлоты, ненадолго возвратившись перед отъездом, снабжают королей пищей. Те вновь вступают в борьбу друг с другом за более жирный кусок. Начинается извержение вулкана: сама природа выносит приговор деспотам, которые гибнут в охватившем их огне, проваливаясь в недра земли.
Сочинение «Французский Лукреций» (1797) – одно из центральных в философском творчестве Марешаля. В этой работе он изла- гает свое атеистическое учение о бытии, тесно связанное с его пониманием истории. Заметим, что, развивая свою аргументацию, он находится в сильной зависимости от доводов, почерпнутых в «Завещании» Жана Мелье. Марешаль заявляет об отсутствии надежных доказательств бытия Бога. Между тем, если бы создатель Вселенной существовал, убедиться в его наличии можно было бы повсюду. Напротив, «все опровергает» тезис о его присутствии. Ссылки на то, что материя якобы не обладает способностью к движению и нуждается в Творце, несостоятельны. Ведь если из рассмотрения свойств Вселенной выводится утверждение о ее сотворенности, то же самое рассуждение следует применить и к ее предполагаемому создателю. Тогда нужно признать, что и он когда-то был сотворен. Избежать подобной непоследовательности, согласно Марешалю, возможно лишь приняв учение о самодвижении материи. Для существования Вселенной вполне достаточно имеющейся в ней энергии, она не нуждается во внешнем двигателе. Материя бездеятельна и пассивна только на взгляд тех, кто не пытался ее изучать. Она находится в постоянном развитии, порождает разнообразные формы, в ней обнаруживаются и родственные движения, и противоположные. В ней нет ни полного уничтожения, ни возникновения из ничего. Материя – «причина самой себя». Она пребывает вечно. Выйти за ее пределы невозможно; там ничего не существует. Предположение о наличии Бога делает природу необъяснимой. Она становится загадочной, попытки натолкнуться в ее явлениях на создателя лишь порождают неразрешимые сомнения. Очевидно, Творец «боится обнаружить себя».
Еще один аргумент касается проблемы существования зла. Оно, по Марешалю, несовместимо с тезисом о бытии всемогущего Бога. Ведь благой Творец, несомненно, позаботился бы о своих созданиях. На земле царил бы золотой век. Бытие едино, признанием существования Творца миру неправомерно приписывались бы дуалистические черты. Обращение к Богу как причине Вселенной аналогично исканию начала окружности. Более того, если бы Бог реально существовал, народы земли давно приняли бы всеобщий культ, относительно которого не оставалось бы разногласий. Сохранилась бы только одна религия. Само знание о Боге вызывало бы так же мало споров, как положения геометрии. Учение о загробном воздаянии и царящей в потустороннем мире справедливости казалось Марешалю противоречащим здравому смыслу. Ибо для чего всемогущему создателю потребовалось бы попустительствовать мучениям и преступлениям, претерпеваемым и совершаемым людьми в земной жизни? Мудрее было бы их предотвратить. Религии Марешаль противопоставляет добродетель: «Мой разум – основа моего поведения, а мое сердце – мой закон. Мне столь же мало нужен бог, как я – ему» [3, с. 61]. Добродетель – основа истинного бессмертия, которое заключено в памяти благодарных потомков. Иного человеку не дано, ибо, будучи материальным, он не может избежать своего разрушения. Тело погибает одновременно вместе с душой.
Религия, по мысли философа, не делает людей счастливее. Она не предотвращает зла и «бесполезна» для верующих. Священники должны лишиться возможности оказывать влияние на политическую жизнь. Марешаль призывает «заклеймить» их как живущих за счет проповеди заблуждений. По его мнению, именем Бога в прошлом освящались многочисленные преступления, поэтому добродетель он связывает с атеизмом. Он допускает закрепление за понятием Бога «символического обозначения Вселенной». Религиозные учения, согласно Марешалю, изобретены обманщиками, прикрывавшими ими свои преступления. Религия и политика, выступая в союзе, подчинили себе людей. Короли, опираясь на религию, творили преступления, вовлекали народы в кровавые войны, навязывали им тиранию. Ссылаясь на Бога, на земле утвердили несправедливые законы. Некогда в древности люди были равны, строили общие совместные жилища. Научившись у хищных зверей, самый сильный присвоил себе власть, сделался тираном. Честолюбие побуждало его подчинить себе остальных. Чтобы заставить недовольных соблюдать введенные им законы, он выдумал богов, ссылаясь на непонятные, ужасающие людей явления природы. Страх закрепил эту выдумку, способствовал укоренению религии. В дальнейшем она стала служить оправданием прихотям властителей, их неограниченному произволу и преступлениям. Учение о необходимости руководствоваться верой ограничивало разум и использовалось в интересах обманщиков.
В работе «Поправка к славе Бонапарта» (1797) Марешаль заявляет о своем намерении публично высказать генералу истину, которую никто больше не решается провозгласить.
Это пространное открытое письмо Наполеону одновременно и оценка сложившейся в Европе политической ситуации, и своеобразное пророчество. В свою философию истории он включает личность Наполеона, прогнозирует его последующие поступки, взвешивает будущее в связи с их возможными последствиями. В сущности, он видит в этом контексте два сценария развития событий: либо выдающийся генерал присоединиться к лагерю деспотов и тем самым замедлит движение человечества к свободе, либо встанет на сторону санкюлотов и приблизит землю к золотому веку.
Марешаль не отрицает наличия выдающихся качеств у командующего итальянской армией. Признает он и справедливость звучащих в его адрес похвал. «Конечно! Ты нисколько не обычный человек»; «Ты умеешь сражаться и побеждать, ты умеешь писать и вести переговоры. Вся Европа восхищается тобой и страшится тебя; народы простирают к тебе руки; и короли у твоих ног» [10, р. 3, 5]. Согласно Марешалю, именно Наполеону выпала чрезвычайно благоприятная, вместе с тем и крайне редкая в истории возможность совершить великие деяния на пользу человечества. Смог ли он ею воспользоваться должным образом? Ответ философа негативен. Обладая редким гением, генерал распорядился огромными, попавшими в его распоряжение ресурсами отнюдь не так, как следовало великому человеку. Выдвигая череду упреков в адрес Бонапарта, Марешаль и преувеличивает боевую мощь армии, находившейся под командованием генерала (ее количественный состав), и довольно легковесно, по существу, сугубо умозрительно, судит о соотношении военных сил в Европе. Находясь «у ворот» Рима, Наполеон, по выражению Марешаля, «не соизволил» в него войти. Между тем ему надлежало, поднявшись на Капитолий, «обратить в пыль эту древнюю теократию», ужаснейшую среди деспотий, опору суеверия и фанатизма. В оправдание генерала скажут, что он так действовал ради спасения армии. Но это – жалкая, банальная отговорка, недостойная Бонапарта. Еще более существенный промах – отказ от захвата Вены. Мир следовало продиктовать в австрийской столице, добившись бескорыстного воссоздания разрезанной на куски Польши. Разве победитель Вурмзера мог страшиться эрцгерцога Карла или недооценивать собственные силы? Это явно нелепо, равно как и предположение, будто он был «связан по рукам»
инструкциями правительства. У него были собственные политические расчеты. Но нужны ли они республиканскому генералу? «Бонапарт! Твоя слава – диктатура. Ты мог, ты еще можешь быть диктатором, не французской республики, но всех других европейских держав. Сто тысяч французских республиканцев с Бонапартом во главе могут достичь больше, чем завоевание мира, они могут возвратить ему независимость» [10, p. 8–9]. Марешаль рисует такую картину: заняв Рим и Вену, Бонапарт одной рукой поражает британское правительство, а другой – восстанавливает угнетенную Польшу. Но ему следует, прежде всего, довести до завершения уже начатое им дело – полностью освободить Италию. В противном случае он окажется не героем, а «жалким сухопутным флибустьером».
Марешаля смущает повелительный тон, принятый генералом в общении с итальянскими республиками. Замашки властителя непростительны в среде свободных людей. Ни победы, ни гений не служат им оправданием. Напротив, «это крещендо деспотизма и высокомерия, которое замечают в тебе, тревожит всех добрых патриотов» [10, p. 24].
С точки зрения философа, генерал стоит перед выбором. Или он будет выдающимся защитником свободы человеческого рода, или ее преследователем, поборником деспотизма. Патриоты всех стран с готовностью откликнутся на его призыв выступить против своих угнетателей. Тогда он станет надеждой, представителем всех народов, ведущих борьбу за уничтожение рабства. Великий французский народ не может желать мира с тиранами и узурпаторами.
Эмоциональное обращение Марешаля не имело видимого политического отклика. «Ознакомился ли маленький капрал с отважным письмом, которое было открыто ему адресовано? Ничто не позволяет утверждать это» [6, р. 347].
«Словарь древних и новых атеистов» (1800) Марешаля содержит изречения множества мыслителей, немалая часть которых весьма далека от отрицания существования Бога. Автора это обстоятельство не смущает. Он говорит о том, что зачастую образованные писатели не отдавали отчет в собственном атеизме. Все потому, что они не продумали до конца, не сделали всех выводов из принимаемых ими теоретических принципов. Иные защитники веры невольно свидетельствовали в пользу атеистов. Поэтому в книге Марешаля встречаются изречения религиозных авторов и ссылки на Абеляра, Аристо- теля, Бэкона, Бейля, Бодена, Декарта, Мольера, Фалеса, Цицерона, Шаррона и др.
Свои размышления о религии Марешаль включает в общую схему философии истории. По его мнению, в далекой древности человечество переживало «счастливое время», подлинный золотой век. Это – реальность, отнюдь не «химера». Люди были близки природе, сливались с ней своими незамысловатыми, не испорченными нравами. В те времена еще не было никакой науки, как и пороков и преступлений. Не было и религии. Люди были заняты трудом, связанным с добыванием пропитания себе и близким. Их наполняла любовь к детям, отцу, матери. Они еще не знали письма, были бесконечно далеки от лживости и фальши современных горожан. Им было чуждо тщеславие и пресмыкательство. Они были атеистами. Всецело принадлежа природе, они даже не задумывались о Боге.
Золотой век сменил период цивилизации. Возникли несправедливые социальные институты, поработившие людей. Превратившись в гражданина деспотических государств, человек оказался зажат в довольно тесные рамки, помещен в специфическую среду. Он был вынужден подчиниться навязанным ему незаконным требованиям, которые опирались на религиозные вымыслы.
Наконец, человечество ожидает своего рода возвращение к золотому веку, связанное с освобождением от рабской зависимости, заблуждений, пороков. Человека нового золотого века следует считать атеистом. Он будет бесконечно далек и от жестоких фанатиков, и от лживого священства. Далек будет он и от тех трусливых философов, которые не решаются выступить в поддержку истины, исходя из карьерных соображений. Социальные бедствия говорят против тезиса о наличии мудрого сверхъестественного законодателя. «Если ваш бог вмешивается в ваши дела, почему они идут так плохо? Почему есть у вас алтари, но совсем нет добрых нравов?» [3, с. 198]. Что же до атеизма, то он, согласно философу, характеризуется терпимостью к убеждениям других и просвещенностью. Атеист более счастлив, чем верующий, ибо его не преследует страх перед загробными страданиями. Понятие Бога Марешаль уподобляет ненужной мебели, которую из почтения к старине не решаются выбросить на свалку. Он упрекает противников атеизма в том, что самые известные злодеяния в истории совершены именно ими. В этой связи он упоминает Варфоломеевскую ночь, инквизицию, восстание в Вандее. Он язвительно замечает, что непрерывную войну против Франции, в которой произошла революция, ведет отнюдь не «коалиция атеистов».
Исследователи, обращавшиеся к творчеству Марешаля, выделяли различные грани его учения. Х.Н. Момджян отмечал, что «Марешаль принадлежал к числу тех одиночек в среде просветителей и политических деятелей, которые еще до революции отстаивали республиканские идеи» [4, с. 356]. Согласно В.Н. Кузнецову, «деятельность младшего поколения французских материалистов (Нежон, Марешаль и др.) сосредоточилась в революционные 90-е гг. в области атеистического религиоведения и была связана с усилиями новых властей практически «дехри-стианизировать» Францию. Крах этих усилий и заключение в 1801 г. Наполеоном Бонапартом, ставшим постреволюционным правителем Франции, соглашения («конкордата») с папой Пием VII …имели своим мировоззренческим следствием довольно быстрое устранение воинствующего иррелигиозного материализма из национального философского пространства» [2, с. 465 – 466].
Характеризуя заговор «равных», М.Ю. Чепурина справедливо подчеркивает: «Марешаль больше тяготел к анархизму, в то время как коммунизм Бабёфа был этатистским» [5, с. 95]. Заметим, что в свое время П.А. Кропоткин с одобрением упоминал антиэтатистские идеи революционного поэта: «У Сильвена Марешаля замечается даже некоторое стремление к тому, что теперь называется свободным коммунизмом, хотя, конечно, все высказывалось тогда с большой сдержанностью, так как за слишком откровенное выражение своих мыслей приходилось рисковать и платиться головой» [1, с. 379].
Философия истории Марешаля представляла собой попытку развить просветительские установки применительно к новым социальным условиям, неизвестным прежде задачам. Несомненна эволюция его взглядов от республиканизма к своеобразной форме анархического коммунизма. Со временем он стал считать революционную республику важным шагом на пути к организации жизни человечества на основе принципа семейного бытия. Он осознанно стремился стать выразителем мировосприятия санкюлотов, уже активно включившихся в революционные события. В основе его философии истории лежит триадическая схема: патриархальный строй («золотой век») – период цивилизации («гражданское общество») – возвращение к «золотому веку». В качестве главного средства ее обоснования выступает апелляция к вечным законам природы. В его понимании они придают поступкам людей моральное измерение. По существу, фундаментом философии истории Марешаля служит антирелигиозная концепция бытия.
Учение Марешаля – своеобразная точка в развитии просветительской мысли. Идея равенства доведена им до анархистской крайности. Философский антиэтатизм имел в последующей культуре множество сторонников, но участников французской революции XVIII в. не увлек, не стал ее ведущей линией.
Список литературы Подлинной революции не было: тенденция анархизма в просветительской философии Сильвена Марешаля
- Кропоткин П.А. Великая французская революция 1789-1793. М.: Наука, 1979.
- Кузнецов В.Н. Европейская философия XVIII века. М.: Академический проект, 2006.
- Марешаль С. Избранные атеистические произведения. М.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Момджян Х.Н. Французское Просвещение XVIII века. М.: Мысль, 1983.
- Чепурина М.Ю. Гракх Бабёф и заговор «равных». М.: РОССПЭН, 2017.
- Dommanget, M., 1950. Sylvain Maréchal, l'égalitaire, «l'homme sans Dieu»: sa vie, son oeuvre (1750-1803). Paris: Lefeuvre.
- Maréchal, S., 1779. Le livre de tous les âges, ou le Pibrac moderne. Paris: Cailleau.
- Maréchal, S., 1793. Correctif à la révolution. Paris: Cercle Social.
- Maréchal, S., 1793. Le jugement dernier des rois, prophétie en un acte. Paris: C. Patris.
- Maréchal, S., 1798. Correctif à la gloire de Bonaparte. Paris: Lenfant.
- Soboul, A., 2009. La Révolution française. Paris: Gallimard.