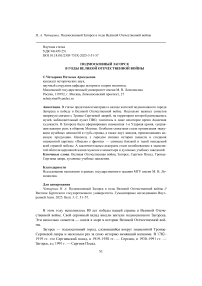Подмосковный Загорск в годы Великой Отечественной войны
Автор: Четырина Н.А.
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен материал о вкладе жителей подмосковного города Загорска в победу в Великой Отечественной войне. Несколько важных сюжетов напрямую связано с Троице-Сергиевой лаврой, на территории которой размещались музей, наблюдательный пункт ПВО, госпиталь и даже некоторое время Академия художеств. В Загорске была сформирована знаменитая 1-я Ударная армия, сыгравшая важную роль в обороне Москвы. Особыми сюжетами стали организация эвакуации музейных ценностей в глубь страны, а также двух заводов, производивших военную продукцию. Наконец, с городом связана история замысла и создания знаменитой картины «Письмо с фронта» — символа близкой и такой ожидаемой всей страной победы. А заключительным аккордом стало возобновление в знаменитой обители церковной жизни мужского монастыря и духовных учебных за-ведений.
Великая Отечественная война, Загорск, Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра, духовные учебные заведения
Короткий адрес: https://sciup.org/148332052
IDR: 148332052 | УДК: 94(470-25) | DOI: 10.18101/2305-753X-2025-3-51-57
Текст научной статьи Подмосковный Загорск в годы Великой Отечественной войны
Четырина Н. А. Подмосковный Загорск в годы Великой Отечественной войны // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2025. Вып. 3. С. 51–57.
В этом году исполнилось 80 лет победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Свой скромный вклад внесли жители подмосковного Загорска. Эти несколько сюжетов — капля в море в истории Великой Отечественной войны.
Загорск — подмосковный город, сложившийся вокруг знаменитой Троице-Сергиевой лавры и несколько раз за свою историю менявший название. В 1782– 1919 гг. это Сергиевский посад, в 1919–1930 гг. — Сергиев, в 1930–1991 гг. — Загорск, а с 1991 г. — Сергиев Посад.
Знаменитая православная обитель в 1919 г. после революции была закрыта для богослужений. В 1920 г. на территории монастыря по декрету В. И. Ленина был образован музей, получивший в 1940 г. статус музея-заповедника. Кроме этого, в 1917–1923 гг. там же обосновались электротехническая школа, позднее переименованная в Высшую военную электротехническую школу, в 1919–1923 гг. — институт народного образования, с 1923 г. — педтехникум, с середины 1930-х гг. — учительский институт. Там же размещались и общежития учебных заведений. Кроме этого, в качестве Дома культуры для проведения танцев и балов учащихся использовалось здание трапезной [9; 10]. Лавра использовалась для натурных съемок фильма «Светлый путь» режиссером Г. Александровым в 1940 г.
На территории собственно города в послереволюционные годы происходили важные события. В 1930 г. в Загорске открылась трикотажно-чулочная фабрика, выпускавшая женские чулки, платки и детские свитера. В 1935–1938 гг. с нулевого цикла, с рытья котлована шло строительство нового Загорского оптикомеханического завода (ЗОМЗ) — одного из первенцев оптической промышленности в стране. Одновременно с этим в 1936 г. открыли школу фабричнозаводского ученичества (ФЗУ) для обучения малограмотной молодежи. Первой продукцией стал микроскоп к прессу Бринелля, а позднее завод получал спецзаказы военного профиля на перископы, танковые и артиллерийские прицелы. В 1938 г. было принято решение об устройстве в Загорске скобяного завода (в просторечии «Скобянка») для выпуска гвоздей, петель, замков и прочих необходимых для строительных работ изделий. Но уже в 1940 г. завод в кратчайшие сроки освоил выпуск пистолета-пулемета Шпагина (ППШ) при непосредственном участии изобретателя-конструктора Г. С. Шпагина. Перед войной заводы, выпускавшие военную продукцию, для усиления секретности стали номерными: ЗОМЗ — № 355, «Скобянка» — № 367 [3, с. 57, 68–69; 82; 5, с. 74].
Летом 1941 г. к моменту начала войны на территории лавры работали реставраторы и студенты архитектурного института, бывшие там на практике. Один из них, Виктор Иванович Балдин (01.03.1920 — 04.01.1997), сыграл в 1960-х гг. важную роль в реставрационных работах ансамбля Троице-Сергиевой лавры. Он так вспоминал об этом времени: «По приказу штаба ПВО в городе провели маскировку промышленных предприятий, электростанций, водокачек и других важных объектов; золотые главы лаврских церквей и колокольни, служившие удобными ориентирами при налетах вражеской авиации, автор этих строк вместе с пятью друзьями — студентами Московского архитектурного института за одну неделю покрыли защитной краской, а купол древнейшего Троицкого собора бережно затянули полотнищем холста» [1, с. 76]. Хочется добавить, что эти шестеро студентов не были промышленными альпинистами, никакого специального снаряжения не имели. У них не было возможности в этих условиях ставить леса и подмостки. Отчаянно смелые ребята забирались на церкви по веревкам, привязав к поясу ведро с краской, и на огромной высоте орудовали кистями, насаженными на длинные черенки. А на купол Троицкого собора диаметром 7 метров сшили огромный чехол из холста и затянули его канатом над карнизом главы. На колокольне был оборудован наблюдательный пункт противовоздушной обороны (ПВО), заблаговременно извещавший о появлении самолетов противника. Хочется добавить, что в результате целого комплекса работ по маскировке, работе ПВО и просто удачи на территорию лавры не упала ни одна бомба [5, с. 80, 82]. Виктор Иванович Балдин был призван в армию, воевал до последних дней войны. В конце войны в одном из подвалов старинного замка разглядел в листах бумаги, валявшихся на полу, произведения искусства — рисунки великих мастеров и фактически спас их от уничтожения. Эту коллекцию сразу после войны он безвозмездно сдал в музей архитектуры имени А. В. Щусева в Москве, который возглавил с 1963 г. Позднее в 1990-е гг. эта история получила широкий резонанс в обществе как «Балдинская (Бременская) коллекция».
Музей, располагавшийся в стенах лавры, возглавлял выпускник исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, специализировавшийся на кафедре археологии, Иван Захарович Птицын (1910 — 26.03.1944). Перед руководством музея в самом начале войны практически сразу была поставлена серьезная задача — подготовить эвакуацию экспонатов, которые признавались музейными ценностями первой категории. К концу июля около 1 300 предметов музейной коллекции были упакованы в 42 ящика, в том числе такой крупногабаритный экспонат, как серебряная рака с мощами преподобного Сергия Радонежского. Драгоценный груз везли до Соликамска Пермской (в то время Молотовской) области на барже. Из Москвы выехали в августе, прибыли на место 22 октября. Сопровождал груз директор музея Иван Захарович Птицын. Он передал коллекцию в целости и сохранности. В Соликамске коллекция хранилась в обширном Троицком соборе XVII в., который не отапливался. Это был риск для экспонатов, так как зимой морозы доходили до минус 50. В ноябре 1942 г. музей командировал своих сотрудников А. М. Курбатову и Н. М. Прасолову для проверки состояния ценностей. Обнаружились лишь небольшие повреждения тканей. Эвакуированные экспонаты возвратились в Загорск в ноябре 1944 г. по железной дороге в целости и сохранности. Оставшуюся часть коллекции сотрудники спрятали в тайниках, проветривали и просушивали, предохраняя от моли и жучка, а медные вещи, не представляющие художественной ценности, сдали в фонд обороны. Начиная с лета 1942 г. в музее стали принимать посетителей, открывали новые экспозиции и выставки, проводили экскурсии. В том же 1942 г. директор музея, выпускник МГУ И. З. Птицын оказался на фронте (по одним сведениям, был добровольцем, по другим — был призван на фронт), где погиб, по одним источникам, в битве под Ржевом, по другим — в марте 1944 г. Его портрет и краткая биография были на выставке, посвященной 60-летию Победы в Соликамске [6; 8, с. 119].
В октябре 1941 г. началась эвакуация двух заводов, выпускавших важную военную продукцию. Станки, инструменты, материалы, «задел», «незавершенка», специалисты и рабочие — все должны были в кратчайшие сроки переехать на новые площадки и наладить выпуск продукции, не снижая объема. Погрузочно-разгрузочные работы выполнялись вручную, не было ни кранов, ни подъемников. Оборудование, тяжелые станки извлекали из цехов через оконные проемы и с эстакад доставляли на железнодорожные платформы. Для работников заводов и их семей спешно оборудовали товарные вагоны, установили печки «буржуйки», сколотили нары в три яруса и скамейки. Выдали паек на восемь дней, но ехать пришлось около месяца. Завод № 355 (ЗОМЗ), выпускавший перископы, танковые и артиллерийские прицелы, был вывезен в далекий сибирский Томск, размещен в зданиях знаменитого Томского университета и срочном порядке развернул там производство. Чтобы разместить оборудование на втором этаже здания конца XIX в., не приспособленном для тяжелых станков, на первом этаже ставили подпоры, укрепляя потолок. Завод вернулся из эвакуации в 1943 г. Другой завод № 367 («Скобянка») — головное предприятие по производству пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ) — вместе с оборудованием, оснасткой и людьми (800 чел.) погрузили в эшелоны и отправили в Кировскую область, в рабочий поселок Вятские Поляны. Монтаж оборудования велся под открытым небом на территории строящейся шпульной фабрики. В этих условиях начался выпуск первой продукции, которая уже в конце ноября 1941 г. была отправлена на фронт. Кстати, рабочий поселок Вятские Поляны после этого в 1942 г. получил статус города. Из эвакуации завод № 367 не вернулся, его производственные площади в Загорске были переданы предприятию № 569, которое стало основой Загорского электромеханического завода (ЗЭМЗ), унаследовавшего просторечное название предшественника «Скобянка» [3; с. 82–88; 5, с. 83–84].
Остальные предприятия Загорска перешли на производство военной продукции: делали гранаты и дымовые шашки, шили теплые вещи для солдат, солдатское белье, телогрейки и очень востребованные зимой 1941 г. белые маскировочные костюмы, ремонтировали приходившие со складов противогазы, изготавливали лыжи, снарядные ящики, приклады для автоматов. В колхозах производили валенки и овечьи полушубки. Жители города и района призывались на фронт по мобилизации, уходили на фронт добровольцами, оставшиеся участвовали в строительстве оборонительных сооружений, заготовке леса, собирали посылки бойцам и деньги в Фонд обороны.
Ситуация на фронте в ноябре 1941 г. была близка к критической. Враг подошел к Москве очень близко. Линия фронта проходила в 35–40 км от Загорска. Ожесточенные бои шли под Дмитровом и Яхромой. Именно в это время началось формирование ставшей знаменитой 1-й Ударной армии для перехода в решительное наступление под Москвой. Командующим армией был назначен генерал-лейтенант В. И. Кузнецов, начальником штаба — генерал-майор Н. Д. Захватаев. Штаб армии развернули в Загорске, время для формирования армии – меньше недели. 1-я Ударная армия состояла из 7 отдельных стрелковых бригад, 11 отдельных лыжных батальонов, артиллерийского полка и двух легкобомбардировочных полков. Они были укомплектованы в основном рабочими и колхозника- ми Сибири и Урала, моряками-добровольцами Тихоокеанского флота и курсантами военно-морских училищ — всего 36 950 человек. На станции Дмитров, Загорск, Хотьково войска начали прибывать в 20-х числах ноября 1941 г. Железнодорожные эшелоны с людьми, вооружением, боеприпасами, зимним обмундированием и продовольствием шли с рекордной для того времени скоростью (800–900 км в сутки). В городе была организована выпечка хлеба и сформированы транспортные гужевые подразделения. Подразделения 1-й Ударной армии приняли активное участие в наступлении под Яхромой в декабре 1941 г. и в сокрушительном разгроме врага под Москвой [2, с. 6–11].
Для организации медицинской помощи раненым бойцам в лавре практически с начала войны развернулся эвакогоспиталь № 2894. Стали прибывать врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитары. Приходило оборудование и все необходимое для работы. Госпиталь был смешанного типа, на 2 500 коек — самый крупный в Московской области. В нем были два хирургических отделения с операционными блоками, четырьмя перевязочными, гипсовальной, сортировочное, терапевтическое и неврологическое отделения, а также лаборатории и два рентгенологических кабинета. В августе госпиталь принял первую партию бойцов с ранениями черепа и брюшной полости. Раненых привозили в эшелонах, на машинах и лошадях. Донорами становились все работники госпиталя, так как крови требовалось не менее 20 литров в неделю. В марте 1944 г. госпиталь № 2894 был переведен в Павловский Посад, а расформирован только 5 января 1946 г. [4, с. 68–72].
И еще один эпизод. В 1944 г. в течение полугода в Загорске оказались возвращавшиеся в Ленинград из эвакуации из Самарканда студенты и преподаватели Академии художеств. Они не только проживали в разных помещениях лавры, но и организовали полноценный учебный процесс. Колорит города стимулировал творческий процесс у начинающих и маститых художников. Именно в стенах лавры родился замысел картины у молодого художника Александра Ивановича Лактионова. Это «Письмо с фронта» — символ ожидаемой и такой близкой победы. Эта картина стала лауреатом Сталинской премии 1948 г., активно тиражировалась в популярных журналах, учебниках, детских книгах и поздравительных открытках. Теперь эту картину в оригинале можно увидеть в залах Третьяковской галереи [7, с. 113].
В заключение хочется сказать, что после победы в Великой Отечественной войне возобновилась духовная жизнь в Троице-Сергиевой лавре. Весной 1946 г. накануне Пасхи 20 апреля зазвонили колокола и прошла первая за несколько десятилетий литургия в Успенском соборе1. На территории лавры был восстановлен монастырь, а через несколько лет туда вернулись духовные учебные заведения — семинария и академия.