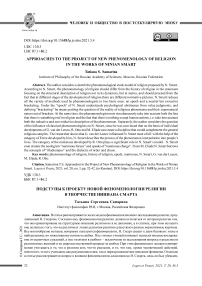Подступы к проекту новой феноменологии религии в творчестве Ниниана Смарта
Автор: Самарина Татьяна Сергеевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Человек и общество в постсекулярную эпоху
Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эскиз модели феноменологического исследования религии, предложенный Н. Смартом. Согласно ему, феноменология религии должна отличаться от истории религии тем, что она ориентирована на структурное описание религии не в ее динамике, а в статике, при этом исходить она должна из того, что на различных этапах развития религии существуют разные нормативные картины. Все многообразие методов, которыми пользуются феноменологи, Н. Смарт сводит к двум базовым: эпохе и нейтральному, но эвокативному взятию в скобки. Под «эпохе» ученый понимает психологическое воздержание от оценочных суждений, а под «взятием в скобки» - исключение из исследования вопроса о реальности религиозных явлений и их сверхъестественной природе за скобки. При этом феноменолог должен одновременно учитывать и то, что в религии есть что-то реальное, и то, что там, кроме человеческий действий, ничего нет, то есть учитывать как редукционистское, так и нередукционисткое описание феномена. Отдельно в статье рассматривается вопрос о влиянии феноменологов-классиков на Н. Смарта, ведь он был убежден, что на основании отдельных разработок Г. ван дер Леува, Р. Отто и М. Элиаде можно создать дисциплину, которая бы дополняла общерелигиоведческий комплекс. Показывается, что наибольшее влияние на Н. Смарта оказал Г. ван дер Леув. С помощью разработанной им категории Cилы Н. Смарт описывает процесс интерполяции феномена в жизнь людей. Значительную роль в модели Н. Смарта играет категория нуминозного Р. Отто, он даже создает неологизм «нуминозные силы» и говорит о «нуминозной заряженности». У М. Элиаде Н. Смарт заимствует концепты «illud tempus» и диалектику порядка и хаоса.
Феноменология религии, история религии, эпохе, нуминозное, н. смарт, г. ван дер леув, м. элиаде, р. отто
Короткий адрес: https://sciup.org/149139419
IDR: 149139419 | УДК: 130.3 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2021.3.4
Текст научной статьи Подступы к проекту новой феноменологии религии в творчестве Ниниана Смарта
DOI:
Цитирование. Самарина Т. С. Подступы к проекту новой феноменологии религии в творчестве Ниниана Смарта // Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 32–42. – DOI:
Как известно, после 1960-х гг. феноменология религии испытала серьезный кризис и потеряла свою главенствующую роль в исследовании последней. Но, несмотря на это, она не исчезла. Почти сразу были предложены проекты по трансформации ее методологии и адаптации ее наследия в новых условиях. К формам трансформации феноменологии религии можно отнести и эскиз, предложенный известным британским религиоведом Н. Смартом. То, что ученый предлагает именно свое видение решения проблемы, а не цельный проект, очевидно как из специфики его разработок, так и из их содержания. Самого себя Н. Смарт считал философом религии, за свою жизнь он написал немало о специфике именно философского изучения религии 1.
В начале 70-х гг. XX в. Д. Хик обратился к нему с предложением написать для серии «Философия религии» престижного издательства «Макмиллан» монографию по феноменологии религии. Как вспоминает Н. Смарт, это предложение одновременно и обрадовало, и встревожило его. Обеспокоиться пришлось из-за специфики феноменологического исследования религии, лежащей в большей степени в сфере чистого религиоведения, по сравнению со спекулятивностью философии религии. Проблема тут заключалась в том, что по остроумному замечанию самого Н. Смарта, «...приступая к занятиям философией науки, необходимо изрядно знать о науке, так и занимаясь философией религии, стоит изрядно знать о религии... как мы можем философствовать о чем-то без знания религии, не ведая, какова она на самом деле?» [Smart 1973, 2–3]. Современная ему философия религии не сильно утруждалась выяснением реалий набожной жизни, сводя все к проблемам логического и языкового выражения. В отличие от спекулятивной философии феноменология религии всегда работала с конкретным религиоведческим материалом, что и заставило философа поместить ее в сферу религиоведческих исследований. Вторая проблема в работе с феноменологией была связана с тем, что Смарт считал себя недостаточно эрудированным, чтобы создать труд, посвященный описанию религиозных феноменов в их многообразии, подобный системам феноменологов-классиков (таких как Р. Отто, Р. Хайлер или Г. ван дер Леув). Таким образом, он не планировал разрабатывать проект единой феноменологической системы, даже не предлагал переустройства существующей. Задача его была скромнее – представить философское осмысление проблематики феноменологии религии, выделив ее достоинства и недостатки. Но по факту исследователь сделал эскиз новой модели феноменологического исследования религии, не превратившийся в цельный проект и не реализованный на практике, но от этого не менее значимый.
Прежде всего стоит определить, что Н. Смарт подразумевает под феноменологией религии. Совершенно ясно, что это не философская феноменология. Несмотря на то что свой экскурс в постижение сути религиозных феноменов ученый начинает с утверждения, что изучение «религии как феномена возникло из традиции философской феноменологии, берущей начало с Э. Гуссерля» [Smart 1973, 53], он нигде не демонстрирует реального следования философским установкам последнего. Таким образом, он номинально привязывает феноменологию религии к философии Э. Гуссерля, по сути же не собираясь за ней следовать. Это легко проиллюстрировать, если обратиться к проблеме понимания феномена у Н. Смарта. Почти сразу после дек- ларированной приверженности Э. Гуссерлю он обращается к рассмотрению феномена Евхаристии, чтобы показать, как при помощи метода феноменологии религии можно его изучить. Он описывает процесс внешнего наблюдения исследователями христианского таинства Евхаристии и поясняет проблему следующим образом: «Однако то, что наблюдатели “наблюдают” таким поверхностным образом, вовсе не дает адекватного представления о том, что такое “феномен”, ибо это, по крайней мере, человеческое явление... и чтобы понять действие, нужно узнать кое-что о его интенциональности. Так, например, видеть кого-то стоящим на коленях это вовсе не означает то же, что видеть кого-то просто с согнутыми определенным образом ногами... поверхностное описание совершенно не дает адекватного представления о том, что такое “феномен”» [Smart 1973, 54]. Итак, перед нами серия не философских утверждений, ведь у Э. Гуссерля феномен – это только феномен сознания. У Н. Смарта этот термин понимается в общенаучном ключе, феномен – это наблюдаемое явление. Ровно так же он понимает и проблему интенции, для него это не процесс внутри сознания, а выражение неких волений и намерений индивида, которые может угадать внешний наблюдатель. В дальнейшем ученый только упрочняет это обыденное понимание феномена, утверждая, что «феномен как отделенный элемент систематически связан со схемой веры и институциональной традицией» [Smart 1973, 55]. Все феноменологическое исследование, по его мнению, сводится к двум базовым методам: «эпохе» и «нейтральному, но эвокативному взятию в скобки» [Smart 1973, 59]. При этом и первое и второе не имеют никакого отношения к понятиям из философии Э. Гуссерля. «Эпохе» у Н. Смарта – психологическое воздержание от оценочных суждений, а «взятие в скобки» – это исключение из исследования вопроса о реальности религиозных явлений и их сверхъестественной природе за скобки, то есть разновидность смягченного методологического атеизма. Таким образом, ключевые понятия Э. Гуссерля вырываются из контекста и наделяются обычными значениями. Но такая философская близорукость не мешает Н. Смарту утверждать, что «... действительно, поиск общих черт занимает видное место в гуссер-лианской традиции, которая включает в себя поиск “сущностей”» [Smart 1973, 60], и далее якобы через модель Э. Гуссерля дается интерпретация Евхаристии. Для специалистов очевидно, что эти рассуждения не имеют никакого отношения к гуссерлианской философской традиции, Н. Смарт здесь следует общей моде на термин «феноменология» и, упуская из виду его философские основания, оперирует находящимися на слуху понятиями. Однако неуместное привлечение феноменологии Э. Гуссерля вовсе не снимает вопроса: что сам Н. Смарт подразумевает под феноменологией религии?
Ответить на этот вопрос можно следующим образом. Значительную часть раздела, посвященного описанию религии как феномена, занимает пример с изучением Евхаристии. Сначала Н. Смарт показывает, как это таинство можно описать исходя из позиции внешнего наблюдателя, затем он предлагает приложить к нему 2 герменевтические стратегии. Первая – редукционистская, в которой всякие отсылки к трансцендентному убраны и Евхаристия будет расцениваться как социальное или психологическое действие, объясняемое как строго человеческий феномен. Вторая стратегия предполагает признание реальности трансцендентного без апелляции к какой-то конкретной религиозной традиции, в любом случае наблюдаемый процесс будет рассматриваться как священнодействие, уникальный момент переживания трансцендентного. И первая и вторая стратегии, согласно Н. Смарту, имеют целый ряд очевидных недостатков, феноменолог религии не изберет ни одну из них, он будет руководствоваться принципом «реалистичного взятия в скобки» [Smart 1973, 64], то есть будет стараться учесть как редукционистское, так и нередукционисткое описание феномена, при этом не отдавая ни одному из них предпочтения, претендуя на то, что фиксирует «истинное положение дел» [Smart 1973, 59]. Далее Н. Смарт разбирает ограничения такого феноменологического подхода, но считает, что именно он наиболее адекватен при изучении религии. Получается, что несколько страниц рассуждений приводят философа к тому, что феноменолог – это тот, кто одновременно учи- тывает и то, что в Евхаристии есть что-то реальное, и то, что там, кроме человеческих действий, ничего нет. Так что же в таких рассуждениях феноменологического? Ведь, по существу, мы имеем дело с обыденным всесторонним описанием, не укорененным ни в какой проработанной методологической стратегии. Это еще больше подчеркивается конкретными примерами, которые приводит Н. Смарт. Так, если наблюдатель или группа наблюдателей решит описать таинство Евхаристии, то «грубо и поверхностно они увидят, что группа людей выполняет определенные действия с определенными инструментами в определенном здании...» [Smart 1973, 54], если они обратятся к молитве, то, «видя определенные действия, являющиеся молитвенными практиками, могут иметь общее понимание того, что происходит... Но чтобы уловить тонкую грань этого “феномена”, они должны понимать особенности молитв, а не их содержание... не только слова, но и характер Фокуса, на который они направлены» [Smart 1973, 56] 2. То, о чем здесь пишет Н. Смарт, это просто учитывание контекста наблюдаемого явления при антропологическом описании. В 1973 г., когда Н. Смарт писал «Феноменологию религии», К. Гирц опубликовал свою «Интерпретацию культур», где впервые выразил эту задачу антропологов, назвав ее «насыщенным описанием», об этом он говорил: «В реальности этнограф постоянно... сталкивается с множеством сложных концептуальных структур, большинство из которых наложены одна на другую или просто перемешаны, которые одновременно чужды ему, неупо-рядочены и неясно выражены и которые он должен так или иначе суметь понять и адекватно истолковать. И это верно даже для самого приземленного уровня его полевой работы: опроса информантов, наблюдения ритуалов, выяснения терминов родства, прослеживания линий наследования имущества, переписи домохозяйств и в конце концов... ведения дневника. Заниматься этнографией – это все равно что пытаться читать манускрипт (в смысле “пытаться реконструировать один из возможных способов его прочтения”) – манускрипт иноязычный, выцветший, полный пропусков, несоответствий, подозрительных исправлений и тенденциозных комментари- ев...» [Гирц 2004, 16–17]. К. Гирц считал, что для понимания чуждой культуры антрополог обязан вникать в контекст происходящего процесса, в противном случае он не сможет адекватно его описать. На деле Н. Смарт пишет о том же самом, но наблюдателя он называет феноменологом, и чем дальше идет его повествование, тем непонятнее, зачем процесс насыщенного описания, хорошо обоснованный в современной ему антропологии, называть феноменологией религии и сознательно разводить ее с антропологией, знакомство с которой текст Н. Смарта хорошо демонстрирует? К тому времени практика включенного наблюдения была весьма распространена и методологически обоснована, открывать ее вновь под иным наименованием необходимости не было.
Очевидно, что рассуждения такого рода с неизбежностью приводят Н. Смарта к проблеме наблюдателя, а вернее, к вопросу о том, как религиовед может утверждать, что постигает контекст рассматриваемого им явления. В феноменологии религии до 60-х гг. этим гарантом выступала религиозность наблюдателя и наблюдаемого. Н. Смарт же ее принципиально исключает, по его мнению, «святой может быть плохим религиоведом, как и Наполеон – плохим биографом» [Smart 1973, 33], и ученый значительно лучше разберется в общей картине религиозной жизни, чем верующий. Обращаясь к способности исследователя давать адекватные заключения о процессе внешней для него религиозной жизни, Н. Смарт пишет: «Образцом работы феноменолога является, пожалуй, чтение и понимание романа. На страницах романа по-своему существуют Братья Карамазовы, хотя в реальности не имеет значения, существовали они или нет... Необязательно соглашаться с Иваном Карамазовым в “реальной жизни”: можно видеть мир как с его точки зрения, так и с точки зрения Алеши... в реальной жизни можно не симпатизировать данному персонажу, но в мире романа иметь яркое сопереживание» [Smart 1973, 72]. То есть феноменолог Н. Смарта должен культивировать в себе эмпатию к объекту исследования так же, как читатель проникается персонажами книги. Но здесь мы имеем проблему: один писатель пишет книгу, образы которой легко вызывают реакцию у читателей, другой этим даром может не обладать. Таким образом, мы приходим к волюнтаризму и вкусовщине в оценке объективных религиозных явлений. Далее, поясняя суть своего понимания эмпатии, Н. Смарт отмечает, что употребляет его «...для обозначения аффективной стороны “вхождения” феноменолога в мир другой или даже его собственной религиозной культуры» [Smart 1973, 74]. Это вхождение в мир верующих для него возможно ровно так же, как возможна актерская игра. Философ поясняет: «...актеру удается весьма практично заключать в скобки эмоции, диспозиции и т. д. того, кого он представляет на сцене. Таким образом, нет никакой априорной причины, по которой феноменолог не может мысленно повторять чувства и убеждения тех, кого он стремится изучить» [Smart 1973, 75]. Здесь заметно совпадение с концепцией конгениальности Ваарденбурга, и это неудивительно 3. Всякий, кто работает с психологически понимаемой эмпатией, неизбежно приходит к метафоре актерской игры, поскольку именно в ней такая эмпатия культивируется как метод. Но насколько искусство отстоит от науки, настолько и психологическая эмпатия отличается от научно выверенного метода. Именно поэтому Э. Гуссерль хотел избавиться от психологизма, прежде всего создав общезначимую систему познания, где были бы исключены любые вкусовые и личностно-психологические аспекты, а для этого необходимо осуществить многоступенчатую редукцию, дойдя до трансцендентального ego [Гуссерль 2009]. Поверхностность Н. Смарта в вопросах философской феноменологии не дает ему заняться этими проблемами всерьез, поэтому его феноменологический метод оказывается слишком субъективным предприятием, психологизирующим процесс познания и дублирующим уже разработанную антропологами стратегию исследования чуждой культуры.
Но чем же Н. Смарту не нравится классическая феноменология религии? В отличие от ее непримиримых критиков он не так резок в оценках 4. Даже в теологической окраске отдельных феноменологических положений, таких как нуминозное, он видит несомненные положительные стороны, поскольку они покрывают значительное многообразие религи- озного мира, открывая возможности для его дескрипции и классификации. Вместе с тем, по мнению Н. Смарта, классический проект устарел из-за его западноцентризма. Проблема феноменологов в том, что они «склонны исходить из западных предпосылок, а западный тезаурус не всегда работает» [Smart 1973, 41], отсюда проистекало их стремление классифицировать и подводить сложные чуждые западному сознанию категории под общие знаменатели политеизма, дуализма, монизма и т. п., поэтому «в некоторой степени феноменологические категории становятся абстракциями... или, как иногда говорят, “идеальными типами”» [Smart 1973, 78]. К началу 70-х гг. большинству ученых было очевидно, что такая работа с идеальными типами – продукт колониального мышления, ставящего западный мир и западное понимание религии в центр мироздания, она предполагает существование подразумеваемого религиозного эталона, что превращает компаративное религиоведение в «своего рода концептуальный фидеизм» [Smart 1973, 34]. Для Н. Смарта, одного из пионеров изучения нехристианских религий в Британии, такой перекос неприемлем.
Все сказанное выше вовсе не означает, что Н. Смарт был полностью чужд классической феноменологии религии. На деле именно на ее базе он обосновывал свой взгляд на процесс феноменологического исследования. В своей книге «Путеводитель по феноменологии религии» Д. Кокс замечает, что «Ниниан Смарт... вдохновленный голландской феноменологией, применил ее основные принципы, чтобы оформить собственный бренд феноменологической традиции в религиоведении» [Cox 2006, 167]. Эту мысль нужно откорректировать с учетом того, что влияние на Н. Смарта оказал лично Г. ван дер Леув, а не вся голландская традиция 5. На самом деле именно он был для Н. Смарта феноменологом номер один, влияние его наследия хорошо заметно во всех рассуждениях британского ученого. Свои симпатии к Г. ван дер Леуву философ никогда не скрывал. Еще во введении к «Феноменологии религии» он писал, что «...мое применение феноменологии было бы невозможно без работы ван дер Леува» [Smart 1973, 5]. Обращаясь же к исследованию религии как феномена, ученый, прикрываясь брендом Э. Гуссерля, в действительности эксплицирует всю свою систему из «Эпилого-менов» к главному труду Г. ван дер Леува «Религия в сущности и проявлениях»6. Понятия «эпохе» и «взятие в скобки» перекочевали в его текст напрямую оттуда 7, именно поэтому они имеют столь мало общего с феноменологией Э. Гуссерля. Перед читателем книги Н. Смарта, знакомым с текстом Г. ван дер Леува, предстает необычная картина: первый наполнил эмпирическим содержанием те методологические размышления, которые второй давал в своей книге для отвода глаз, без какого-либо соотнесения с эмпирическим исследованием. Н. Смарт же на ряде примеров попытался детально раскрыть возможности работы категорий из «Эпилогоменов» и тем самым оживить текст, сделав не декларацией, а рабочим планом религиоведческого исследования. Н. Смарт, в отличие от многих, не ограничился лишь анализом «Эпилогоме-нов»8, он очень внимательно проработал текст «Религии в ее сущности и проявлениях», поэтому троичность Силы, Воли и Формы нашли отражение в его построениях. За основу он взял категорию Силы – изначальный феномен для Г. ван дер Леува. В одной из своих работ, посвященной критике теории М. Элиаде, философ противоположил концепцию диалектики священного и профанного М. Элиаде концепции Г. ван дер Леува. Там, в частности, он писал: «Поэтому представляется оправданным использовать понятие силы, вселяющейся в вещи, людей и т. д., силы, переделывающей людей изнутри, меняющей их чувства. Здесь я опираюсь на подход ван дер Леува, хоть и расширяя рамки его исследования...» [Смарт 2010, 157]. С помощью категории Cилы Н. Смарт пытается описать процесс интерполяции феномена в жизнь людей. В «Феноменологии религии» он также отталкивается от дихотомии М. Элиаде, выделяя ее сильные стороны (ему нравится идея illud tempus, но он признает ее ограниченную эври-стичность), ученый обращается к категории Силы, но говорит о ней не в единственном, а во множественном числе. Его интересуют силы, которые «...могут быть грубо охарактеризованы как хорошие, плохие и нейтральные» [Smart 1973, 89], с их помощью он планирует выстроить модель описания мифоло- гического комплекса. Кроме того, категория Cилы помогает понять специфику символического, «...ибо знак, будучи частью силы, которой он является, и часто являясь культурным объектом, в некотором отношении подобен тому, что он обозначает» [Smart 1973, 90]. Почитаемые места паломничеств и изначально установленные ритуалы, воспроизводимые ежегодно 9, мощи, реликвии, принадлежащие святым или богам, также интерпретируются как содержащие в себе Cилу. Понимание воздействия богов как передачи некого заряда помогает объяснить специфику отношений человека и божества, Н. Смарт поясняет, что «“передача сил” также помогает объяснить тенденцию к тому, чтобы божественные силы становились как бы полуотделенными, как если бы, например, божья благодать была частично автономной силой (force)» [Smart 1973, 110]. Как известно, Н. Смарт зачастую проецировал модели религиозного описания на секулярные идеологии, показывая зыбкость границы чисто религиозного, также он любил использовать примеры из обыденной жизни для иллюстрации религиозных реалий. Так, специфику Силы он пояснял следующим образом: «Если бы меня представили какому-то великому герою, например, Пеле, скажем, рукопожатие стало бы своего рода благословением: моя субстанция выросла бы от крошечного контакта с этим героем» [Смарт 2010, 158]. Таким образом, метафора трансляции Силы подходит для описания секулярной идеологии не хуже, чем религиозной. Стоит еще раз пояснить, что Н. Смарт не ставит своей целью выстраивание системы классификации религиозных феноменов, он лишь очерчивает общие контуры современной работы с религиозным материалом для обновленной феноменологии религии. Вторым этапом такой работы (после определения методологической стратегии религиозного описания) является систематизация мифологического мира религии.
Если говорить о влияниях феноменологов-классиков на концепцию Н. Смарта, то, кроме отмеченных выше идей Г. ван дер Ле-ува, стоит остановиться и на категории нуми-нозного Р. Отто, ведь она одна из самых любимых у Н. Смарта. Еще во введении к «Феноменологии религии» он замечает, что его «...исследование мифа, очевидно, в какой-то степени обязано Отто» [Smart 1973, 5]. В дальнейшем эта мысль раскрывается подробно. Ученый отмечает, что валидность концепции «Святого» – один из центральных вопросов современной философии религии. Описывая отношения между Богом и человеком, Смарт совмещает категории Силы Г. ван дер Леува и нуминозного Р. Отто, например, он пишет: «...в той степени, в какой божество проявляет ну-минозные свойства и являет mysterium tremendum et fascinans, о которых говорит Рудольф Отто, между ним и молящимся существует полярность» [Smart 1973, 94]. Он даже создает неологизм «нуминозные силы» [Smart 1973, 106], когда описывает богов, миры и уровни бытия, которые превзошел Будда в своем просветлении, а касаясь монотеизма, говорит о его нуминозной заряженности [Smart 1973, 109]. И если Р. Отто был в своей теории Святого чужд манизма, то у Н. Смарта он сближается с вполне манистически окрашенной концепцией Г. ван дер Леува. В нуминоз-ном Н. Смарт видит определенный эвристический потенциал, превосходящий по своей значимости диалектическую модель М. Элиаде, но уступающий концепции Г. ван дер Ле-ува. Интересно, что Н. Смарт почти ничего не говорит об инаковости нуминозного (а ведь эта ключевая для Р. Отто черта Святого), гораздо больше его привлекает то, что нуми-нозное является mysterium tremendum et fascinans. Выделяя ограничения такого описания, Н. Смарт применяет концепцию Р. Отто к буддизму тхеравады и приходит к выводу, что на этом материале она не работает, поскольку проповедь Будды, возможно, и была фасцинирующей, «но в каком смысле это tremendum, перед чем необходимо испытывать трепет? Только из двусмысленного контекста трансцендентности мифических сил можно было бы думать о Дхамме таким образом» [Smart 1973, 107]. Получается, что концепция нуминозного нерелевантна по отношению к некоторым религиозным традициям. Но если принять во внимание борьбу с большими нарративами, в которую отчасти был вовлечен и Н. Смарт, то в концепции нуми-нозного есть и более серьезный изъян – она утверждает актуальность некоего центра религиозной жизни, центра, который можно научно описать и определить. Н. Смарт не со- мневается, что каждый человек в своей жизни может иметь нуминозный опыт в той форме, которую описывает Р. Отто, но для него это психологический аспект и не предполагает онтологической реальности. Он пишет: «...если утверждать, что Вселенная содержит в своей субстанции аспект, называемый Святым, то это утверждение можно было бы приравнять к утверждению, что феноменологический объект или объекты нуминозных переживаний действительно существуют» [Smart 1973, 141]. На такое обобщение религиоведение после 60-х гг. пойти не могло, поскольку в те годы распространилась идея критики больших нарративов – сложных теорий, пытающихся объяснить все аспекты какого-то явления и жизни в целом. Проекты понимания сущности религии, выведения ее единой структуры стали считаться романтическим универсализмом, склонным игнорировать социальные и исторические контексты в пользу больших нарративов.
По мнению Н. Смарта, еще меньшей эв-ристичностью по сравнению с концепцией Р. Отто обладает диалектический подход М. Элиаде. Философ замечает, что М. Элиаде не говорит вообще ничего положительного о центре религиозной жизни, поэтому для построения единой феноменологической системы его теория не подходит. Креативная герменевтика М. Элиаде оказывается «слишком спекулятивной» [Smart 1973, 50], оторванной от конкретного религиозного материала. Наибольшую симпатию, как уже отмечалось, у Н. Смарта вызывают концепты illud tempus и диалектическая модель порядка и хаоса в приложении к изучению мифологии. В ограниченном варианте они неплохо работают, если не считать, что с помощью этих концептов можно объяснить религиозную жизнь в целом. Наследие М. Элиаде Н. Смарт также склонен интерпретировать через категорию Силы. Так, при анализе мифа он предполагает, что «...не нужно начинать с противоположности сакрального и профанного как предельной, но видеть ее в контексте более широкой теории эмоциональных зарядов...» [Смарт 2010, 158]. Ученый предлагает рассматривать миф «как ритуальную передачу определенного рода силы» [Смарт 2010, 160]. Таким образом, партикулярность теории М. Элиаде уравновешивается цельным видением системы мифологической жизни религии Г. ван дер Леува, и исследователь получает рабочий метод для ее изучения.
Помимо фундаментального анализа проблемы религиозных феноменов Н. Смарт также разрабатывает пропедевтику религиоведческого феноменологического исследования. Он пишет о том, что любая религия переживает бесконечную систему трансформаций, поэтому, например, дать удовлетворительный ответ на то, что есть христианство, невозможно. Ведь в каждый век христианской истории сами христиане оценивали суть своей веры различно, поэтому в первом приближении у нас будет столько нормативных картин христианства, сколько веков. Н. Смарт предлагает именовать их так: картина-I – для первого века, картина-II – для второго и т. п. Причем внутри себя каждая из этих картин также не будет цельной, в первом веке можно выделить как изначальную проповедь Христа, так и христианство ап. Павла, гностические вариации и т. п. Все это еще больше осложняется тем, что внутри мира религии существует несколько типов верующих, оценивающих историю религии по-разному. Философ предлагает выделить 2 идеальных типа: традиционалиста и пророка. Первый стремится сделать коллаж из картин I–XX, чтобы собрать якобы цельное изображение того, во что он верит, на деле же он фокусируется на аспекте одной, чаще современной ему, картины и через него собирает остальные фрагменты. Второй, напротив, отвергает множество картин из-за их несоответствия идеальному образу веры. Пророков Н. Смарт также делит на 3 группы: библейских, экспериментальных и этических. Библейский пророк считает лишь изначальную кар-тину-I нормативной и сравнивает с ней все последующие, занимаясь поиском искажений, во многом такая интенция присуща раннему протестантизму. Экспериментальный пророк поверяет все картины, опираясь на свой личный внутренний опыт. Этический соизмеряет все с общим представлением о христианской морали и принимает лишь соответствующее ему. Правда, в последнем случае Н. Смарт не поясняет, как у него складывается представление о моральном императиве. Руководствуясь этими соображениями, ученый, со- гласно Н. Смарту, должен понимать, что ответить на вопрос о сущности религии нельзя лишь посредством «экспонирования галереи существующих картин» [Smart 1973, 27] религиозной жизни разных эпох. Феноменология религии должна отличаться от истории религии тем, что она способна на структурное описание религии не в ее динамике, а в статике, но не абсолютной, а исходя из понимания того, что в каждый этап развития религии мы имеем различные нормативные картины. По мнению Н. Смарта, «структурное описание выявляет доминирующие картины Фокуса в конкретный момент времени» [Smart 1973, 38]. Если структурное описание предполагает учет исторической динамики, то тогда можно получить историческую феноменологию религии, но феноменологи-классики, как предполагает Н. Смарт, работали именно со статичными картинами, что выражалось в создании типологической феноменологии. В такой картине религиоведения получается, что феноменология религии предстает служебной дисциплиной по отношению к более общей истории религий, ведь она работает с конкретным срезом религиозной жизни на ее отдельном этапе, создавая эффект Zeitlupe, как бы увеличивая и замедляя религиозную жизнь вплоть до полной статичности на каком-то отдельном отрезке временной шкалы. Такая гегемония истории в религиоведении неудивительна, хорошо известно, что именно истории религии Н. Смарт уделял первенствующую роль в своих образовательных проектах в Ланкастере и Калифорнии.
Таким образом, можно заметить, что Н. Смарт осторожно относится к наследию классической феноменологии религии, он отрицает жизнеспособность этого проекта в современности в его неизменном виде, но считает, что на основании отдельных разработок Г. ван дер Леува, Р. Отто и М. Элиаде вполне можно создать дисциплину, которая бы дополняла общерелигиоведческий комплекс, не являясь при этом его основой. Конечно, эскиз Н. Смарта страдает рядом методологических недостатков, поскольку процесс феноменологического исследования остается концептуально непроясненным, теряется в размытых и смутных аналогиях с театром и литературой. В то же время, в отличие от Ваарденбур- га, для Н. Смарта одна из важнейших проблем заключается в процессе постижения мира верующего человека. В его текстах очевидно неприятие редукционизма в религиоведческом исследовании, порой он резко высказывается против модных рассуждений, стремящихся рассматривать мир христианства первых веков с позиции современного скептического рационализма. Такое рассмотрение как бы заведомо предполагает, что рационализм лучшая, более прогрессивная форма мышления. Н. Смарт считает данный подход противоречащим и здравому смыслу, и логике научного исследования. Наряду с этим альтернатива в виде утверждения фидеистических представлений кажется ему невозможной, потому что сами эти представления относительны, оттого он и обращается к разработке отстраненного, но не лишенного симпатии к предмету исследования научного взгляда. Н. Смарт пишет: «...феноменология должна быть эвока-тивной, а также описательной (ошибиться при этом можно как в первом, так и во втором модусах). Таким образом, нейтрализм феноменологического исследования, направленного на раскрытие содержания религиозных картин, не является “плоским” нейтрализмом, то есть он не должен сводиться к разрушающим эвокативность задеревеневшим описаниям» [Smart 1973, 34]. Встречающееся здесь дважды понятие «эвокативности» значимо для ученого. Как известно, изначально в римской религии эвокациями называли обряды-призывы богов-покровителей. В логике под «эвокатив-ностью» обычно понимается языковая функция воздействия на адресата. Так, авторы словаря по логике указывают, что «...основная функция команды, являющейся характерным образцом эвокативного употребления языка, – вызвать определенное действие слушающего» [Ивин, Никифоров 1997, 378–379], эвока-тивность предполагает воздействие, эмоциональную экспрессивную вовлеченность в какой-то процесс. Эвокативность феноменологии религии у Н. Смарта предполагает глубокую заинтересованность исследователя своим предметом (что он считал необходимым). В этих и других подобных рассуждениях британского ученого сквозит интуитивная убежденность в определенной правоте классической феноменологии религии, но эта убежден- ность соединяется с реалистическими представлениями о специфике научного исследования, налагаемыми условиями после 60-х гг. ХХ века. Эта противоречивость и определяет незавершенность и эскизность феноменологического изучения религии, предложенного Н. Смартом.
Список литературы Подступы к проекту новой феноменологии религии в творчестве Ниниана Смарта
- Ваарденбург 2010 - ВаарденбургЖ. Размышления о религиоведении, включая эссе работ Герар-да ван дер Леу. Классические подходы к изучению религии. Цели, методы и теории исследования. Введение и антология. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010.
- Гирц 2004 - Гирц К. Интерпретация культур. М.: Роспэн, 2004.
- Гуссерль 2009 - Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: Академический проект, 2009.
- Забияко 2008 - Забияко А.П. Особенности дальневосточной ментальности и теории интерпретации религиозных новообразований // Современные контексты магии, религии и пара-науки. М.: Academia, 2008. С. 70-115.
- Ивин, Никифоров 1997 - ИвинА.А., Никифоров А.С. Словарь по логике. М.: Владос, 1997.
- Колкунова 2010 - Колкунова К.А. Ниниан Смарт и современное религиоведение // Религиоведческие исследования. 2010. № 3-4. С. 137-142.
- Самарина 2019 - Самарина Т. С. Эклектичность феноменологии религии: случай Г. ван дер Леу // Вопросы философии. 2019. № 3. С. 77-85.
- Смарт 2010 - Смарт Н. После Элиаде: Будущее теории религии // Религиоведческие исследования. 2010. № 3-4. С. 155-163.
- Cox 2006 - Cox J. A Guide to the Phenomenology of Religion: Key Figures, Formative Influences and Subsequent Debates. N. Y.: The Continuum International Publishing Group, 2006.
- Leeuw 1986 - Leeuw G. van der. Religion in Essence and Manifestation. Princeton: Princeton University Press, 1986.
- Smart 1973 - Smart N. The Phenomenology of Religion. L.: Macmillan, 1973.
- Smith 1982 - Smith J.Z. Imagining Religion: From Babylon to Jonestown. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Zwi Werblowsky 1975 - Zwi Werblowsky R.J. On Studying Comparative Religion // Religious Studies. 1975. №№11 (2). P. 145-156.