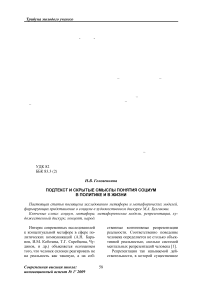Подтекст и скрытые смыслы понятия социум в политике и в жизни
Автор: Головенкина Нина Васильевна
Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu
Рубрика: Трибуна молодого ученого
Статья в выпуске: 1 (3), 2009 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена исследованию метафоры и метафорических моделей, формирующих представление о социуме в художественном дискурсе М.А. Булгакова.
Социум, метафора, метафорические модели, репрезентация, художественный дискурс, концепт, народ
Короткий адрес: https://sciup.org/14239401
IDR: 14239401 | УДК: 82
Текст научной статьи Подтекст и скрытые смыслы понятия социум в политике и в жизни
Интерес современных исследователей к концептуальной метафоре в сфере политических коммуникаций (А.Н. Баранов, И.М. Кобозева, Т.Г. Скребцова, Чудинов, и др.) объясняется осознанием того, что человек склонен реагировать не на реальность как таковую, а на соб- ственные когнитивные репрезентации реальности. Соответственно поведение человека определяется не столько объективной реальностью, сколько системой ментальных репрезентаций человека [1].
Репрезентация так называемой действительности, в которой существенное место занимают политические события, предстает в художественном дискурсе одного из выдающихся писателей ХХ века М.А. Булгакова. Рефлексивной спецификой творчества писателя является метафора в самом широком смысле.
С помощью метафор и разнообразных метафорических моделей писатель отобразил своё представление о политических процессах своего времени. Смена эпохи, политического строя, военные события (первая мировая, гражданская войны) – так начался ХХ век.
Проанализируем состояние социума и его реакцию на произошедшие катаклизмы. Под социумом мы будем понимать общество как совокупность людей, объединенных общими для них конкретно-историческими условиями материальной жизни, иерархическую систему, взаимоотношения внутри этого общества и закономерности его развития [2].
Общество как таковое составляет репрезентированный в разных модификациях концепт НАРОД. В проанализированных нами художественных текстах М.А. Булгакова народ представлен как народная масса, люди, людское множество, масса людей, толпа и т.п. Синонимический ряд, представляющий концепт НАРОД в разнообразных ситуативных контекстах, несет коннотации различного рода. Они показывают восприятие, осмысление и отношение писателя к историческим событиям и к народу, переживающему исторические события. На наш взгляд, писатель выражает свое отношение к происходящему с позиций наблюдателя.
Проследим содержание концепта НАРОД и его метафорическое моделирование в фабульном развитии романа «Белая гвардия» и фрагментах других реалистических произведений, представляющих этот концепт.
Первый случай участия народа в исторических событиях и в сюжете романа – это сцена избрания гетмана, для метафорического изображения которой сферой-источником вновь становится игровая метафора. Передавая известный факт истории, М.А. Булгаков прибегает к символизации. Избрание гетмана проходило в здании цирка. По наблюдению исследователя Т.В. Дорониной, люди пребывают в замкнутом пространстве, и их активность отделена от мира изолирующей сферой купола. Далее исследователь отмечает, что цирк вполне соответствует отношению народа к историческому моменту и его роли в нем, какое он продемонстрировал, избрав гетмана. Таким образом, концептуальная метафора «Политика – это цирк» передает не только сознание автора, но и сознание героев.
Ср.: «В апреле восемнадцатого, на пасхе , в цирке весело гудели матовые электрические шары , и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой боевой колонной и вел счет рук – шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», – выбирали «гетьмана всея Украины»» [7, с. 24].
Таким образом, концептуальная метафора «Политика - это игра» продолжает репрезентировать действительность в художественной картине мира М.А. Булгакова. Метафора эксплицирует смысл легкого, несерьезного отношения народа к решению исторической судьбы отечества. Один из персонажей романа назвал происходящее опереткой. А она, как пишет Т.В. Доронина, предполагает благополучный финал [3, с. 31]. В таком соединении разнонаправленных векторов проявляется печальная ирония автора: «вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием».
Игра стала трагедией и отдельного человека, и народа. М.А. Булгаков объясняет это тем, что народ воспринял, истолковал исторические события как несерьезное цирковое (театральное) представление. Другими словами, в сознании народа произошло смещение (или искажение) представлений и ориентиров. Следующая массовая сцена в романе – это похоронная процессия, похороны белых офицеров, зарезанных мужиками.
Ср.: «От бульвара, по Владимирской улице, чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто... Замелькали бабы на тротуарах. <...> В толпе, в передних рядах, мелькнули золотые ризы и бороды священников, колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегались со всех сторон. <...> Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге» [7, с. 73-74].
Писатель раскрывает в одной сцене разделение народа: наблюдающие за происходящим – толпа, участвующие в процессии – люди. Прослеживается явная симпатия автора к офицерам и сопровождающим лицам, их множество передано не метафорично, а прямым значением слов с нейтральной коннотацией. Наблюдатели, в числе которых и сочувствующие и враждебно настроенные, представлены в виде толпы.
Враждебные отношения между классовыми представителями одного народа – крестьян и помещиков – имеют давнюю историю. Природа этой ненависти ясна, помещики жили за счет крестьян, не считаясь с их жизнью, что неоднократно иллюстрируется репликами некоторых персонажей.
Концепт НАРОД в похоронной сцене представляют толпа, люди, бабы, мальчишки , метонимически обозначенные священнослужители . Автор акцентирует смыслы обезличенности и отстраненности той части народа, которая изображается в виде толпы.
Другой массовой сценой в романе «Белая гвардия» является богослужение в Софийском соборе и крестный ход. Т.В. Доронина называет сцену богослужения карнавальным сборищем [3, с. 29]. Г.А. Лесскис утверждает, что молебен во здравие Петлюры метафорически изображен как сатанинское действо – такой интерпретации соответствует множество деталей в описании: упоминание бездны, поведение толпы, срав- нение колокольного звона с собачьим лаем и многое другое [4, с. 118].
Богослужение в честь Петлюры проходит при большом скоплении народа. Святость и таинство обряда нарушаются неадекватным поведением людей, их несерьезным отношением к происходящим событиям. Создавая фрагменты этой художественной картины мира, писатель заостряет внимание на таких особенностях, как численность людей и плотность их расположения.
Ср.: «Сотни голов на хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, свешивались <…>сотни голов, как желтые яблоки, висели тесным тройным слоем <…> душная тысячеголовая волна…» [7, с. 200].
Концепт НАРОД метафорически представлен в виде водной массы. Такой метафорический перенос с водной массы (в виде реки, моря или их составляющих) на массу людей в художественной картине мира М.А. Булгакова можно назвать традиционным, он прослеживается из произведения в произведение. В этом случае актуализируется смысл стихийного характера поведения людей.
Ср.: «...а на Тверской было сплошное море людей » [7, с. 362]; « Масса ещё поволновалась, как океан, и стихла» [7, с. 231]; «И в это время над гудящей, растекающейся толпой …» [7, с. 209].
Смыслы театральности и инфернально-сти писатель эксплицирует с помощью пространственной организации действия.
Ср.: «Тяжкая завеса серо-голубая, скрипя, ползла по кольцам и закрывала резные, витые, векового металла, темного и мрачного, как весь мрачный собор Софии, царские врата», «Крутясь, волнуясь, напирая, давя друг друга, лезли к балюстраде, стараясь глянуть в бездну собора <^> В бездне качалась душная тысячеголовая волна …» [7, с. 200].
Движение людей в заданном пространстве эксплицирует смысл хаоса, беспорядка, приближенного к сатанинскому вмешательству.
Ср.: «В приделе алтаря была невероятная кутерьма <…> риза витала над толпой, затем утонула в толпе », «Из боковых заколонных пространств, с хор, со ступени на ступень, плечо к плечу, не повернуться, не шелохнуться, тащило к дверям, вертело <…> Через все проходы <...> несло толпу <...> Через главный выход напролом перло и выпихивало толпу, вертело, бросало <...> Вылетел задавленный и ошалевший крестный ход... <...> Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную, вопящую кутерьму » [7, с. 201-203].
Концептуальную сферу АД составляют слова, выражения и образы, представляющие сатанинское начало, например форменная чертовщина, ну ее к дьяволу, дьявол в рясе, вопящая кутерьма.
Как пишет Ф. Баллонов, в сцене богослужения присутствуют ядовитые сатирические краски, а поведение массы людей – это восторг черни [5, с. 18].
Ср.: «Старцы божии, несмотря на лютый мороз, с обнаженными головами, то лысыми, как спелые тыквы, то крытыми дремучим оранжевым волосом, уже сидели рядом по-турецки» [7, с. 203].
Воздействие такого театрального зрелища вызывает чувство сопереживания. Фальшь, театральная неискренность прослеживается здесь в экспрессивно описанном источнике звука, вызывающем жалость.
Ср.: « Страшные, щиплющие сердца звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками » [7, с. 203].
Колокольный звон, сопровождающий церковную службу, репрезентирован с помощью развернутой концептуальной метафоры «Церковная служба – это служба сатаны». Развернутость метафоры заключается в деталях, символизирующих дьявольскую силу, и в повторяемости этих деталей.
Ср.: «Маленькие колокола тявкали, заливаясь, без ладу, без складу, вперебой, точно сатана влез на колокольню, сам дьявол в рясе и, забавляясь, поднимал гвалт. <…> Метались и кричали маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи» [7, с. 203].
Православный колокольный звон в различные моменты службы передаёт самые разнообразные чувства: радость и спокойствие, глубокую скорбь и торжество возвышенного. М.А. Булгаков, вопреки традиционному представлению о колокольном звоне, присоединяет к божественному сатанинское и добивается тем самым дискредитации церковного богослужения.
Концепт СОБАКА в традиционном представлении русского народа амбивалентен, он ассоциируется как с собачьей преданностью, так и с собачьей злобой – в этом смысле концепт можно рассматривать как один из образов сатаны. Образ дьявола в одежде священнослужителя продолжает развитие концептуальной метафоры «Действительность – это театр». Таким образом, описывая один фрагмент действительности, писатель использует две схемы метафорического переноса, одну более развернуто, многократно, вторую – свернуто, однократно.
Концепт НАРОД предстает в амбивалентном образе. С одной стороны, народ находится в своеобразном сценическом пространстве и вовлечен в игру, например коричневые с толстыми икрами скоморохи или хор в коричневых до пят костюмах . По замечанию В.А. Масловой, скоморохи являются носителями антихристианского начала [6, с. 163]. С другой стороны, пространство обладает инфернальными признаками, и находящийся в нем народ пребывает в стрессовом состоянии, которое писатель называет « страшной, вопящей кутерьмой» . Метафора создает образ распространяющегося беспорядка от кутерьмы в ограниченном локусе до хаоса в многомерном пространстве.
Итак, сцена богослужения в Софийском соборе создана с помощью нескольких концептуальных метафор: «Действительность – это ад»; «Цер- ковная служба – это служба сатаны»; «Действительность – это театр». Они заостряют внимание читателя на главных (с точки зрения автора) деталях, которые позволяют понять сущность происходящего.
Заканчивает серию массовых сцен стихийный митинг на площади у памятника Богдану Хмельницкому. М.А. Булгаков метафорически подчеркивает многолюдность с помощью ставшего для него традиционным образного определения гуща , которому придается численное значение, метонимически считаемое головами.
Ср.: «Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысячной гущи голов куда-то...» [7, с. 210].
Актуализируя мотивы поведения и действия людей как системы, писатель обращается к концептуальной метафоре «Социум – это механизм». Военное время и связанные с ним социальные изменения обезличивают людей, превращая толпу в часть механизма, у которого есть какие-то нарушения.
Ср.: «В толпе, близ самого фонтана, завертелся и взбесился винт , и кого-то били, и кто-то выл, и народ раскидывало, и, главное, оратор пропал. Кого-то вынесло из винта, а впрочем, ничего подобного, оратор фальшивый был в черной шапке, а этот выскочил в папахе. Через три минуты винт улегся сам собой …» [7, с. 213].
В выделенных метафорических единицах компонентом, связывающим прямое и метафорическое значения, является сходство по образу действия. Масса людей в качестве подвижной части механизма выдвигает над собой человека как необходимую деталь. Поставив её на нужное место, механизм саморегулируется.
В последней массовой сцене писатель отстраненно и безучастно актуализирует фрагменты картины мира, изображающие поведение массы людей. Действия народной массы ассоциируются с движением воды, частей меха- низма. Автор, таким образом, эксплицирует смыслы неопределенного вектора направленности движения народа, который ждет перемен в своей жизни и готов двигаться и развиваться, но не имеет определенной цели, поэтому, по словам самого писателя, народ возвращается к тому, от чего уходит. Эта мысль образно передается М.А. Булгаковым в лирическом размышлении о судьбе Родины, которое продолжает развивать концептуальную метафору «Действительность – это хаос» или, как вариант, «Действительность – это ад». Олицетворяя смерть и крестьянский гнев, писатель показывает эти явления как фатальную закономерность, охватывающую всю страну.
Ср.: «Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним дорогам <…> Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но, явственно видный, предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. <…> Затем началась просто форменная чертовщина, вспучилась и запрыгала пузырями. <.> Нет, задохнешься в такой стране в такое время. Ну ее к дьяволу! » [7, с. 62].
М.А. Булгаков развивает мысль А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого о характере народных выступлений. Автор «Белой гвардии» употребляет толстовскую метафору дубина народной войны в модифицированном виде. Г.А. Лес-скис отмечает, что метафорический образ дубины заимствован из «Войны и мира». Л.Н. Толстой восславил использование «дубины народной войны» в борьбе с иноземным нашествием. М.А. Булгаков с печальной иронией говорит о самоистреблении русского народа как способе осуществления перемен в жизни России [4, с. 85].
Масштабное недовольство народа, выражающееся в революционных дей- ствиях, моделируется с помощью олицетворения крестьянства в образе мужика.
Ср.: «Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдов-ски устроено на белом свете, что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке » [7, с. 62].
М.А. Булгаков, таким образом, представляет тупиковость, безвыходную зацикленность русской смуты, которую описал ещё А.С. Пушкин в «Борисе Годунове». В двадцатом веке, как и в семнадцатом, деспотизм провоцирует появление смуты, а смута провоцирует появление деспотизма – перекресток, в конечном счете, всё тот же [4, с. 85].
Символичный образ, олицетворяющий русское крестьянство, предстает в виде некоего старца Дегтяренко. Таким образом, по заключению Г.А. Лесскиса, М.А. Булгаков выразительно показал «диалектику» русской революции, которая заключается в неизбежной направленности кровавого террора против основной массы того самого «народа», ради «свободы» и «счастья» которого была развязана революция [4, с. 85].
Ср.: «По дорогам пошло привидение – некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными и каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомполами…» [7, с. 60].
Показывая пренебрежительное отношение дворянского класса к крестьянству, М.А. Булгаков использует обобщающую метафорическую номинацию мужички-богоносцы Достоевские , вкладывая в это выражение иронию. Таким способом писатель показывает свой взгляд на идею Ф.М. Достоевского о богоизбранности русского народа.
Сфера «Общество» представлена группой концептуальных метафор, ха- рактеризующих людей общества и представление писателя о действительности, которая сложилась на данном этапе развития общества: «Организованные люди – это механизм», «Неорганизованные люди – это водная стихия», «Действительность – это театр», «Действительность – это ад», «Действительность – это хаос», «Церковная служба – это служба сатаны», «Политика – это игра», «Политика – это цирк».
Таким образом, анализ материала показал, что сфера «Общество» представлена различными модификациями концепта НАРОД. Метафорическая составляющая концепта НАРОД формируется у М.А. Булгакова с помощью переноса «Организованные люди – это механизм» и «Неорганизованные люди – это водная стихия». В основе такой метафоры в первом случае лежит представление о логичной и закономерной системе организации, а во втором случае лежит представление о стихийной силе, не поддающейся регулирующему воздействию.
Современные достижения лингвистики позволяют рассматривать метафору в художественной картине мира как способ познания действительности и концептуализации мира.
Когнитивное направление в исследовании художественной картины мира обращается к идиостилю как к сложной системе, отражающей знания писателя о действительности, воплощенные в его произведениях в виде индивидуально-авторской картины мира. Художественная картина мира М.А. Булгакова отображает социальные и исторические процессы сквозь призму ментальных и психических ресурсов сознания писателя.
Концептуальные метафоры, составляющие в художественной картине мира глобальную сферу СОЦИУМ, обладают глубоким прагматическим смыслом. Происходящие события писатель раскрывает на трех уровнях: государственности, военной организации и на общественном уровне.
На уровне государственности (как внутренней, так и внешней политики) действительность отражают метафорические модели, акцентирующие смысл игры: «Действительность – это игра».
На уровне военной организации: роль многочисленных армий в действительности гражданской войны отразилась в метафорическом переносе «Армия – это сила», «Армия – это туча», «Армия – это река», что имеет скрытое стратегическое значение. Процесс разрушения белой гвардии последовал за предательством собственной армии гетманом. Метафорически этот процесс описан в трансформации целого ряда образов, которая заканчивается образом простой массы людей, внешне не имеющих отношения к армии. Разрушение немецкой военной организации последовало за убийством их лидера на занятой территории. Немецкая армия, наделенная эпитетами артефактной метафоры, стала постепенно саморазрушаться. Господство петлюровской армии, метафорически представленное в образах природных сил, также оказалось конечным, ибо состояния в природе цикличны и даже самые страшные для человека стихийные бедствия заканчиваются.
На общественном уровне действительность отражает несколько метафорических моделей, так как общество представляет собой сложную внутреннюю систему, в которой разные стороны деятельности моделируются с помощью различных сфер. Общество, участвующее в политических событиях, является участником театрального действия. Общество, участвующее в организованном митинге, проявляет себя как механизм. Общество, участвующее в церковной службе, является представителем ада. Неорганизованное общество, занимающее огромное пространство, проявляет себя как водная стихия.
Таким образом, в разных сферах жизнедеятельности поведение общества развивается предсказуемо, по закономерному сценарию.
Во всех трех сферах, составляющих глобальную сферу СОЦИУМ, действительность представлена двумя концептуальными метафорами: «Действитель ность – это игра» и «Действительность – это ад». Таким образом, писатель развенчивает сущность происходящего, которая заключается в том, что СОЦИУМ проводит время в каких-либо занятиях, служащих для развлечения, отдыха или спортивного состязания, что приводит к тяжелым невыносимым условиям существования, хаосу в самом СОЦИУМЕ.
Список литературы Подтекст и скрытые смыслы понятия социум в политике и в жизни
- Лакофф, Д., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живем [Текст]/Д. Лакофф, М. Джонсон//Теория метафоры/под ред. Н.Д. Арутюновой. -М.: Прогресс, 1990. -С. 387-415.
- Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст]/С.И. Ожегов. -Екатеринбург, 1994. -800 с.
- Доронина, Т.В. Личность и масса в романах М.А. Булгакова [Текст]: дисс. … канд. филол. наук/Т.В. Доронина. -М.: Орел, 2002. -222 с.
- Лесскис, Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции («Белая гвардия», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита») [Текст]/Г.А. Лесскис. -М., 1999. -304 с.
- Балонов, Ф. Песни лирников в «Белой гвардии» М.А. Булгакова/Ф. Балонов//Новое литературное обозрение. -2000. -№ 4. -С. 8-13.
- Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика [Текст]: учеб. пособие/В.А. Маслова -Мн.: ТетраСистемс, 2004. -256 с.
- Булгаков, М.А. Романы. Белая гвардия. Театральный роман (Записки покойника). Мастер и Маргарита [Текст]/М.А. Булгаков. -М.: Современник, 1988. -750 с.