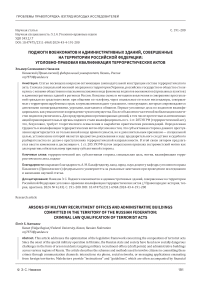Поджоги военкоматов и административных зданий, совершенные на территории Российской Федерации: уголовно-правовая квалификация террористических актов
Автор: Намазов Э.С.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей
Статья в выпуске: 4 (43), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам оптимизации законодательной конструкции состава террористического акта. С начала специальной военной операции на территории Украины, российское государство и общество столкнулись с новыми общественно опасными вызовами в виде феномена поджогов военкоматов (призывных пунктов) и административных зданий в регионах России. Описаны схемы и методики вовлечения в совершение преступлений граждан по средствам связи: при общении по телефону, через социальные сети или мессенджеры, совершаемые с территории зарубежных стран; злоумышленники дают «указания», «инструкции», которые сопровождаются денежными вознаграждениями, угрозами, шантажом и обманом. Первые уголовные дела по поджогом квалифицировались как умышленное повреждение чужого имущества. После объявления частичной мобилизации количество поджогов увеличилось. Для предупреждения противоправных деяний, в том числе протестных и антивоенных акций правоохранительные органы поджоги стали квалифицировать по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), что, безусловно, требует теоретического осмысления и выработки практических рекомендаций. Определенная трудность в квалификации террористических актов обусловлена тем, что субъективная сторона данного преступления характеризуется не только виной в виде прямого умысла, но и дополнительным признаком - специальной целью, установление которой является предметом доказывания в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства по делам о преступлениях террористической направленности. В этой связи автором предлагается ввести изменения в диспозицию ч. 1 ст. 205 УК РФ путем закрепления признака экстремистский мотив как альтернативы обязательному признаку субъективной стороны.
Террористический акт, субъективная сторона, специальная цель, мотив, квалификация террористического акта, поджог
Короткий адрес: https://sciup.org/14132351
IDR: 14132351 | УДК: 343.2/.7 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-43-4-191-200
Текст научной статьи Поджоги военкоматов и административных зданий, совершенные на территории Российской Федерации: уголовно-правовая квалификация террористических актов
С марта 2022 года по всей России прокаталась волна акций гражданского неповиновения и протестов, которые сопровождались поджогами военкоматов, административных зданий и зданий учреждений силовых ведомств на фоне начавшейся специальной военной операции (далее — СВО) на Украине силами регулярной армии России и добровольческих формирований․ Поджоги в большинстве своем не имели единой координации, совершались спонтанно различными субъектами (как правило, студентами одиночками, учителями, пенсио-нерами)․ В редких случаях ответственность за поджоги брали на себя ультраправые неонацистские движения (например, украинское военизированное объединение Легион «Свобода России» 1 ) или лица, противопоставляющие себя действующей власти (антивоенные активи-сты)․ Безусловно, это новое явление представляет угрозу общественной безопасности и государству․
После объявления 21․09․2022 Президентом России В․ В․ Путиным частичной мобилизации, которая нередко проходила с нарушением закона (например, мобилизовывали мужчин старше определённого в законе возраста, а также имеющих заболевания, которое предполагает отсрочку и т․ д․2) и распространением заведомо ложной информации (например, слухи о том, что солдаты, проходящие срочную службу, будут участвовать в боевых действиях на территории Украины, искажения сведений о потерях российских войск из числа мобилизованных), очаги возгорания военкоматов в различных регионах России продолжились․
Описание исследования
Наиболее общественно опасной из форм терроризма является террористический акт․ Статья 205 УК РФ размещена в разделе IX в 24 главе «Преступления против общественной безопасности» — общественная безопасность выступает родовым объектом данной нормы; другим составляющим элементом родового объекта является общественный порядок, который направлен на поддержание общественного спокойствия․
Объектом терроризма является общественная безопасность (отношения, обеспечивающие безопасность непосредственно членов общества) [1, с․ 60; 2, с․ 106]․
Противоположную позицию занимает В․ П․ Емельянов, считающий, что нарушение общественной безопасности выступает для террористов хотя и первоочередным, но не основным, а второстепенным фактором посягательства на другой объект в сложном составном преступлении [3, с․ 190–192]․
В этой дискуссии как наиболее корректной представляется позиция Ф․ Р․ Сундурова, который пишет: «Непосредственным объектом состава террористического акта выступает состояние защищенности жизненно важных интересов личности общества и государства от разных угроз общественного характера [4, с․ 496]․
В то же время террористические акты ставят под угрозу жизнь и здоровье людей; дополнительным объектом могут выступить жизнь и здоровье людей, отношение собственности, нормальное функционирование институтов органов власти, собственность․
Ряд авторов относит ст․ 205 УК РФ к числу многообъектных преступлений [3, с․ 192; 5, с․ 208; 6; 7], как правило, посягательство на одну группу отношений всегда влечет нарушение смежных общественных отношений․
В литературе отмечается, что круг адресатов воздействия, предусмотренный ч․ 1 ст․ 205 УК РФ, необоснованно узок: оно может оказываться на органы местного самоуправления (хотя они не входят в систему органов государственной власти) и иностранные государства (при международном терроризме)․ Предлагается дополнить ч․ 1 ст․ 205 УК РФ признаками, указывающими на эти и другие социальные и государственные институты, которые позволяют полноценно оценивать проявление как «внутреннего», так и «международного» терроризма [8]․
В ст․ 3 Федерального закона от 06․03․2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 1 среди адресатов воздействия указаны органы местного самоуправления․ Полагаем, целесообразно добавить в диспозицию ч․ 1 ст․ 205 УК РФ текст «органы местного самоуправления»․
С объективной стороны террористический акт, предусмотренный ст․ 205 УК РФ, может совершаться двумя альтернативными способами: 1) совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели людей человека, причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий и 2) угроза совершения указанных действий [4, с․ 464; 9, с․ 375]․
Устрашающими население могут быть признаны такие действия, которые по своему характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность имущества и т․ п․2 Устрашение является сущностным свойством терроризма в целом․
Некоторые авторы предлагают не выделять цель террористического акта как «устрашение населения», так как это не конечный результат, а средство его достижения [10, с․ 20–21; 11, с․ 187]․
Другие авторы, считают «устрашение» промежуточной целью, которая являются определенным этапом в процессе достижения главной цели террористического акта — оказания воздействия на органы власти [12, с․ 24]․
В․ В․ Мальцев высказал мнение о возможности осуществления террористического акта путем бездействия (например, посредством невыполнения обязанностей, связанных со своевременным отключением производственных или технологических процессов энергетике, на транспорте либо в добывающей промышленности) [2, с․ 104]․ Данное мнение не вытекает из закона, но исключать такую вероятность не следует․
При описании объективной стороны ст․ 205 УК РФ было бы корректнее заменить термин «действия» на «деяние», последний охватывает как действие, так и бездействие [13, с․ 17; 14, с․ 139; 15, с․ 8]․
В литературе встречается справедливое утверждение [2, с․ 104–105; 14, с․ 140; 15, с․ 6–8; 16, с․ 15; 17; 18, с․ 10, 19; 19, с․ 12; 20, с․ 20], что две формы террористического акта по уровню общественной опасности несоразмерны, поскольку законодатель не разграничивает реального применения (взрывов, поджогов) и угрозы их применения; в этой связи предлагают выделить угрозу в самостоятельный состав преступления с дифференциацией ответственности․ Поддерживая данное положение, отметим, что очевидна разница по сравнению степени общественной опасности убийства (ст․ 105 УК РФ) и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст․ 111 УК РФ) с одной стороны, и угрозы убийством или умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (ст․ 119 УК РФ) с другой․ Было бы необоснованно ставить знак равенства между данными преступлениями․
К иным действиям можно отнести разрушение зданий, религиозных сооружений, затопления, обвалы, химическое или биологическое заражение местности, воды и т․ д․
Субъектом террористического акта признается вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста․
Субъективная сторона террористического акта характеризуется прямым умыслом и специальной целью дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений — на это обращает внимание пункт 1 постановления Пленума Верховного суда РФ от 09․02․2012 № 1․ При отсутствии специальной цели квалификация по ст․ 205 УК РФ исключается․
Посягательство на жизнь и здоровье другого человека путем производства взрыва, поджога или иных действий подобного характера, совершенные по мотиву мести или личных неприязненных отношений и не преследующее дестабилизацию деятельности органов власти или международных организации либо воздействия на принятия ими решений, не образует состава террористического акта и должно квалифицироваться по соответствующим статьям Особенной части УК РФ [4, с․ 466]․
Согласно пункту 9 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27․01․1999 № 1, такие преступления квалифицируются по пп․ «а», «е» ч․ 2 ст․ 105 УК РФ как совершенные общеопасным способом․ В тех случаях, когда убийство путем взрыва, поджога и иным общеопасным способом сопряжено с уничтожением или повреждением чужого имущества, содеянное, наряду с п․ «е» ч․ 2 ст․ 105 УК РФ, следует квалифицировать по ч․ 2 ст․ 167 УК РФ․
Состав преступления, предусмотренного ст․ 205 УК РФ формальный , оконченным террористический акт признается в момент совершения любого из образующих объективную сторону действий; не требуется фактического наступления указанных в ч․ 1 ст․ 205 УК РФ последствий, необходимо лишь, чтобы данные действия создали реальную угрозу опасности гибели людей и иных общественно опасных последствий․
В качестве возможных последствий террористического акта в ч․ 1 ст․ 205 УК РФ указывается причинение значительного имущественного ущерба. При его толковании специалисты исходят из различных пози-ций․ По мнению А․ В․ Наумова размер имущественного ущерба зависит от стоимости ущерба с учетом реальной значимости уничтоженных материальных ценностей [9, с․ 376]․ М․ Ф․ Мусаелян считает допустимым исходить при оценке фактического имущественного вреда из примечания ч․ 2 к ст․ 158 УК РФ [21]․ В․ В․ Мальцев, напротив, полагает, что «нельзя социальное содержание и тяжесть терроризма выражать в законе через опасность причинения ущерба» [2, с․ 105]․ Другие авторы [13, с․ 18; 20, с․ 10] предлагают и вовсе исключить термин «значительный имущественный ущерб» из диспозиции ст․ 205 УК РФ, так как он подразумевает другое значение, чем в статьях против собственности1․
Весьма спорным представляется решение, предусматривающее неосторожную вину в п․ «б» ч․ 2 ст․ 205 УК РФ (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека) — едва ли в таких ситуациях правомерно вести речь о нежелании наступления того или иного последствия — поскольку очевидно, что при совершении терактов виновные допускают разнообразные общественно опасные последствия, включая самые тяжкие, в том числе смерть даже не одного, а многих потерпевших; взрывы и поджоги не могут иметь места при отрицательном отношении к смерти потерпевших, как это предполагает неосторожная форма вины, они совершаются при желании виновного и направлении усилий на этот результат․
Т․ С․ Коваленко считает, что «осознание общественной опасности деяния исключает возможность неосторожного отношения к последствиям, находящимся с ним в необходимой причинной связи»․ Предлагает исключить из квалифицирующих признаков, содержащихся в составах с двумя формами вины, в том числе п․ «б» ч․ 2 ст․ 205 УК РФ [22]․
Первоначально поджоги военкоматов квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества или хулиганство․ Например, 27․02․2023 Советский районный суд г․ Волгограда приговорил Сердюка Д․, 1993 г․р․, по ч․ 2 ст․ 167 и ч․ 2 ст․ 213 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего ре-жима․ Судом установлено, что в ночь 14․05․2022 Сердюк из хулиганских побуждений по мотивам политической ненависти, поджег самодельные зажигательные устройства (далее — СЗУ) и забросил их через оконный проем в бытовое помещение военкомата в Советском районе г․ Волгограда, в результате чего произошло возгорание помещения площадью 16 кв․ м, ущерб составил 1 022 229,60 рублей2․ Суду обвиняемый Сердюк заявил, что стремился выразить отрицательное отношение к СВО, целью поджога было, чтобы военкомат перестал функционировать, помещать набору призывников, желал остановить боевые действия3․
По неопубликованным данным МВД России в период с 24․02․2022 по 20․01․2023, то есть с момента начала проведения СВО было зарегистрировано 76 противоправных деяний, в том числе попыток повреждений, поджогов иных форм вандализма в отношении военных комиссариатов и других объектов министерства обороны России в 49 субъектах РФ․ По другим данным по состоянию на 28․06․2023 произошло не более 164 атак на объекты, связанные с государственными органами, из них в 90 случаях нападению подвергались военкоматы 4 ․
Впоследствии поджоги военкоматов стали квалифицироваться по ч․ 3 ст․ 30, ч․ 1 ст․ 205 УК РФ (покушение на террористический акт) или ч․ 1 ст․ 205 УК РФ (террористический акт) предусматривающие длительные сроки лишения свободы․
При квалификации данного вида преступления правоприменители в большинстве случаев исходят из объективной стороны, а не из специальной цели, т․ е․ признаков субъективной стороны․
Правозащитники отмечают, что любые акции прямого действия вне зависимости от тяжести последствий вызывают максимально жесткую реакцию властей5․
10․04․2023 Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге Насыров Р․, 1995 г․р․ и Нуриев А․, 1985 г․р․, осуждены по п․ «а» ч․ 2 ст․ 205 УК РФ и ст․ 205․3 УК РФ (прохождение обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности) к 19 годам лишения свободы, из которых 4 года — с отбыванием в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима․
По версии обвинения после объявления частичной мобилизации Насыров и Нуриев, являясь сторонниками радикальных анархистских взглядов, противниками частичной мобилизации, испытывающих ненависть к конституционному строю России, государственной и муниципальной власти, а также ее населению, вступили в преступный сговор и начали искать информацию об изготовлении «коктейлей Молотова» и методике их исполь-зования․ Затем изготовили их и отработали навыки метания, после чего совершили действия, направленные на срыв проводимых администрацией мобилизационных мероприятий и прекращение СВО путем устрашения населения, создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий в виде уничтожения имущества и документации органов власти․ 11․10․2022 указанные лица бросили два СЗУ по типу «коктейля Молотова»
в здание администрации г․ Бакал Челябинской области, где находился военно-учётный стол․ В результате пострадали фрагменты линолеума на полу 0,3 кв․ м и 0,1 кв․ м, очаги возгорания были своевременно ликвидированы 1 ․
В настоящее время отсутствуют разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по вопросу единообразного применения законодательства Российской Федерации, в части квалификации поджогов военкоматов и административных зданий․ Согласно ч․ 4 ст․ 19 Федерального конституционного закона от 31․12․1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»2 Верховный суд России обеспечивает единообразную судебную практику․
Среди способов совершения рассматриваемого преступления на фоне проводимой СВО, можно привести пример, когда лица до совершения ими преступления подвергались психологической обработке со стороны заинтересованных лиц (зарубежных спецслужб), последние заставляют или убеждают своих жертв под предлогом возврата ранее похищенных мошенническим способом денежных средств или угроз физической расправы в отношении близких родственников поджигать административные здания исполнительной власти или социальные объекты инфраструктуры, иногда злоумышленники заставляли своих жертв выкрикивать антивоенные или проукраинские лозунги․
В период с 29 по 31 июля 2023 года в Российских регионах была совершена целая серия поджогов воен-коматов․ В Республике Татарстан г․ Казани в указанный период было совершено более четырех попыток поджогов военкоматов․ Так, 25․07․2023 в отношении жительницы г․ Казани Аскольской Т․ 1961 г․р․, были совершены мошеннические действия со стороны неустановленных лиц, которые представлялись сотрудниками силовых структур России, которая оформила кредит в пяти банках и перевела дистанционно злоумышленникам 2 200 000 рублей․ В полицию она по факту мошенничества не обращалась․ 29․07․2023 около 22 час․ 00 мин․ с ней по сотовому телефону вновь связалось неустановленное лицо, представившись сотрудником правоохранительных органов, которое стало угрожать физической расправой её дочери, проживающей в другом городе, вынудило совершить поджог военкомата․ По указанию неустановленного лица Аскольская купила 3 литра бензина на заправке, далее направилась в сторону военкомата․ 29․07․2023 в 23 час․ 20 мин․ Аскольская, находясь в эмоционально-подавленном состоянии, выполнила требования злоумышленника, облила фасад здания военного комиссариата Кировского и Московского районов г․ Казани горючей жидкостью и подожгла её, в результате чего произошло возгорание площади 17,07 кв․м․
В момент поджога женщина общалась с неустановленным лицом по видео-звонку․ Преступные действия Ас-кольской были пресечены сотрудниками полиции, очаг возгорания ликвидирован․ По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч․ 3 ст․ 30, ч․ 2 ст․ 167 УК РФ․
05․08․2023 Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых по ч․ 1 ст․ 205 УК РФ Токоревой Л․, 1954 г․р․ и Арефьева А․, 1989 г․р․, которые 01․08․2023 подожгли неэксплуатируемое здание военкомата комиссариата Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ․ В пресс-службе Следственного комитета России по Бурятии заявили: «Задержанные пояснили следствию, что пошли на преступление под воздействием неких лиц, которые по телефону ввели их в заблуждение и побудили к поджогу военкомата» 3 ․
Нередки случаи вербовки исполнителей через социальные сети и мессенджеры с предложением соответствующей оплаты и с обязательным условием предоставить видео самого поджога․ Например, уголовное дело в отношении Борисенко В․, 2003 г․р․ и Гаврилише-на В․, 2002 г․р․, 4 которые за поджог военного комиссариата г․ Нижневартовска, получили на криптокошелек 700 000 рублей от лица, связанного с Центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины5 (само видео поджога было опубликовано на одном из украинских информационных порталов)․
31․01․2023 Центральный окружной военный суд признал Борисенко виновным в преступлении, предусмотренном по п․ «а» ч․ 2 ст․ 205 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы 12 лет в исправительной колонии строгого режима 6 ․ 05․07․2023 суд приговорил Гав-рилишена по аналогичной статье к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима 7 ․
Иногда антивоенные активисты путем поджога пытались привлечь внимание к проводимой Россией СВО, при этом совершали преступление как символические акции по идеолого-политическим мотивам․ Например, 15․03․2023 2-м Западным окружным военным судом осужден Бутылин К․ по п․ «в» ч․ 2 ст․ 205, ч․ 2
ст․ 205․2, ч․ 2 ст․ 214 УК РФ к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме․ Судом установлено, что 28․02․2022 Бутылин разбил окно здания объединенного военкомата Луховиц и Зарайска, расположенного в городе Луховицы Московской области, и бросил СЗУ типа «коктейль Молотова», а на воротах нарисовал флаг Украины․ Видео акции и свой антивоенный манифест Бутылин успел выложить в сеть, но вскоре был задержан․ Представитель военного ведомства в суде заявила, мотивом Бутылина стала «политическая ненависть против СВО», которая вылилась в «намерение осквернить сооружения военного комиссариата» 1 ․
Изощренные «заказчики» вовлекают в террористические преступления несовершеннолетних — путем воздействия на психику, которые за денежные средства готовы выполнить любое задание (в виде игры, шалости) от уничтожения имущества (например, поджег военкомата, военной техники, релейного шкафа на железной дороги, баннера с латинской буквы «Z» или автомашины с изображением буквы «Z») до причинение тяжкого вреда здоровью․ Поиск детей-исполнителей происходит в даркнете или с помощью мессенджера «Телеграм»․ В телеграмм-каналах появляются объявления о поиске исполнителей заказа (так называемые «спортики», «дроперы» и т․ п․) с конкретной инструкцией и объявленным вознаграждением․
Авторы, исследующие указанные составы преступлений, пишут, что размещение ст․ 205 УК РФ в главе 24 «Преступления против общественной безопасности» является не совсем удачным: в соответствии с действующим законодательством террористическая деятельность является разновидностью экстремизма, поэтому было бы логично размещение её в главе 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» [23, с․ 100]․
Напротив, А․ Г․ Хлебушкин предлагает в п․ 1 ст․ 1 Федерального закона от 25․07․2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»2 исключить из формы экстремизма указание на террористическую деятельность и публичное оправдание терроризма, которые представляют собой самостоятельные явления в фактическом и юридическом плане․ Смешение экстремизма и террористической деятельности привело к возникновению ряда проблем, связанных с привлечением к ответственности за участие в террористической и экстремистской организациях․ Предложенное законодателем юридическое разделение, полагает этот автор, позволяет избежать дублирования в правоприменительной деятельности [24, с․ 7–8]․
А․ Б․ Мельниченко предложила раздел Х УК РФ изложить в иной редакции: «Преступления против национальной безопасности РФ», перенести ст․ 205, 205․1, 205․2, 206, 207, 208, 212 в гл․ 29 УК РФ («Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства») [25, с․ 112]․ Представляется, что разделение законодателем институтов ответственности за терроризм и экстремизм представляется не совсем удачным․ Основа уголовных дел по преступлениям террористической направленности в большинстве случаев имеет экстремистско-политическую окраску, нежели террористическую, они фактически посягают на основы конституционного строя, а не на общественный порядок и безопасность․ Как правило, рассматриваемые преступления совершают не профессиональные боевики-террористы, а обычные студенты, пенсионеры, критики действующей власти в сети Интернет․ К сожалению, государство больше борется с инакомыслием, нежели с профессиональными преступниками, исповедующими радикальные идеи․
В․ А․ Кузнецов предлагает вовсе отказаться от политизированного термина «терроризм» в пользу более нейтрального «вооруженный экстремизм» или «насильственный экстремизм», указывающих на деятельность политических акторов, обладающих следующими признаками: негосударственный характер, радикальная идеология (экстремизм), предполагающая отрицание существующий государственной системы и приверженность к насильственным формам борьбы [26, с․ 139]․
Терроризм — это крайнее или наивысшее проявление экстремизма (от лат․ extremus — «крайний, чрез-мерный»)․ Ряд исследователей говорят о тесной связи экстремизма и терроризма: действия террориста основаны на экстремистской идеологии, которая претворяется в жизнь наиболее общественно опасными способами [27, с․ 8; 28, с․ 11, 27]․ По мнению А․ И․ Рарога, данные явления не только взаимосвязаны, но и взаимопроникающие (терроризм обладает всеми специфическими признаками экстремизма) [29, с․ 159]․ Таким образом, экстремизм выступает по отношению к терроризму как понятие родового уровня, а терроризм является разновидностью экстремизма [30, с․ 30]․
Поскольку терроризм обладает всеми признаками экстремизма, закономерно возникает вопрос об отграничении преступлений, которые обладают одновременно как признаками экстремизма, так и терроризма․
Действующее российское законодательство не знает составов, которые отражали бы факт совершения преступлений террористического характера с признаками экстремизма, то есть по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а тем более в составе экстремистского сообщества или организации — такие деяния необходимо квалифицировать по совокупности преступлений․
Раздел IX в гл․ 24 УК РФ содержит составы, предусматривающие экстремистские мотивы («д» ч․ 2 ст․ 207․3, ч․ 2 ст․ 214 УК РФ), что отягчает ответственность (п․ «е» ч․ 1 ст․ 63 УК РФ)․
В литературе высказано мнение о том, что публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии Российской Федерации (ст․ 207․3 УК РФ) надо рассматривать в качестве террористического преступления, нового проявления террористической деятельности [31, с․ 811]․
По целому ряду уголовных дел суды констатируют в приговоре наличие экстремистских мотивов как идеологическую основу преступлений террористической направленности, но не дают этому надлежащей уголовно-правовой оценки․
Например, 2-й Западный окружной военный суд 29․03․2023 приговорил жителя Калининграда Попова В․, 1978 г․р․ по ч․ 1 ст․ 30, ч․ 1 ст․ 205, ч․ 1 ст․ 223․1 и ч․ 1 ст․ 222․1 УК РФ к лишению свободы на срок 9 лет, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима1․ Из обвинительного заключения следует, что Попов «с целью устрашения населения России, создания опасности гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, а также воздействия на принятие органами власти России решения о прекращении дальнейшего проведения СВО на территории Украины, планировал совершить террористический акт в воинской части накануне Дня Победы, после поехать воевать на стороне Вооруженных сил Украины»2․ 06․05․2022 Попов был задержан сотрудниками ФСБ, в ходе обыска по месту его жительства изъяты взрывчатые вещества, экстремистская символика «Правого сектора»3 и флаг Украины, сотовый телефон в котором была переписка, подтверждающая его намерение совершить террористический акт․ В ходе предварительного следствия установлено, что Попов являлся сторонником запрещенного в России радикального движения «Правый сектор» («воинствующий национализм», основывающегося на идеях Бондеры С․)․ В период с 2012 г․ по 2015 г․ он принимал активное участие в сепаратистском движении национал-монар-хической структуры «Балтийский авангард русского сопротивления» (БАРС)4, поддерживающей фашистскую идеологию, выступающую за восстановление монархии и отделение региона от России․ Несмотря на явную экстремистскую идеологию, мотивы, деяние не получили уголовно-правовой оценки․
На практике много случаев, когда экстремисты совершают взрывы, не выдвигая каких-либо требований к государственным органам власти․ Например, 31․05․2018 в здании УФСБ России Архангельска несовершеннолетний Жлобицкий М․, 2001 г․р․, совершил самопод-рыв․ По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело (по ч․ 1 ст․ 205, ч․ 1 ст․ 222․1 УК РФ), которое прекращено в связи с гибелью подозреваемого5․
Квалификация по делу архангельского подрывника полностью соответствует уголовно-политической сущности этого преступления с точки зрения внешних проявлений и последствий, но не согласуется с законодательной характеристикой террористического акта, так как обязательным признакам субъективной стороны являются специальная цель․ Именно специальная цель в ст․ 205 УК РФ является ключевым признаком субъективной стороны и позволяет отграничивать от иных смежных составов 6 ․
По мнению некоторых правозащитников, уголовные дела, связанные с поджогами военкоматов, не должны квалифицироваться как террористический акт — они считают такие дела политически мотивированными (для устрашения антивоенных активистов), а приговоры — чрезмерно жестокими 7 ․
По уголовным делам, связанных с поджогами военкоматов и административных зданий, возникают трудности в установлении и доказывании обстоятельств, влияющих на квалификацию․ Оперативным сотрудникам и следователям требуется доказывать и выяснять цель действий виновного, а также его предшествующее преступлению и последующее поведение․ При отказе от дачи показаний подозреваемым или обвиняемым (ст․ 51 Конституции РФ) затрудняется вменение ст․ 205 УК РФ․ В данном случае обвинение опирается на технические мероприятия (например, переписка в социальных сетях)․ В этой связи представляется целесообразным включение экстремистских мотивов как альтернативу цели в диспозиции состава террористического акта․
Иногда виновные лица, обвиняемые в поджогах военкоматов, после дачи признательных показаний бездоказательно заявляют о применении к ним недозволенных методов допроса — якобы оперативные сотрудники требовали признать, что действовали по указанию зарубежных кураторов, а также оговаривать себя и называть цель и мотивы преступления, которые помогают закрепить доказательственную базу для квалификации по ст․ 205 УК РФ: «дестабилизировать социально-политическую обстановку в России», «по мотивам политической нетерпимости проводимой Вооруженными силами России СВО», «являясь противником мобилизации» (например, антивоенные активисты Кудряшов И․ 1 из Твери, Бегоян А․2 из Чебоксар, Важдаев О․ 3 из Краснодара, Бабурин И․ из Новосибирска 4 и др․, заявляли о применении к ним пыток со стороны оперативных сотрудников с целью признания финансирования их со стороны Украины для совершении поджогов военкоматов или организации поджогов военкоматов)․ Россия является правовым государством, данные методы недопустимы независимо от позиции обвиняемого․
По мнению некоторых ученных террористы могут руководствоваться различными по своему характеру мотивами: политическими, этническими, религиозными, корыстными и др․ На квалификацию террористического акта они не влияют, но должны учитываться судом при индивидуализации наказания [4, с․ 446; 8]․
В свете последних событий и нового массового явления поджогов военкоматов, причины которых в большей массе содержат в себе с одной стороны политические и экстремистские мотивы (они находят проявления в виде антивоенных акций, выступление против проведения СВО и мобилизации), с другой — корыстные побуждения, поскольку эти преступления совершаются за материальное вознаграждение․
По мнению А․ И․ Рарога, отсутствие в ст․ 205 УК РФ указания на экстремистский мотив следует рассматривать как пробел в законе, не позволяющий дать надлежащую уголовно-правовую оценку террористическому акту, который совершается по экстремистским мотивам и не сопровождается целями воздействия на принятие решений органами власти или международными орга-низациями․ Чтобы восполнить указанный пробел, автору представляется необходимым придать террористическому акту качество альтернативно-экстремистского преступления [32, с․ 69]․ Заслуживает внимания мнение некоторых ученных о включении в число квалифицирующих признаков террористического акта (ч․ 2 ст․ 205 УК РФ) такого признака как мотив ненависти и вражды [33, с․ 743; 34, с․ 10–11]․ В целом мы солидарны с изложенной позицией, но оно небезупречно и требует теоретического осмысления и доработки․
Проведенный анализ показывает, что признак цели в террористическом акте позволяет его отграничивать от других смежных составов преступлений․ При отсутствии главного признака субъективной стороны — специальной цели, — нельзя деяние квалифицировать как террористический акт и привлекать виновных лиц по статье 205 УК РФ․ Существующее положение дел с точки зрения уголовного закона противоречит принципу справедливости (ст․ 6 УК РФ)․ Из-за пробелов в законодательстве не должны нарушаться права и свободы человека, иначе это приводит к вольностям со стороны правоохранительных органов в правоприменительной практике: все это лежит в основе включения репрессивного механизма государства, который приводит к страданиям населения․ Уголовный закон должен отвечать своему социальному предназначению, формироваться в соответствии с правилами юридической техники, правильно применяться․
Заключение
Подводя итоги, полагаем необходимым изложить основные выводы:
1․ Дополнить ст․ 205 УК РФ после слов:
-
— «органов власти» словами: «органов местного самоуправления»;
-
— после слов «воздействия на принятие ими решений» дополнить словами: «либо совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»;
-
2․ Выделить угрозу совершения террористического акта из ст․ 205 УК РФ в самостоятельною статью 205․1․1․ «Угроза совершения террористического акта» с дифференцированной ответственностью;
-
3․ Исключить пп․ «б», «в» ч․ 2 ст․ 205 УК РФ, предусматривающие признаки «повлекшие по неосторожности смерть человека» и «повлекшие причинение значительного имущественного ущерба»․
Список литературы Поджоги военкоматов и административных зданий, совершенные на территории Российской Федерации: уголовно-правовая квалификация террористических актов
- Курбанмагомедов А. А. Терроризм на Северном Кавказе: Уголовно-правовой и криминологический анализ: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Курбанмагомедов Арслан Абулмуслимович. Саратов, 2005. 206 с.
- Мальцев В.В. Терроризм: проблема уголовно-правового урегулирования // Государство и право. 1998. №8. С. 104-107.
- Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовые исследование. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 291с.
- Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан, И. А. Тарханова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2020. 992с.
- Уголовное право России: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / под ред. доктора юридических наук, профессора А. Н. Игнатова и доктора юридических наук, профессора Ю. А. Красикова. Москва: НОРМА, 2000. 816 с.
- Магомедов Т. М.-С. Уголовно-правовые аспекты отграничения состава преступления по статье 208 УК РФ от смежных составов преступлений и иных правонарушений // Современное право. 2010. № 8. С. 110-114.
- Щеглов А. В. Анатомия терроризма: проблемно-психологический анализ // Право и политика. 2000. № 5. С. 42-51.
- Мусаелян М. Ф. Цель как признак терроризма // Законность. 2010. № 6 (908). С. 38-40.
- Наумов А. В. Российское уголовное право: Курс лекций. Т.2. Общая часть. Москва: Юридическая литература, 2004. 832с.
- Овчинникова Г. В. Терроризм / науч. ред. проф. Б. В. Волженкин. Санкт-Петербург, 1998. 36 с.
- Станкевич А. М., Пушкин А. В. Особенности криминологического портрета личности современного террориста // Известия ТулГУ Экономические и юридические науки. 2016. № 2-2. С. 185-190.
- ЕрмаковаЛ., Комарова М. Цель как признак терроризма // Уголовное право. 2002. № 2. С. 22-24.
- Комарова М.А. Терроризм в уголовном праве России: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2003.25 с.
- Шевченко И. В. Уголовная ответственность за террористическую деятельность: монография. Москва: Юрлит-информ, 2011.176с.
- Сопов Д. В. Уголовная ответственность за терроризм: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Сопов Дмитрий Викторович. Москва, 2004. 24 с.
- Козаев Н. Ш. Современные проблемы уголовного права, обусловленные научно-техническим прогрессом: автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Козаев Норад Шотаевич. Краснодар, 2016. 61с.
- Гаухман Л. Д. Уголовно-правовая борьба с терроризмом // Законность. 2001. № 5. С. 5-7.
- Галачиева М. М. Уголовно-правовой анализ террористического акта: законодательные и теоретические аспекты: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Галачиева Мадина Маратовна. Москва, 2010. 25с.
- Мусаелян М. Ф. Террористический акт: уголовно-правовой аспект: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мусаелян Марат Феликсович. Москва, 2007. 28с.
- Ивлиев С.М. Уголовно-правовые средства противодействия терроризму: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ивлиев Сергей Михайлович. Москва, 2008. 27с.
- Мусаелян М. Ф. Объективная сторона террористического акта: толкование, квалификация, совершенствование // Адвокат. 2010. № 7. С. 47-56.
- Коваленко Т. С. Российская уголовная политика и проблемы ее реализации // Российский следователь. 2019. № 8. С. 38-41.
- Дьяков С. В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2012. 276 с.
- Хлебушкин А. Г. Преступный экстремизм: понятие, виды, проблемы криминализации и пенализации: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Хлебушкин Артем Геннадьевич. Саратов, 2007. 28 с.
- Мельниченко А. Б. Систематизация российского уголовного законодательства с учетом государственных приоритетов обеспечения национальной безопасности // Бизнес в законе. 2009. № 2. С. 110-112.
- Кузнецов В.А. Истоки и движущие силы вооруженного экстремизма и радикализации на Ближнем Востоке (на региональном уровне и на примере Туниса) // Пути к миру и безопасности. 2017. № 1 (52). С. 138-154.
- Абдулганеев Р. Р. Уголовно-правовая характеристика преступлений экстремисткой направленности: учебное пособие под ред. д-ра юрид. наук М. В. Талан. Казань: КЮИ МВД России, 2018. 76с.
- АлиеваС.Ю. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений террористической направленности и проблемы противодействия (региональное исследование): автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Алиева Сурижат Юсуфовна. Махачкала, 2014. 32 с.
- Рарог А. И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex russica. 2017. № 4. С. 155-178.
- АстапкинД.И., ЗасыпкинИ.В., КлимушкинА. В., ШляхтинаА.С. Сущность и формы проявления экстремизма. Экстремистские организации, действующие на территории России и методика выявления их участников: методические рекомендации. Москва: Московский университет МВД России. 2006. 30 с.
- Забобурин М.А.Дудолеев А. В. Актуальные проблемы уголовной ответственности за публичное распространение ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации // Эволюция российского права. Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет, 2022. С. 810-817.
- РарогА. И. Соотношение между экстремизмом и терроризмом // Юристъ-Правоведъ. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост, юрид. ин-та МВД России, 2010, № 6. С. 67-69.
- Кочои С. М. Пробелы в законодательстве о терроризме и предложения по ихустранению //Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10, № 4. С. 740-749.
- Велиев Ф. 3. Мотив ненависти или вражды и его уголовно-правовое значение: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ф. 3. Велиев. Москва, 2015. 29с.