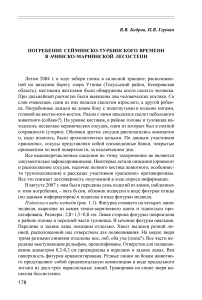Погребение сейминско-турбинского времени в Ачинско-Мариинской лесостепи
Автор: Бобров В.В., Герман П.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XIII, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521321
IDR: 14521321
Текст статьи Погребение сейминско-турбинского времени в Ачинско-Мариинской лесостепи
Летом 2004 г. в ходе забора глины в силосной траншее, расположенной на западном берегу озера Утинка (Тисульский район, Кемеровская область), местными жителями были обнаружены кости скелета человека. При дальнейшей расчистке были выявлены два человеческих костяка. Со слов очевидцев, один из них являлся скелетом взрослого, а другой ребенка. Погребенные лежали на левом боку с подогнутыми в коленях ногами, головой на восток-юго-восток. Рядом с ними находился скелет небольшого животного (собаки?). На уровне костяков, в районе головы и туловища находилось несколько керамических сосудов, один из которых был в полной сохранности (утерян). Обломки других сосудов располагались компактно и, надо полагать, были археологически целыми. По данным участников «раскопок», сосуды представляли собой плоскодонные банки, покрытые орнаментом по всей поверхности, за исключением дна.
Все вышеперечисленные сведения по этому захоронению не являются документально зафиксированными. Некоторые детали описания (орнамент и расположение сосудов, наличие полного костяка животного, особенности трупоположения) в рассказах участников «раскопок» противоречивы. Все это снижает достоверность полученной в ходе опроса информации.
В августе 2007 г. нам были переданы семь изделий из камня, найденных в этом погребении, - пять бусин, обломок подвески в виде фигурки птицы (по данным информаторов) и подвеска в виде фигурки медведя.
Подвеска в виде медведя (рис. 1 ,1 ). Фигурка стоящего на четырех лапах медведя, вырезана из камня темно-коричневого цвета и тщательно прошлифована. Размеры: 2,8×1,5×0,8 см. Левая сторона фигурки повреждена в районе головы и передней части туловища. В сечении фигурка овальная. Передние и задние лапы показаны отдельно. Хвост выделен резной линией, расположенной над отверстием для подвешивания. На морде зверя тремя резными линиями отделены нос, лоб, оба уха (глаза?). Все части переданы выступающим рельефом, прошлифованы. Отверстия для подвешивания диаметром 0,2-0,3 см просверлены в передних и задних лапах. Вся поверхность фигурки орнаментирована. Резные линии по бокам животного представляют собой орнаментальную композицию в виде продольного зигзага из двух-трех параллельных линий. Гравировка на спине зверя нанесена бессистемно.
Рис. 1. Материалы Утинского погребения. 1 – подвеска «медведь»;
2 – подвеска «птица». 1,2 – камень.
Подвеска в виде птицы (рис. 1 ,2 ) вырезана из камня темно-коричневого цвета и тщательно прошлифована. Фигурка серьезно повреждена первыми «исследователями» погребения: обломаны передняя и задняя части. Размеры: 2,0×1,1×0,9 см. Подвеска представляет собой слегка изогнутую прямоугольную площадку (спинка?) на постаменте (лапки?), в котором просверлено отверстие для подвешивания. На всем сохранившемся фрагменте площадки нанесены гравировки. С помощью трех изогнутых продольных резных линий поверхность поделена на четыре сектора. Два крайних сектора заполнены короткими прямыми линиями, нанесенными по диагонали. В одном из центральных секторов продольно нанесены две короткие линии. Вероятно, орнамент передает оперение птицы, причем, два крайних сектора следует отождествлять с крыльями.
Пять бусин (рис. 2 ,6-10 ) темно-коричневого, светло-коричневого и светло-серого цвета. Диаметр от 0,6 до 1,6 см.
В ходе обследования осыпи силосной траншеи в районе могилы было собрано несколько орнаментированных фрагментов стенок керамических
Рис. 2. Материалы Утинского погребения. 1 – сосуд I (условная реконструкция), 2 – фрагмент сосуда II, 3,4 – фрагменты сосуда III, 5 – сосуд IV (условная реконструкция), 6-10 – бусы. 1-5 – керамика, 6-10 – камень.
сосудов, два бараньих астрагала, кости животных. Учитывая характер «раскопок» погребения, оставалась надежда на то, что захоронение не было уничтожено целиком. Для поиска продолжения могильника была заложена траншея 3×10 м ориентированная по сторонам света, причем, южная сторона раскопа проходила по северной границе силосной траншеи.
В результате раскопок была выявлена линза черного цвета длиной 130 см (остатки разрушенного захоронения), уходящая в обрыв силосной траншеи. При выборке могильной линзы, на глубине 54 см от уровня современной дневной поверхности, был обнаружен фрагмент лопатки крупного животного. На глубине 97 см были расчищены бедренная, берцовая, 180
фрагмент тазовой кости и два эпифиза от детского костяка. Кости были потревожены. На том же уровне, на площадке 135×95 см, вытянутой с запада на восток, найдено несколько орнаментированных фрагментов керамических сосудов, пять астрагалов барана и маленький, диаметром 0,8 см, отщеп из кремня.
Наиболее важным компонентом для определения культурно-хронологической атрибуции погребения являются фрагменты сосудов. Достоверно они принадлежали двум сосудам, но не исключено, что 3 фрагмента могли относиться ещё к двум другим керамическим ёмкостям (I – рис. 2, 1 , II – рис. 2, 2 , III – рис. 2, 3-4 и IV – рис. 2, 5 ). Форма условно реконструируется лишь для сосуда I, он представляет собой слабо профилированную банку с плоским дном. Сосуд IV, судя по кривизне профиля единственного фрагмента, имел более раздутое тулово.
Орнаментация выполнена узкими прочерченными линиями, нанесенными приостренным концом тонкой палочки. Орнаментальная схема во всех случаях одинакова: узкий фриз из нескольких горизонтальных линий под венчиком продублирован таким же фризом в придонной части сосуда. Тулово сосудов украшают разреженные горизонтальные ряды таких же линий, опускающихся от приустьевой части к днищу. Внешний край венчика, судя по сосуду I, не декорировался. У сосуда IV, сразу под верхним фризом прямых прочерченных линий, в той же технике нанесена «волна».
Такие технологические особенности рассматриваемых сосудов, как формовочная масса с примесью дресвы, ленточно-жгутовой способ изготовления и выбивка стенок гладкой колотушкой роднят их, с одной стороны, с посудой самусьской культуры [Глушков, 1996], с другой – с керамикой окуневского типа [Леонтьев, 2006]. Форма же и, в особенности, орнамент (композиция и техника ее исполнения) рассматриваемых сосудов близкородственны некоторым образцам самусьской посуды. Их декор производит впечатление упрощенной стилизации орнамента самусьских ритуальных сосудов (четвертая группа, по В.И. Матющенко), где вертикальные полосы из многих прочерченных линий являются обрамлением полей с антропо-или орнитоморфными изображениями [Матющенко, 1973]. Таким образом, данная керамика либо является собственно самусьской, либо оставлена группой древнего населения, находившегося в непосредственном контакте и под сильным культурным влиянием самусьских племен.
Как было отмечено выше, о позе и ориентировке погребенных нам известно лишь со слов первых «исследователей». Трупоположения на левом боку с подогнутыми ногами, ориентировка погребенных головой в восточном направлении, широко представлены в захоронениях развитой бронзы Западной Сибири: в елунинской культуре [Кирюшин, 2002], а также в могильнике самусьской культуры Крохалевка-7А [Титова, Сумин, 2002]. В меньшей степени – в кротовской [Молодин, 1985] и окуневской культурах [Вадецкая, 1986].
Обычай класть погребенным астрагалы барана или косули так же характерен для кротовской и елунинской культур, но в большей степени для окуневской культуры Хакасско-Минусинской котловины. Там же наиболее часто встречаются бусы из камня, аналогичные найденным в Утинском погребении.
Подвески в виде фигурок медведя и птицы по-своему уникальны и не соотносятся ни с одним из известных скульптурных исполнений данных образов. Изображения медведя в мелкой пластике бронзового века многогранны в исполнении и широко распространены [Молодин и др., 2000; Ченченкова, 2004]. Условную стилистическую аналогию подвеске в виде птицы возможно провести с бронзовой фигуркой из 2-го погребения могильника Ростовка [Матющенко, Синицына, 1988], которая являлась частью сложносоставного ожерелья, включавшего также каменные бусины.
Таким образом, по всему комплексу обнаруженного в погребении инвентаря, а так же по особенностям трупоположения, Утинское погребение следует отнести к памятникам первого этапа развитой бронзы. Следует отметить, что это не первое погребение данного периода в Ачинско-Мариинской лесостепи. В 12 км на северо-восток от оз. Утинка на поселении эпохи бронзы Третьяково-2 одним из авторов статьи было исследовано грунтовое погребение, материалы которого находят аналогии в самусь-ских и окуневских комплексах [Бобров, 2003]. Обнаруженные в Утинском погребении фрагменты керамической посуды имеют прямые аналогии, прежде всего, с самусьским керамическим комплексом, а ряд черт обряда наиболее известен из окуневской погребальной практики. Вероятно, на территории Ачинско-Мариинской лесостепи в сейминско-турбинскую эпоху существовал локальный вариант самусьской культуры, с населением которой контактировали окуневцы (наиболее западные памятники с окуневской керамикой – Тамбарское водохранилище [Бобров, 2003], а наиболее восточные с самусьской керамикой – поселение Ашпыл [Красниенко, Субботин, 1999]). Наличие подобных контактов уже не раз отмечалось в литературе, но именно сейчас, в связи с находкой керамики с типично са-мусьской орнаментацией, появилась возможность акцентировать данную точку зрения.