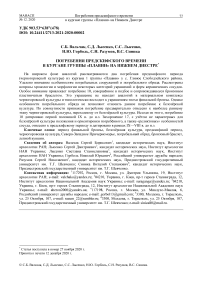Погребения предскифского времени в кургане группы «Плавни» на Нижнем Днестре
Автор: Вальчак С.Б., Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Горболь Н.Ю., Разумов С.Н., Синика В.С.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
На широком фоне аналогий рассматриваются два погребения предскифского периода (черногоровской культуры) из кургана 1 группы «Плавни» у с. Глиное Слободзейского района. Уделено внимание особенностям погребальных сооружений и погребального обряда. Рассмотрены вопросы хронологии и морфологии некоторых категорий украшений и форм керамических сосудов. Особое внимание привлекает погребение 10, совершённое в подбое и сопровождавшееся бронзовым пластинчатым браслетом. Это украшение не находит аналогий в материальном комплексе черногоровской культуры и типологически восходит к украшениям эпохи финальной бронзы. Однако особенности погребального обряда не позволяют относить данное погребение к белозёрской культуре. По совокупности признаков погребение предварительно отнесено к наиболее раннему этапу черногоровской культуры, переходному от белозёрской культуры. Исходя из этого, погребение 10 датировано первой половиной IX в. до н.э. Захоронение 17, с учётом не характерных для белозёрской культуры положения и ориентировки погребённого, а также «реликтовых» особенностей сосуда, отнесено к предскифскому периоду и датировано в рамках IX-VIII в. до н.э.
Период финальной бронзы, белозёрская культура, предскифский период, черногоровская культура, северо-западное причерноморье, погребальный обряд, бронзовый браслет, лепной кувшин
Короткий адрес: https://sciup.org/14118259
IDR: 14118259 | УДК: 903.53“638”(478) | DOI: 10.24411/2713-2021-2020-00002
Текст научной статьи Погребения предскифского времени в кургане группы «Плавни» на Нижнем Днестре
МАИАСП № 12. 2020
Погребения предскифского времени в кургане группы «Плавни» на Нижнем Днестре
Таким образом, с учётом относительной малочисленности подобных подкурганных погребений, каждый новый комплекс, до настоящего времени не введённый в научный оборот, заслуживает пристального внимания и всестороннего изучения.
В настоящей работе впервые публикуются и анализируются два захоронения черногоровской культуры, обнаруженные в 2019 г. при исследовании кургана 1 группы «Плавни» у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. Памятник находился в 3,11 км к востоку-юго-востоку от пересечения шоссе Тирасполь-Днестровск с ул. Ленина с. Глиное, в 0,27 км к востоку от восточного берега оз. Красное. Ниже приводятся описание этого кургана, исследованных в нём погребений, а также сопровождающего инвентаря.
Курган 1 группы «Плавни» раскапывался параллельными траншеями с использованием техники. Насыпь была повреждена глубокой распашкой (до 0,4 м). Высота кургана от современной поверхности составляла 0,5 м. Высота насыпи над древней поверхностью на момент начала исследований составляла 0,6 м. В кургане обнаружены две древние ямы, каменные конструкции и 31 погребение: одно усатовской (?) культуры; два захоронения ямной культурно-исторической общности; девять захоронений позднего бронзового века, в том числе днепро-прутской бабинской и сабатиновской культур; два комплекса предскифского времени; одно скифское погребение; 12 средневековых захоронений; четыре неопределённых комплекса (рис. 1).
Погребение 10 (впускное) обнаружено в 2,5 м к югу от R 0 . Совершено в подбое (рис. 2: 1, 2 ).
Входная яма неправильной полуовальной формы была ориентирована (по максимальной ширине) по оси СЗ—ЮВ и зафиксирована на глубине 1 м от R 0 . Размеры сооружения по дну 0,57 × 0,4—1,1 м, глубина 1,06 м от R 0 .
К ССВ от входной ямы находилась погребальная камера подпрямоугольной формы с закруглёнными углами, ориентированная по линии ВЮВ—ЗСЗ, размерами 1,55 × 0,9 м по дну и глубиной 1,12 м от R 0 . Свод камеры не сохранился. От входной ямы камера отделена ступенькой, высотой около 0,15 м.
На дне камеры лежал скелет маленького ребёнка в средне скорченном положении на левом боку, головой на ЮВ. Скелет занимал северо-восточную часть погребальной камеры, составляющую примерно одну четвёртую её общей площади. Правая рука, вероятно, была согнута в локте под острым углом, кости предплечья и кисти (перемещены землеройными животными) были направлены к лицевой части черепа, обращённой к ЮЮЗ. Левая рука была вытянута перед грудной клеткой (плечевая кость перемещена), кисть направлена к коленям и изогнута в запястье под прямым углом к костям предплечья. Бедренные кости находились под прямым углом к позвоночному столбу, берцовые — под острым углом к ним. Правая нога лежала поверх левой. Правая тазовая кость была перемещена в район костей стоп погребённого.
Под костяком прослежен след от подстилки овальной формы в виде коричневого органического тлена размерами 0,7 × 0,3 м.
Состав и расположение инвентаря: на костях предплечья левой руки, выше запястья, был надет бронзовый браслет (1).
Описание находки.
-
1. Браслет бронзовый пластинчатый с заходящими друг за друга концами. Он был изготовлен из линзовидной в сечении пластины. Концы сужаются и свёрнуты в петельки во внешнюю сторону. Один конец браслета заходит под другой на 22 мм1, в результате чего
- С.Б. Вальчак, С.Д. Лысенко, С.С. Лысенко, Н.Ю. Горболь, С.Н. Разумов, В.С. Синика
МАИАСП № 12. 2020
одна петелька полностью скрыта под пластиной противоположного конца. Диаметр браслета 43 × 47 мм; внутренний диаметр — 40 × 31 мм. Ширина пластины 9—11 мм; к концам сужается до 4 мм. Толщина пластины до 1,7 мм. Размеры петелек 7,7 × 5,5—6 мм (рис. 2: 3 ).
По всей видимости, изначально изделие было изготовлено как браслет с разомкнутыми или соприкасающимися концами. Впоследствии диаметр браслета, скорее всего, был специально уменьшен под детскую руку, что привело к скрытию одной из концевых петелек под пластиной браслета.
Что касается культурно-хронологической принадлежности рассматриваемого погребения, то в этом случае мы должны рассмотреть несколько возможных вариантов. Погребения в подбоях в предскифский период встречаются достаточно часто (Гошко, Отрощенко 1986: 174—175; Махортых 2005: 54—55, 98), но известны они и в предшествующее время. Так, погребения в подбоях получают широкое распространение в днепро-прутской бабинской культуре2 переходного от средней к поздней бронзе периода (Дворниченко 1968: 5—15; Шарафутдинова 1982: 48—51, 141; Савва 1992: 71; Литвиненко 2009: 8—9). Однако параметры публикуемого погребального сооружения не позволяют относить его к бабинским. Следует отметить, что входные ямы бабинских подбоев обычно имеют овальную либо подпрямоугольную форму и превышают по размерам либо равны погребальным камерам. Камеры же всегда овальной формы (а не подпрямоугольные, как в комплексе Глиное-Плавни 1/10), и относительно невелики по размерам. Они были рассчитаны на размещение тела в сильно скорченном положении (Литвиненко 2009: 98; Субботин и др. 2017: 157). Также заметим, что степень скорченности тела и положение рук, как в публикуемом погребении, не характерны для подбойных захоронений днепро-прутской бабинской культуры с восточной ориентировкой (Савва 1992: 29; Литвиненко 2009: 235— 241, табл. 3: 3, 15 ).
В литературе упоминаются и погребения в подбоях заключительного периода эпохи поздней бронзы, относимые к белозёрской культуре (Отрощенко 1986: 131—132; Ванчугов 1990: 52, 56). Однако при более детальном рассмотрении все «белозёрские» комплексы с подбоями оказываются недостоверными и относятся к черногоровской культуре раннего железного века. Так, проанализировав все случаи «белозёрских» погребений с подбоями и случаи прямой стратиграфии белозёрских и черногоровских погребений, В.В. Отрощенко пришёл к выводу, что «носители белозёрской культуры не хоронили своих покойников ни в подбоях, ни в катакомбах» (Отрощенко 2001: 191). Этот вывод представляется нам крайне важным, так как однозначно очерчивает нижнюю хронологическую границу погребения Глиное-Плавни 1/103.
Кроме конструкции погребального сооружения, аргументом в пользу его постбелозёрской датировки является также сам факт впуска единичного погребения в более ранний курган эпохи бронзы. В.В. Отрощенко указывает, что белозёрскую культуру «репрезентуют могильники ещё в значительной степени оседлого населения, иногда очень большие (до двухсот погребений)», а черногоровскую — «рассеянные (единичные) погребения кочевников. Могильник черногоровского типа, если о таковом вообще можно говорить, никогда не превышает три-пять впускных погребений» (Отрощенко 2001: 190).
Положение погребённого в захоронении Глиное-Плавни 1/10 по некоторым признакам соответствует вариантам обряда предскифского периода, в частности, черногоровской
МАИАСП № 12. 2020
Погребения предскифского времени в кургане группы «Плавни» на Нижнем Днестре культуры. Ориентировка в восточный сектор, близкое положение рук и ног отмечено в следующих погребениях: Рошканы 3/4 (Новоаненский р-н) на правобережье Нижнего Днестра; Анатольевка 1/5 (Николаевская обл., Березанский р-н) в Днестро-Бугском междуречье; Аккермень I 11/9 и 17/11 (Запорожская обл., Васильевский р-н) в Нижнем Поднепровье; Астанино 7/7 (Крым, Ленинский р-н). И все эти захоронения были совершены в подбоях (Махортых 2005: рис. 47: 1, 2, 4—7, 51: 1—4, 52: 5, 6, 135: 1—5; Вальчак и др. 2019). Сходные признаки имеют и погребения в ямах, иногда с деревянными конструкциями: Марьянское 7/1 (Днепропетровская обл., Апостоловский р-н) — на правобережье Нижнего Днепра; Высокая Могила 1/5 (Запорожская обл., Васильевский р-н, с. Балки), Заплавка 5/8 (Днепропетровская обл., Магдалиновский р-н), Николаевка I 1/4 (Днепропетровская обл., Новомосковский р-н) — на левобережье Нижнего Днепра (Махортых 2005: рис. 72: 1—8, 85: 1, 2, 114: 9—11, 116: 3—5) и многие другие.
Не противоречит положение погребённого и некоторым вариантам обряда белозёрской культуры с юго-восточной ориентировкой, учитывая, что во многих случаях в положении рук отсутствует единообразие и «взаимосвязи между положением костяков и позой рук не прослеживается» (Ванчугов 1990: 51—52; Тощев 1992: 25, рис. 6: 11 , 7: 8 ). Впрочем, и в предскифских памятниках Восточной Европы мы неоднократно наблюдаем аналогичные случаи.
На протяжении 1970—80-х гг. обнаруженные подбойные сооружения поздней бронзы и предскифского периода рассматривались в статьях (Черняков 1977: 31—33; Ванчугов, Субботин 1980: 57) и в обобщающей монографии (Тереножкин 1976).
Но аргументы для «базового» комплекса Кочковатое 50/1 в Дунай-Днестровском междуречье (Одесская обл., Татарбунарский р-н), который считался парным погребением, где в подбое и в прямоугольной входной яме отдельно были захоронены два человека, были основаны на ошибочном определении этих захоронений. Погребение 1-а было основным в кургане. Ориентировка обоих скорченных погребённых — на ЮЮВ — была одинакова и для входной ямы, и для подбоя в восточной стенке, что характерно не только для белозёрской культуры, но и для Дунайско-Днестровской подгруппы памятников предскифского периода (Махортых 2005: табл. 2: 5—7 ). Интересно то, что «входная яма» имела по периметру дна канавки. Эта конструктивная особенность нередко встречается в основных погребениях курганов белозёрской культуры (Ванчугов 1990: 50, рис. 15: 1, 2, 4 ), но практически полностью отсутствует в предскифский период.
Во «входную яму», на самом деле являвшуюся ямой основного погребения (скелет 1-а) белозёрской культуры без инвентаря, спустя некоторый временной промежуток было впущено предскифское погребение (скелет 1-б) в подбое (Отрощенко 2001: 191, мал. 38: 5—9 ; Махортых 2005: 339—340, рис. 104: 5, 6 ).
Вызывает сомнения и белозёрская принадлежность погребения 2 кургана 5 Суворовского могильника (Одесская обл., Измаильский р-н) на левобережье Нижнего Дуная (Махортых 2005: 362, рис. 148: 7—11 ). Изначально памятник рассматривался как киммерийский с сильными белозёрскими пережитками (Черняков 1977). Позднее Т.И. Ойстрах пересмотрела материалы могильника и признала его целиком белозёрским (Ойстрах 1989). В. В. Отрощенко разделил погребения Суворовского могильника на основные (белозёрской культуры) и впускные — черногоровские (Отрощенко 1989: 111; 2001: 191). Подчеркнём, что насыпь кургана 5 на момент исследований была полностью распахана. Поэтому заявленная исследователями могильника стратиграфическая позиция погребения 1 (в большой яме, «впускного») и 2 (в яме с подбоем, «основного») не может быть признана однозначной.
С.Б. Вальчак, С.Д. Лысенко, С.С. Лысенко, Н.Ю. Горболь, С.Н. Разумов, В.С. Синика
МАИАСП № 12. 2020
Следовательно, достоверные погребения в подбоях, как уже отмечено выше, для белозёрской культуры не известны.
Тем не менее, следует заметить, что такой вид украшений, как браслеты, не характерен для степных памятников предскифского периода. При этом бóльшая часть комплексов с браслетами была отнесена к этому периоду ошибочно. Здесь мы исключаем синхронные памятники восточноевропейской Лесостепи и Северного Кавказа, в которых наручные браслеты встречаются достаточно часто, а рассматриваем памятники именно степного региона.
Например, в своде С.В. Махортыха упоминаются только четыре степных северопричерноморских погребения с браслетами: Суворово 4/1 на левобережье Нижнего Дуная; Новопетровка (Николаевская обл., близ г. Вознесенск) в Побужье; Буское, погребение 1 (Днепропетровская обл., Днепропетровский р-н) на правобережье Нижнего Днепра; Александровка 1/2 (Днепропетровская обл., Днепропетровский р-н) на левобережье Нижнего Днепра (Махортых 2005: 105, 314, 323, 347, 361, рис. 30: 37 , 50: 4 , 68: 7 ).
Основное погребение в кургане из Новопетровки с золотым браслетом, исходя из описания (так как других данных нет), по особенностям обряда более соответствует элитному погребению белозёрской культуры (Тереножкин 1976: 68—69). Погребение Суворово 4/1 (основное, ребёнок), с бронзовым браслетом из круглого в сечении прута (Черняков 1977: 30—31, рис. 1: 4—9 ; Тереножкин 1976: 63, рис. 31), также вызывает сомнения в его принадлежности к предскифскому периоду по целому ряду признаков. Если принять достаточно аргументированные доводы Т.И. Ойстрах, то оно, как и большинство других погребений Суворовского могильника, относится к белозёрской культуре (Ойстрах 1991: 82—87).
Из этого небольшого списка с предскифским периодом могло бы быть связано только разграбленное погребение из Александровки с бронзовым браслетом из прута круглого сечения. Но конструкция погребения и сосуд (Ромашко 1979: рис. 1: 12 ; Махортых 2005: рис. 50: 3 ) необычны для предскифских памятников. Морфология сосуда из этого погребения находит ближайшие аналогии в форме кубков из упомянутого выше погребения Волошское 1, а также из ряда памятников белозёрской культуры: Кочковатое 34/1 (Одесская обл., Татарбунарский р-н), Васильевка 3/3 и 28/1 (Одесская обл., Болградский р-н), Дивизия 5/2 (Одесская обл., Татарбунарский р-н) в Дунай-Днестровском междуречье, Широчанского могильника (Херсонская обл., Скадовский р-н) на левобережье Нижнего Днепра, а также из поселения Черноморка (Николаевская обл., Очаковский р-н) в Буго-Днепровском междуречье (Ванчугов 1990: рис. 29: 12 — 14 , 30: 12, 14 , 31: 21 , 32: 3 ; Мелюкова 1979: 62, рис. 13: 1, 2, 4—12 ). Да и сам браслет из Александровки 1/2 органично вписывается в комплекс украшений эпохи поздней бронзы, среди которых он находит многочисленные аналогии (Лысенко 2006: рис. 21—24).
Таким образом, принадлежность к предскифскому периоду и погребения 2 кургана 1 у Александровки крайне маловероятна. На его датировку повлияла единственная находка в кургане 6 этого же могильника — предскифского бронзового наконечника стрелы «цимбальской серии» в полностью разграбленном погребении (Ромашко 1979: 107; Ковалёва, Мухопад 1982: 91, рис. 1; Махортых 2005: 313—314, рис. 49: 3 ; Вальчак 2006: 266—267).
Основные погребения в курганах 1 и 6 Александровки были совершены в больших подквадратных ямах с дромосами (иногда рассматриваются различными исследователями как грабительские ходы), со сложными деревянными подкурганными и внутримогильными конструкциями, с канавкой по периметру дна ямы в кургане 6. Остаются неизвестными
МАИАСП № 12. 2020
Погребения предскифского времени в кургане группы «Плавни» на Нижнем Днестре время тотального ограбления этих погребений и обстоятельства попадания в одно из них наконечника стрелы VIII в. до н.э. Всё это может свидетельствовать о принадлежности разрушенных погребений курганов 1 и 6 Александровки к памятникам поздней или финальной бронзы, но не предскифского периода. Отметим, что принадлежность кургана 1 у с. Александровка к белозёрской культуре не исключал и исследовавший этот комплекс В.А. Ромашко (Ромашко 1979: 107). В.В. Отрощенко, критикуя позицию С.В. Махортыха, также рассматривает погребения в кургане 1 у с. Александровка в качестве белозёрского могильника (Отрощенко 2019: 150).
Таким образом, достоверных степных погребений предскифского периода, в которых были бы встречены металлические браслеты, до недавнего времени мы не имели.
Однако в ходе переосмысления серии комплексов, датируемых ранее другими периодама, к черногоровской культуре было отнесено погребение 24 в кургане 3 у с. Троицкое (Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Автор раскопок, Л.С. Клейн, связывал это погребение со срубной культурой. Оно было впущено в центр насыпи, где оказалось в окружении ряда захоронений бережновско-маёвской срубной культуры, частично разрушив или перекрыв их. Известняковое перекрытие погребального сооружения находилось непосредственно под поверхностью насыпи, над западной частью погребальной площадки. Сохранился западный сегмент завала (шириной 1 м при высоте 0,5 м); однако отдельные камни и их скопления фиксировались и с восточной стороны конструкции. Контуры сооружения в чернозёмной насыпи не фиксировались, но, судя по расположению костей человека и животного, его размеры были приблизительно 2,2 × 1,4 м, глубина — 1 м, ориентация — запад-восток. Скелет взрослого человека занимал западную и центральную часть сооружения, где был положен в слабо скорченной позе, на левом боку головой на ВЮВ. Левая рука погребённого была согнута в локте под острым углом так, что кисть её находилась на уровне глаз. Правая рука была вывернута локтем вперёд4 и её плечевая кость легла на нижнюю челюсть человека, а локоть перекрыл запястье левой. Кости предплечья были направлены вниз таким образом, что кисть правой оказалась ниже локтя левой руки. В северо-восточном секторе сооружения, выше затылка погребённого, находилась задняя часть скелета и закинутая за спину голова ягнёнка с верхними позвонками шеи. Жертвенное животное положили на правом боку, головой на восток. Кусок мяса с костями передней ноги овцы вложили в левую руку погребённого. В 0,2 м от коленей погребённого был найден отщеп кремня с ретушью. Между костями ягнёнка и напутственной пищей в руке на дне ямы располагались комки красной охры. На фаланге правой кисти сохранились следы медных окислов, вероятно от распавшегося кольца. На костях предплечья левой руки погребённого, в 10 см от запястья, найдены мелкие кусочки трубочки, свёрнутой из тонкой листовой меди – вероятно, фрагменты трубчатого браслета (Клейн 1960: 144—156, рис. 114; Отрощенко 2019: 151—153, рис. 1: 1 ). Состояние находки и её описание не дают однозначного представления, был ли браслет цельным или наборным из отдельных трубчатых пронизей, однако сам факт обнаружения его на руке у запястья сомнения не вызывает.
Материалы погребения Троицкое 3/24 (рис. 3: 4 ) показывают, что бронзовые браслеты не были совсем чужды комплексу украшений черногоровской культуры, хоть их и нельзя считать массовыми находками.
В то же время в погребальных памятниках эпохи поздней бронзы Северного Причерноморья бронзовые браслеты разных типов не являются совсем уж необычной находкой. Среди браслетов с несомкнутыми, сходящимися и заходящими концами (в 0,7—
С.Б. Вальчак, С.Д. Лысенко, С.С. Лысенко, Н.Ю. Горболь, С.Н. Разумов, В.С. Синика
МАИАСП № 12. 2020
-
1,5 оборота) превалируют экземпляры из округлого в сечении прута, реже встречаются сегментовидные и линзовидные в сечении, а также пластинчатые. На последних остановимся более детально.
В степной зоне Северного Причерноморья на сегодняшний день нами учтено всего четыре пластинчатых браслета эпохи бронзы с несомкнутыми концами. В погребении 15 кургана 5-1 могильника Градешка (Одесская обл., Ренийский р-н, с. Новосельское) на левобережье Нижнего Дуная фрагмент бронзового браслета был найден на запястье вытянутой к коленям левой руки. Судя по сохранившемуся обломку, составляющему 1/3—1/4 оборота, он сделан из пластинки шириной 0,6 см и толщиной 0,1 см, оба конца отсутствуют. Погребение отнесено исследователями к культуре многоваликовой керамики (Субботин и др. 1995: 118, рис 4: 7, 8 ).
В разрушенном погребении 7 кургана 1 могильника Бабурский (Запорожская обл., г. Запорожье, Верхняя Хортица) на левобережье Нижнего Днепра была обнаружена часть руки с бронзовым браслетом, изготовленным из узкой пластины с заходящими один за другой концами. Диаметр его 4,3 см, ширина пластины 0,4 см. Погребение отнесено к срубной культуре (Попандопуло 1993: 79—80, рис. 3: 4 ).
Пластинчатый браслет со слегка заходящими один под другой концами найден в слое белозёрского поселения Кошница (Дубоссарский р-н) на левобережье Нижнего Днестра (Мелюкова 1979: рис. 8: 6 ; Ванчугов 1990, рис. 37: 26 ).
Бронзовый пластинчатый браслет с соприкасающимися концами. Он был изготовлен из тонкой пластины, асимметрично-линзовидной в сечении. Концы сужающиеся, в сечении сегментовидные. Диаметр браслета 75 × 73 мм; внутренний диаметр — 72 × 69 мм. Ширина пластины до 7,2 мм; к окончаниям сужается до 3—3,5 мм. Толщина пластины до 2 мм; на концах утончается до 1 мм.
Этот браслет является ближайшей аналогией и наиболее хронологически близок к браслету из погребения Глиное/Плавни 1/10. Он позволяет нам представить, как первоначально выглядела заготовка глинянского браслета до того, как концы его были свёрнуты в петельки, а позднее и заведены один под другой с целью уменьшения диаметра браслета под детскую руку. Однако при общем сходстве обоих украшений они имеют и одно существенное отличие — наличие петелек на концах браслета из комплекса Глиное/Плавни 1/10. Этот признак позволяет считать оба браслета близкими, но не тождественными.
В различных регионах Центральной Европы и Карпато-Подунавья на протяжении всего периода эпохи поздней бронзы – начала раннего железного века (от BrA до HaD)
МАИАСП № 12. 2020
Погребения предскифского времени в кургане группы «Плавни» на Нижнем Днестре оформление концов в виде свёрнутых на внешнюю сторону петелек широко представлено на шейных гривнах (Müller-Karpe 1980; Novotná 1984). Известны они и на браслетах, хотя последние зафиксированы гораздо реже. Так, петельки расположены на концах круглого в сечении браслета из Дискау в Центральной Германии (Müller-Karpe 1980, taf. 302: А: 4), относящегося к периоду ранней бронзы (по центрально-европейской шкале) (XIX—XVII вв. до н.э.). В юго-западной Румынии (Олтения) такой браслет, круглый в сечении, происходит из клада из Маглавит (Petrescu-Dîmboviţa 1977: 48, pl. 17: 15), датированного XVI—XIV вв. до н.э. Около десятка браслетов с петельками на концах с уплощённым (подовальным, линзовидным и сегментовидным) сечением обнаружено в кладе из Бэлень в Румынской Молдове (Petrescu-Dîmboviţa 1977: 73—74, pl. 78: 4; 1978: taf. 57: 190—200). Клад относится к культуре ноа и датирован XIII в. до н.э. Важно отметить, что, наряду с браслетами с несомкнутыми концами с петельками на концах, из клада из Бэлень происходит также около 50 обыкновенных браслетов с несомкнутыми концами, что свидетельствует о сосуществовании обоих типов украшений в западной части Северо-Западного Причерноморья в конце классического периода эпохи поздней бронзы.
Мы не случайно выше упомянули шейные гривны с петельками на концах. Согласно нашим наблюдениям, многие типы украшений дублируются в разных категориях, отличаясь размерами, но сохраняя принадлежность одному стилю. В качестве примера можем привести гривны, браслеты и перстни со спиральными щитками (Лысенко 2005); массивные цельнолитые гривны и браслеты с богатым гравированным и чеканным орнаментом (Лысенко, Лысенко 2011: рис. 38, 49). Видимо, подобную ситуацию мы наблюдаем и в отношении гривен и браслетов с петельками на концах. Хотя такие браслеты и малочисленны, но их бытование зафиксировано в различные периоды эпохи поздней бронзы наряду с шейными гривнами. Находка браслета из Глиное-Плавни 1/10 восполняет лакуну в бытовании таких украшений на финальном этапе эпохи поздней бронзы при переходе к раннему железному веку.
Погребение 17 (впускное) кургана 1 группы «Плавни» обнаружено в 7 м к юго-западу от R 0 на глубине 0,7 м от R 0 . Совершено в подбое и впущено в кольцевую выемку вокруг основного погребения кургана (рис. 3: 1, 2 ).
Входная яма подпрямоугольной формы с закруглёнными торцевыми сторонами, сохранилась частично, ориентирована по оси ЮВ — СЗ, её размеры по дну около 1,55 × 0,5 м, глубина 0,7 м от R 0 .
К юго-западу от входной ямы находилась погребальная камера подовальной формы, ориентированная по линии ЮВ — СЗ, размерами 1,95 × 0,75 м по дну и глубиной 0,75 м от R 0 . Свод камеры не сохранился. От входной ямы камера отделена ступенькой, высотой менее 0,1 м.
На дне камеры лежал костяк взрослого человека в средне скорченном положении на левом боку с разворотом на живот, головой на СЗ. Правая рука была согнута в локте под острым углом и вывернута локтем вперёд; кисть согнута в запястье под острым углом и лежит у левого локтя, под правой частью грудной клетки пальцами в направлении от тела. Левая рука вытянута к коленям, кисть вытянута. Следов какой-либо подстилки не обнаружено.
Состав и расположение инвентаря : в ногах, в южном углу камеры, стоял лепной кувшин (1).
Описание находки .
-
1. Лепной кувшин с максимальным расширением в средней части тулова с петельчатой ручкой-ушком. Профиль S-видный, токостенный, с практически равномерной толщиной
С.Б. Вальчак, С.Д. Лысенко, С.С. Лысенко, Н.Ю. Горболь, С.Н. Разумов, В.С. Синика
МАИАСП № 12. 2020
стенки. Венчик плавно отогнут наружу; край уплощён по отношению к верхнему срезу под углом около 60°; внутренняя поверхность уплощена под 45°; внешний и верхний углы выделены. Тулово сосуда практически шаровидное, дно плоское. Ручка-ушко ленточная петельчатая, прикреплена в верхней половине тулова. Тесто плотное, хорошо отмученное, с примесью шамота, мелкого песка. Цвет поверхности желтовато-серый, серый; изнутри — серый, чёрный. Поверхность подлощена. Изнутри местами сохранился чёрный нагар. Высота сосуда 153 мм, венчика — до 12 мм, нижней части — 65—70 мм. Диаметр венчика 92 мм, шейки — 78 мм, тулова — 150 мм, дна — 90 мм. Толщина венчика 5—5,5 мм, в изгибе — до 7 мм. Толщина стенок 5—6 мм, ручки — 8—9 мм, дна — 5 мм. Высота ручки над корпусом до 28 мм. Высота ручки вдоль корпуса около 35 мм, по прилепам — до 45 мм. Ширина ручки по внешнему краю 24 мм; ширина верхнего прилепа около 42 мм, нижнего — около 50 мм. Сосуд орнаментирован в верхней части корпуса, при переходе в шейку, узким горизонтальным оттянутым валиком (рис. 3: 3 ).
Положение погребённого из комплекса 17 кургана 1 группы «Плавни» своеобразно – правая рука неестественно «вывернута» локтем вперёд. Такую позицию плечевой кости, выведенной локтем вперёд, В.В. Отрощенко считает специфической для черногоровской культуры, позволяющей идентифицировать даже безынвентарные погребения (Отрощенко 2019: 153—154). Такая позиция руки зафиксирована в упомянутом выше погребении Троицкое 3/24 (Запорожская обл., Мелитопольский р-н) (рис. 3: 4 ), а также в курганных захоронениях Бравичены 3/2 (Оргеевский р-н) на правобережье Среднего Днестра, Виноградный Сад II 1/6 (Николаевская обл., Домановский р-н) на правобережье Южного Буга, Кривой Рог/Восточный 1/1 (Мельник, Стеблина 2012: 294, рис. 182: 3 ); Любимовка 23/2 (Херсонская обл., Каховский р-н), Скелеватое 2/8 (Запорожская обл., Вольнянский р-н), Котовка II 1/8 (Днепропетровская обл., Магдалиновский р-н) в Поднепровье, Донузлав 1/5 в Крыму, Политотдельское-Ямки 3/8 (Волгоградская обл., Николаевский р-н) в Поволжье. Кроме того, подобная позиция руки зафиксирована в грунтовом (?) погребении в размыве берега в Софиевке (Херсонская обл., Каховский р-н) в Нижнем Поднепровье (Махортых 2005: 328, 339, 356, рис. 82, 5—7 , 102: 1—3 , 137: 2—4 ; Отрощенко 2019: 151—153, рис. 1: 2—4 , 2).
В остальном, ориентировка и положение скелета в погребении Глиное/Рыбхоз 1/17 обычны для предскифского периода.
Сосуд из погребения имеет редкую форму, мало характерную для типичных образцов керамики предскифского периода, несмотря на всё их разнообразие. Если рассматривать его как относящийся к предскифскому периоду, то по общей форме тулова он может быть отнесён к группе кубковидных сосудов (Махортых 2005: 74, 107—108, рис. 30, 42). Но оттянутые или выглаженные валики для предскифских сосудов практически не характерны. Очень редки (среди общей массы известных) кувшины и кубковидные сосуды с вертикальными ручками на тулове в предскифских памятниках Северного Причерноморья и Нижнего Дона (Махортых 2005: рис. 37: 1—3 , 44: 5—8 ; Лукьяшко 1999: рис. 22, 34, 44, 57). Кроме них, следы прилепов ручки сохранились и на сосуде из кургана Малая Цимбалка (Запорожская обл., Каменско-Днепровский р-н, с. Большая Белозёрка) в Нижнем Поднепровье (Вальчак 2006: 263).
Наиболее сравним с рассматриваемым здесь кувшином экземпляр из погребения 2 кургана 51/19 могильника у хут. Попов в бассейне Нижнего Дона (рис. 4: 2 ) с подобным, помимо восточной ориентировки, положением погребённого (Лукьяшко 1999: 91, 180, рис. 82, 114: 2 ). В меньшей степени, из-за своей формы и оригинальности, сходен кубок из вытянутого и ориентированного на запад погребения 4 кургана 5 могильника Красная Поляна (рис. 4, 1 ) в Подонье (Лукьяшко 1999: 69—70, 180, рис. 57, 114: 1 ). Можно сравнить с
МАИАСП № 12. 2020
Погребения предскифского времени в кургане группы «Плавни» на Нижнем Днестре кувшином из группы «Плавни» и достаточно оригинальный орнаментированный кувшин из грунтового предскифского погребения 38 Кубанского могильника (рис. 4: 3) со слабоскорченным на спине погребённым, ориентированным на ЮЮВ (Вальчак и др. 2016: 30, рис. 62, 64: 3).
Вообще, кувшины и подобные сосуды с вертикальными ручками в степных памятниках предскифского времени встречаются редко, а каждый из них имеет свои индивидуальные черты, соответствующие морфологически, как правило, керамическим изделиям в традициях ближайших археологических культур оседлого населения.
С другой стороны, общий абрис (форма) сосуда, валик и ручка на его тулове находят определённые, но не прямые, аналогии в керамике, которая происходит из поселений и могильников белозёрской культуры Северо-Западного Причерноморья: Тудорово, Удобное, Калфа, Кошница, Балта, Будуржель, Васильевский (Ванчугов 1981: 75, рис. 3: 1 ; 1990: рис. 17: 5 , 24: 6, 16 , 25: 5 , 27: 12 , 30: 10, 13 , 31: 8 ). Фрагменты сосудов с ручками-ушками (правда, круглыми в сечении, а не ленточными) известны и среди белозёрской керамики Кировского поселения в Крыму (Лесков 1970: 26, рис. 17: 7—10 ). Всё это наводит на мысль об определённых пережитках белозёрских керамических традиций на сосуде из Глиного.
Приведенные параллели для формы кувшина из погребения Глиное-Плавни 1/17 позволяют отнести его к группе керамики, изредка встречающейся в погребениях предскифского периода. Сохранение же некоторых традиций производства белозёрской керамики (близость форм и орнаментации) в предскифский период неоднократно отмечались исследователями (Гаврилюк 1979: 25, 29, 38—40; Дубовская 1993: 141—142; 1997: 189—191; Махортых 2005: 74, 255, 258—259, 269, 277). И, конечно же, подобный сосуд не мог быть изготовлен степным кочевником, как и другие предметы высокотехнологичного для того времени производства, а был каким-то образом получен от оседлого, скорее всего местного, населения (Гаврилюк 1979: 38—40; Вальчак 2018: 143).
Сохранение некоторых позднебронзовых черт, как в погребальном обряде, так и в производстве вещей различных категорий (из разных материалов) в предскифский период в памятниках Северо-Западного Причерноморья, и намного восточнее их (Вальчак, Мамонтов, Сазонов 1996: 23—42), свидетельствует о врéменном сосуществовании и взаимовлиянии населения различных хозяйственно-культурных типов, что было показано на примере Суворовского курганного могильника (Ойстрах 1991: 86).
Насколько такое сосуществование было длительным, определить достаточно сложно. Специально рассматривавший проблему становления кочевничества Г.Е. Марков считал, что переход части оседлого населения с комплексным хозяйством (земледельческо-скотоводческим) к кочевничеству происходил в относительно небольшой промежуток времени: «для этого совсем не обязателен срок в несколько столетий, а тем более тысячелетий» (Марков 1976: 9—24). Это и объясняет археологическую «незаметность» подобных процессов, но вместе с тем свидетельствует о сосуществовании и неизбежных контактах близкородственных или разноэтничных сообществ в различных соседствующих ландшафтных регионах. В археологическом проявлении эти сообщества могли являться представителями различных монолитных или локальных синкретических культур.
По всей вероятности, публикуемое выше погребение 10 кургана 1 группы «Плавни» и относится к этому временному отрезку, переходному от финального этапа позднего бронзового века к предскифскому периоду. Нам представляется, что приведенные аргументы в совокупности позволяют достаточно ясно определить относительную хронологическую позицию погребения 10. Особенности погребальной конструкции (подбой) при впуске погребения в насыпь более раннего кургана эпохи бронзы, вне единовременного
С.Б. Вальчак, С.Д. Лысенко, С.С. Лысенко, Н.Ю. Горболь, С.Н. Разумов, В.С. Синика
МАИАСП № 12. 2020
компактного могильника, исключают отнесение данного погребения к белозёрской культуре. С другой стороны, инвентарь погребения не имеет точных аналогий в черногоровских древностях и типологически восходит к комплексу украшений эпохи поздней бронзы. Положение и ориентация скелета в погребении Глиное-Плавни 1/10 в целом близко положению скелета в погребении 20 северного пятна могильника Будуржель, браслет из которого также является ближайшей аналогией глинянскому (за исключением наличия на последнем петелек на концах). Можем предположить, что погребение Глиное-Плавни 1/10 относится к горизонту наиболее ранних погребений черногоровской культуры в регионе, представленных уже черногоровским погребальным обрядом при сохранении определённых белозёрских пережитков в вещевом комплексе. Вполне возможно, что этот горизонт непродолжительное время ещё сосуществует с финальным этапом белозёрской культуры.
В Северо-Западном Причерноморье самый финал белозёрской культуры представлен комплексами погребений Великодолинское 2 (Одесская обл., Овидиопольский р-н) на правобережье Днестровского лимана, Глиное/Сухая Балка 1/9 и Суклея (Слободзейский р-н) на левобережье Нижнего Днестра. Эти захоронения датированы С.М. Агульниковым второй половиной X в. до н.э. (Агульников 2005: 89, табл. IV: 24 ). Ближайший из этих памятников (Глиное/Сухая Балка 1/9) расположен в 7,02 км к СВ от с. Глиное Слободзейского района (Яровой, Савва 1982: 10—11, табл. VII: 1, 2 ; Агульников 2005: 89, табл. IV: 24: 3, 4 ) и в 5,88 км к ССЗ от кургана 1 группы «Плавни», что подтверждает непрерывность культурного развития в микрорегионе.
В. В. Отрощенко указывал, что «появление черногоровского комплекса памятников привело к разрушению белозёрской культуры и системы её хозяйства в степи так быстро, что проследить контакты между черногоровцами и белозёрцами не удаётся. Поэтому оснований для синхронизации названных групп населения нет» (Отрощенко 2001: 193). В качестве примеров прямой стратиграфии между белозёрской и черногоровской культурами исследователь приводит в том числе и упомянутые выше могильники Суворово и Кочковатое (Отрощенко 2001: 191). Однако, отсутствие обратной стратиграфии немногочисленных черногоровских комплексов по отношению к белозёрским совершенно не исключает возможности краткого сосуществования этих культур в момент их соприкосновения.
Абсолютная хронология погребения Глиное-Плавни 1/10, таким образом, может быть построена с учётом хорошо разработанной хронологии белозёрской культуры в Северном Причерноморье. Большинство исследователей региона на сегодняшний день датируют белозёрскую культуру в пределах XII—X вв. до н.э. (Отрощенко 1985: 524; 1986: 149—150; 2001: 193; 2005: 195; Агульников 2005; Ромашко 2013: 249; Куштан 2013: 176, рис. 109; Бочкарёв 2017: 158—204; Бочкарёв, Кашуба 2018: 208, рис. 1), иногда включая в ранний этап смешанные сабатиновско-белозёрские комплексы второй половины XIII в. до н.э. Датировку же позднего этапа все исследователи ограничивают рамками X в. до н.э. С.М. Агульников отмечает, что «в ранних черногоровских погребальных комплексах какое-то время ещё проявляются белозёрские черты, но к концу X — началу IX вв. они полностью вытесняются влиянием киммерийских культур Евразийских степей» (Агульников 2005: 89). К близкому выводу приходят В.С. Бочкарёв и М.Т. Кашуба: «в конце X или в начале IX в. до н.э. все восточноевропейские степи были беспрепятственно заняты ранними кочевниками, видимо, пришедшими из глубин Азии» (Бочкарёв, Кашуба 2018: 216). Этим временем, концом X — первой половиной IX в. до н.э., можем предварительно датировать и погребение 10 кургана 1 группы «Плавни» у с. Глиное.
МАИАСП № 12. 2020
Погребения предскифского времени в кургане группы «Плавни» на Нижнем Днестре
Погребение же 17 кургана 1 могильника «Плавни», учитывая совершенно не характерное для белозёрской культуры положение и ориентировку погребённого, как и «реликтовые» особенности сосуда, мы можем отнести к более позднему горизонту предскифского периода и датировать в рамках IX—VIII вв. до н.э.
Таким образом, представленные новые материалы из могильника «Плавни» у с. Глиное пополняют наши знания о комплексах предскифского времени Северного Причерноморья и ещё раз обращают внимание на сложность их культурной интерпретации, а также на проблему относительной и абсолютной датировки таких погребений.
Список литературы Погребения предскифского времени в кургане группы «Плавни» на Нижнем Днестре
- Агульников С.М. 2005. Хронология и периодизация белозёрских памятников Пруто-Днестровского междуречья. Revista arheologică. Serie nouă. Vol. I. Nr. 1, 77-91.
- Андрух С.И., Добролюбский А.О., Тощев Г.Н. 1985. Курганы у с. Плавни в низовьях Дуная. Одесса: ОГУ.
- Бочкарёв В.С. 2017. Этапы развития металлопроизводства эпохи поздней бронзы на юге Восточной Европы. Stratum plus 2, 159-204.
- Бочкарёв В.С., Кашуба М.Т. 2018. Культурно-историческая ситуация на юге Восточной Европы накануне века железа. Stratum plus 3, 207-220.
- Вальчак С.Б. 2006. Комплекс впускного погребения "А", колчанный набор из кургана Малая Цимбалка и их место в хронологии предскифского периода. В: Петренко В.Г., Яблонский Л.Т. (ред.). Древности скифской эпохи. Москва: ИА РАН, 262-276 (МИАР 7).
- Вальчак С.Б. 2018. Новочеркасский клад 1939 г. - эпонимный памятник предскифского периода. В: Синика В.С., Рабинович Р.А. (ред.). В: Синика В.С., Рабинович Р.А. (ред.). Древности. Исследования. Проблемы. Сборник статей в честь 70-летия Н.П. Тельнова. Кишинёв; Тирасполь: Stratum plus, 137—146.
- Вальчак С.Б., Демиденко С.В., Демиденко Ю.В. 2009. Погребения раннего железного века могильника Красные Липки. Историко-археологический альманах 9, 4—16.
- Вальчак С.Б., Мамонтов В.И., Сазонов А.А. 1996. Ранние памятники черногоровского этапа в Восточной Европе: происхождение и хронология. Историко-археологический альманах 2, 23—44.
- Вальчак С.Б., Пьянков А.В., Хачатурова Е.А., Эрлих В.Р. 2016. Кубанский могильник. Материалы раскопок Н.В. Анфимова 1965 года. Москва: Краснодарский государственный музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына; Институт археологии РАН; Государственный музей Востока.
- Вальчак С.Б., Синика В.С., Лукасик С., Поспешны Л., Горболь Н.Ю. 2019. Предскифские погребения группы «Сад» у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра. Journal of archaeology, anthropology and interdisciplinary studies 1, 159—182.
- Ванчугов В.И. 1981. Раскопки поселения позднего бронзового века Балта в Южном Побужье. В:
- Мезенцева Г.Г. (ред.). Древности Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 71—83.
- Ванчугов В.П. 1990. Белозёрские памятники в Северо-Западном Причерноморье. Киев: Наукова думка.
- Гаврилюк Н.А. 1979. Лощёная керамика степных погребений предскифского времени. В: Баран В.Д. (ред.). Памятники древних культур Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 20—40.
- Гошко Т.Ю., Отрощенко В.В. 1986. Погребения киммерийцев в катакомбных и подбойных сооружениях. СА 1, 168—183. Гудкова и др. 1982: Архив ИА НАН Украины. № 1981/1.
- Гудкова А.В., Добролюбский А.О., Тощев Г.М., Фокеев М.М. 1982. Отчёт о работе Измаильской новостроечной экспедиции в 1981 г. Киев.
- Дворниченко В.В. 1968. Погребения с подбоями эпохи поздней бронзы в Северном Причерноморье. В: Яценко И.В. (ред.). Сборник докладов на IX и X Всесоюзных археологических студенческих конференциях. Москва: МГУ, 5—15.
- Дубовская О.Р. 1993. Вопросы сложения инвентарного комплекса черногоровской культуры. Археологический альманах 2, 137—160.
- Дубовская О.Р. 1997. Об этнокультурной атрибуции «новочеркасских» погребений Северного Причерноморья. Археологический альманах 6, 181—219.
- Кадиева А.А., Вальчак С.Б., Демиденко С.В. 2020. Мужские погребения предскифского времени в вытянутом положении на могильнике Заюково-З. КСИА 258, 165—180.
- Клейн Л.С. 1960. Кургани бшя с. Трощького. Археолог1чт пам 'ятки УРСР VIII, 141—163.
- Ковалёва И.Ф., Мухопад С.Е. 1982. Скифское погребение конца VI—V вв. до н.э. у с. Александровка. В: Тереножкин А.И. (ред.). Древности степной Скифии. Киев: Наукова думка, 91—102.
- Кореняко В.А. 1982. Погребения предскифского времени на Восточном Маныче. КСИА 170, 64—70.
- Куштан Д.П. 2013. Ивдень Люостепового Подшпров'я за доби шзньо! бронзи. Археологический альманах 29.
- Лесков А.М. 1970. Кировское поселение. В: Лесков А.М. (ред.). Древности Восточного Крыма. Киев: Наукова думка, 7—59.
- Литвиненко Р.А. 2009. Культурне коло Бабине (за матер1алами поховальних пам'яток). Автореф. ... докт. ют. наук. Кшв.
- Лукьяшко С.И. 1999. Предскифский период на Нижнем Дону. Азов: Азовский краеведческий музей.
- Лысенко С.Д., Лысенко С.С. 2011. Сухопутные коммуникации восточного ареала тшинецкого культурного круга. В: Ignaczak M., Kosko A., Szmyt M. (red.). Miqdzy Baltykiem a Morzem Czarnym. Szlaki miqdzymorza: IV — I tys. przed Chr. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 311—364 (Archaeologia Bimaris 4).
- Лысенко С.С. 2005. Гривны, браслеты и перстни со спиральными щитками с территории Украины. В: Ковалёва И.Ф., Гаврилюк Н.А., Терпиловский Р.В., Клочко В.И. (ред.). Проблемы эпохи бронзы Великой Степи. Луганск: Глобус, 25—36.
- Лысенко С.С. 2006. Украшения населения Украины эпохи поздней бронзы. Дисс. ... канд. ист. наук. Киев.
- Марков Г.Е. 1976. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. Москва: Московский государственный университет.
- Махортых С.В. 2005. Киммерийцы Северного Причерноморья. Киев: Шлях.
- Мелюкова А.И. 1979. Скифия и фракийский мир. Москва: Наука.
- Мельник О.О., Стеблина I.O. 2012. Кургани Кривор1жжя. Кривий Pir Видавничий дiм.
- Ойстрах Т.И. 1991. О датировке Суворовского курганного могильника. В: Ванчугов В.П. (ред.). СевероЗападное Причерноморье — контактная зона древних культур. Киев: Наукова думка, 82—87.
- Отрощенко В.В. 1985. Белозёрская культура. В: Телегин Д.Я. (ред.). Археология Украинской ССР. Т. 1. Киев: Наукова думка, 519—526.
- Отрощенко В.В. 1986. Белозёрская культура. В: Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н. Культуры эпохи бронзы на территории Украины. Киев: Наукова думка, 117—152.
- Отрощенко В.В. 1989. Особенности погребений черногоровской группы. В: Виноградов Ю.Г. (ред.).
- Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Т. I. Тезисы докладов областной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Б.Н. Гракова. Запорожье: ЗГУ, 111—112.
- Отрощенко В.В. 2001. Проблеми пер1одизацИ' культур середньог та тзньог бронзи твдня Сх1дно1' Свропи (культурно-стратиграф1чт з1ставлення). Кшв: 1А НАНУ.
- Отрощенко В.В. 2005. Епоха енеолггу-бронзи. В: Залiзняк Л.Л., Моця О.П., Зубар В.М. Археолог1я Украгни: Курс лекцт. Кшв: Либщь, 106—202.
- Отрощенко В.В. 2019. До проблеми розтзнавання поховань чорногорiвськоï групи. В: Скорий С.А. (ред.). Археолог1я i давня ¡стор1я Украгни 2/31. Кшв: 1А НАНУ, 149—155.
- Попандопуло З.Х. 1993. Курганы эпохи меди-бронзы Бабурского могильника. Древности степного Причерноморья и Крыма IV, 79—112.
- Ромашко В.А. 1979. Новые киммерийские памятники в материалах экспедиции ДГУ. В: Туренко Н.В. (ред.). Курганные древности степного Поднепровья III—I тыс. до н.э. Т. 3. Днепропетровск: ДГУ, 104—110.
- Ромашко В.А. 2013. Заключительный этап позднего бронзового века Левобережной Украины (по материалам богуславско-белозёрской культуры). Киев: КНТ.
- Савва Е.Н. 1992. Культура многоваликовой керамики Пруто-Днестровского междуречья. Кишинев: Штиинца.
- Синика В.С., Разумов С.Н., Тельнов Н.П. 2016. Археологическое наследие Приднестровья. Тирасполь: Полиграфист.
- Субботин Л.В., Добролюбский А.О., Тощев Г.Н. 1995. Памятники эпохи бронзы курганного могильника Градешка. Древности степного Причерноморья и Крыма V, 119—128.
- Субботин Л.В., Разумов С.Н., Синика В.С. 2017. Семёновские курганы. Тирасполь: Stratum plus (Археологические памятники Приднестровья IV).
- Тереножкин А.И. 1976. Киммерийцы. Киев: Наукова думка.
- Тощев Г.Н. 1992. Белозёрский могильник Будуржель в Подунавье. РА 3, 19—30.
- Фидельский С.А., Синика В.С. 2010. Два новых степных киммерийских погребения (к вопросу о северокавказских влияниях на Юго-Восточную Европу в предскифский период). Revista arheologicä. S.n. Vol. VI. Nr. 1, 164—170.
- Черняков И.Т. 1977. Киммерийские курганы близ устья Дуная. В: Тереножкин А.И. (ред.). Скифы и сарматы. Киев: Наукова думка, 29—38.
- Шарафутдинова И.Н. 1982. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы. Киев: Наукова думка.
- Эрлих В.Р. 2007. Северо-Западный Кавказ в начале железного века: протомеотская группа памятников. Москва: Наука.
- Яровой Е.В., Кашуба М.Т., Махортых С.В. 2002. Киммерийский курган у пгт. Слободзея. В: Кетрару Н.А. (ред.). Северное Причерноморье: от энеолита к античности. Тирасполь: Типар, 279—343.
- Яровой, Савва 1982: Архив Национального музея истории Молдовы. № 178. Яровой Е.В., Савва Е.Н. 1982. Отчет о полевых исследованиях Слободзейской новостроечной археологической экспедиции в 1982 г.
- Müller-Karpe H. 1980. Handbuch der Vorgeschichte (IV). Bronzezeit (Dritter Teilband, tafeln). München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.
- Novotna M. 1984. Halsringe und Diademe in der Slowakei. München: C.H. Beck.
- Petrescu-Dimbovi^a M. 1977. Depozitele de bronzuri din Romania. Bucure§ti: Editura Academiei Republicii Socialiste Romania.
- Petrescu-Dimbovi^a M. 1978. Die Sicheln in Rumänien mit Corpus der jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens. München: C.H. Beck (Prähistorische Bronzefunde. Abteilung XVIII. Bd. 41).