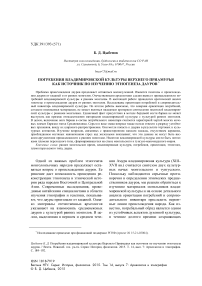Погребения владимировской культуры Верхнего Приамурья как источник по изучению этногенеза дауров
Автор: Цыбенов Базар Догсонович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология и антропология Евразии
Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Проблема происхождения дауров продолжает оставаться малоизученной. Имеются гипотезы о происхождении дауров от киданей и от ранних монголов. Отечественными археологами сделан вывод о принадлежности погребений владимировской культуры к ранним монголам. В настоящей работе проводится критический анализ гипотезы о происхождении дауров от ранних монголов. Исследованы ориентация погребений и сопроводительный инвентарь владимировской культуры. По итогам работы выяснено, что северная ориентация погребений, согласно имеющимся материалам, не может являться надежным критерием соотнесения носителей владимировской культуры с ранними монголами. Единичный факт присутствия в могиле берцовой кости барана не может выступать как признак отождествления материалов владимировской культуры с культурой ранних монголов. В целом, включение ноги барана в состав погребального инвентаря считается характерной чертой многих кочевых племен Евразии эпохи Средневековья. Серьги в виде знака вопроса также нельзя отнести к разряду устойчивых признаков, ввиду их широкого распространения. Они могли попасть к даурам в результате торговых и культурных контактов. Изучение вопросов, связанных с правосторонним запахом одежды, отсутствием керамики, преобладанием костяных наконечников стрел над железными показывает, что эти данные не могут быть вескими аргументами принадлежности к ранним монголам. Носители владимировской культуры могли быть потомками племени переходного типа, сформировавшегося на стыке монгольского и тунгусо-маньчжурского миров.
Раннее монгольское время, владимировская культура, погребения, ориентация, этногенез, племя переходного типа, дауры
Короткий адрес: https://sciup.org/147219389
IDR: 147219389 | УДК: 391/393
Текст научной статьи Погребения владимировской культуры Верхнего Приамурья как источник по изучению этногенеза дауров
Одной из важных проблем этногенеза монголоязычных народов продолжает оставаться вопрос о происхождении дауров. Ее решение даст возможность проведения реконструкции этногенеза и этнической истории ряда народов Восточной и Центральной Азии. Современные исследования, проводимые китайскими специалистами в области изучения этнографии и генетики, показывают, что дауры произошли от киданей. Однако материалы отечественных археологов указывают на взаимосвязь средневековых дауров с культурой ранних монголов. В целом, выделенная в верхнем и среднем тече- нии Амура владимировская культура (XIII– XVII вв.) считается синтезом двух культурных начал: монгольского и тунгусского. Поскольку наблюдаются серьезные противоречия в определении этнических предшественников дауров, мы решили обратиться к изучению материалов могильников влади-мировской культуры и на основе детального анализа ориентации погребений и сопроводительного инвентаря проследить вероятные линии происхождения народа. Как известно, погребальный обряд является одним из устойчивых аспектов духовной культуры, в течение долгого времени сохраняющих
∗ Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-21-03004).
Цыбенов Б. Д. Погребения владимировской культуры Верхнего Приамурья как источник по изучению этногенеза дауров // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 184–192.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография
фрагменты исторической памяти о происхождении и этнокультурной истории народа.
Культура была выделена в Верхнем Приамурье Д. П. Болотиным. Ее носители хоронили умерших в земле, ориентируя их в прямо противоположных направлениях – на север и на юг. Эту традицию можно проследить даже в рамках одного памятника [Болотин, 1993. С. 85]. Ориентация покойных головой на север и состав сопроводительного инвентаря, по мнению археологов, свидетельствуют о принадлежности к культуре ранних монголов. В этой связи обратимся сначала к погребениям с трупоположением головой на север в археологических культурах сопредельных с Верхним Приамурьем территорий.
Считается, что в погребальном обряде раннемонгольских племен Забайкалья и Прибайкалья конца I – начала II тыс. н. э. ориентация погребенных была северной или северо-восточной. Подобная ориентация могил характерна для погребений сяньби и ки-даней [Асеев, 2009. С. 195; Малая энциклопедия…, 2011; Ивлиев, 1990. С. 44–45; Цэвээндорж и др., 2008. С. 205]. Части средневековых тюрков и тунгусов Забайкалья и Тувы были также присущи погребения с ориентацией на север и северо-восток [Малая энциклопедия…, 2011; Именохоев, 1992. С.44–45; Цэвээндорж и др., 2008. С. 192]. Возможно, отдельные тунгусоязычные и тюркоязычные этнические группы имели тесные этнокультурные контакты с монголоязычным большинством. Поэтому для этнической атрибуции средневекового населения Верхнего Приамурья такой (и единственный) признак, как северная ориентация погребений, не может являться надежным свидетельством соотнесения владимиров-ской культуры с культурой ранних монголов. К тому же ориентация погребенных во владимировской культуре, порой даже на одном могильнике, была прямо противоположной – южной или северной, чего не встречается в культуре ранних монголов.
Южная или юго-западная ориентация умерших, по предположению Д. П. Болотина, была присуща ряду тунгусских этнических групп, и встречалась чаще, чем захоронения с трупоположением головой на север. Умершие были похоронены в погребальных конструкциях в виде лодок [Болотин, 1995. С. 12–13]. Атрибуция носителей указанной погребальной традиции с ныне существующими народами остается малоизученной. Возникает вопрос: «могут ли быть эвенки-орочоны потомками носителей этой традиции?» Учитывая наличие погребальных конструкций в виде лодок, обращенных носом к северу, можно допустить, что они оставлены предками эвенков-орочонов, поскольку имеются сведения об использовании последними лодки-колоды в современном погребальном обряде. Отмечается, что «голова покойника обязательно должна быть направлена на заход солнца» [Мазин, 1984. С. 64], т. е. на запад. Эти данные не согласуются с указанной традицией влади-мировской культуры, где погребения ориентированы головой на юг, юго-запад.
Колоды и гробовища в виде лодок имеются в ундугунской культуре (XII–XV вв.). Культура была выделена в верхнем течении р. Хилок, по рекам Ингода, Шилка, Чита, в районе Беклемишевских озер. Ее носителей считают тунгусоязычными [Кириллов, 1983. С. 124]. Характеристики ундугунской и вла-димировской культур в ряде случаев совпадают: наличие костяных наконечников стрел, малое количество керамических изделий, наличие предметов конской сбруи. Имеются серьезные различия в трупополо-жении: если во владимировской культуре в «лодках», ориентированных носовой частью на север, умершие лежат головой на юг и юго-запад, то в ундугунской культуре и «лодки», и костяки ориентированы на север, северо-восток. Другим немаловажным признаком, отличающим две культуры, является наличие костей жертвенного животного в большинстве погребений ундугунской АК. По всей видимости, в древности носители этих культур представляли собой единую общность и погребали умерших в «лодках», а позже в результате миграций и этнокультурных контактов с другими племенами погребальная обрядность обособившихся групп приобрела свои уникальные черты.
Обратимся далее к погребальному инвентарю, который, по данным археологов, имеет монгольские признаки. К ним относятся следующие артефакты: 1) небольшое количество керамической посуды; 2) преобладание костяных наконечников стрел над железными; 3) серьги в виде вопросительного знака с бусиной на нижнем отростке; 4) правосторонний запáх в одежде погребенных (в двух случаях); 5) берцовая кость животного – «сулдэ», обнаруженная возле черепа (в одном захоронении). Особенно важным представляется последний признак, поскольку обрядовый ритуал установления в изголовье погребенного берцовой части задней ноги барана (овцы) в вертикальном положении является «генеральным признаком» раннемонгольской АК [Именохоев, 1992. С. 35]. Раннемонгольская культура (VII–XIV вв.) была выделена в Забайкалье и Северной Монголии Н. В. Именохоевым. Правомерность ее определения как раннемонгольской продолжает оставаться дискуссионной ввиду существования другой гипотезы Г. П. Сосновского, Е. А. Хамзиной и Л. Р. Кызласова об отнесении ряда могильников этой культуры к тюркоязычному населению. Таким образом, вопрос об этнической принадлежности населения, оставившего исследуемые памятники, остается пока открытым [История Бурятии, 2011. С. 238]. Современные российские археологи также отмечают, что «без проведения специальных исследований трудно судить, насколько широко был распространен на территории Евразии в XIII–XIV вв. ритуал помещения в могилу голени барана: характерен ли он лишь для монгольских захоронений или был составной частью погребального ритуала других скотоводческих общностей» [Харинский и др., 2014. С. 73– 74]. По данным Б. Б. Дашибалова, положение в могилу ноги барана – черта, характерная для многих кочевых культур средневековой эпохи в евразийских степях. Этот обряд отмечен у восточноевропейских кочевников, в кыпчакских захоронениях в Средней Азии, тюркских могильниках в Кыргызстане. Его практиковали также сарматы По-днепровья и Крыма, юечжи Средней Азии, кочевое население Бактрии [Дашибалов, 2002. С. 267].
Несмотря на имеющиеся версии о тюр-коязычности населения, оставившего могилы с установленной берцовой костью барана, следует признать, что на протяжении последних лет и в настоящее время точка зрения о монголоязычности носителей данной культуры является основной. Возможно, именно это обстоятельство вкупе с найденной в одном захоронении берцовой костью животного явилось поворотным моментом в соотнесении дальневосточными археологами владимировской культуры с раннемонгольской. Можно ли говорить о со- ответствии археологических культур, если «генеральный признак» раннемонгольской АК – берцовая кость овцы – обнаружен лишь в одном погребении владимировской культуры? Единичный факт установления в могилу берцовой кости животного, на наш взгляд, не может выступать как признак отождествления материалов владимиров-ской АК с культурой ранних монголов. Однако его можно связать с проникновением на Верхний Амур этнической группы, отличной от носителей владимировской культуры. Появление ее в регионе носило кратковременный характер, и группой было оставлено лишь одно ясное свидетельство о своем пребывании. Поскольку правомерность отнесения раннемонгольской культуры к собственно монгольским группам остается дискуссионной, нельзя дать однозначный ответ и на вопрос об этнической принадлежности населения, на определенное время посетившего Верхний Амур. Наряду с ранними монголами ими вполне могли быть как тюркоязычные, так и тунгусоязычные племена (носители ундугунской АК). Что касается проникновения именно монголов, на этот счет имеются исторические свидетельства. Так, например, в июне 1634 г. по приказу маньчжурского хана южные монголы-хорчины во главе с чиновником Бадари, преследуя Ганжуурсайдара, вторглись на территорию проживания дауров в Приамурье. В ходе произошедшего там сражения Ганжуурсайдар потерпел поражение. Победители на обратном пути занялись грабежами, захватили много скота и имущества. Большое количество даурского населения, по некоторым данным, более 10 тыс. чел., было уведено ими в бассейн р. Нонни [Dagur ündüsüten-ü…, 1989. С. 45]. Из сказанного можно сделать следующий вывод: Амур в верхнем течении, вероятно, не был непреодолимой преградой для войск южных монголов, поскольку две очевидно большие группы хорчинов переправились на другой берег реки и устроили сражение. В разные исторические периоды, сопровождающиеся кризисами и войнами, на Верхний Амур могли перекочевывать отдельные группы, как монголов, так и их предков – монголоязычных племен. Могло переселиться на Верхний Амур в XIII–XIV вв. и племя переходного типа, погребальный обряд которого к тому времени отличался от общемонгольской обрядности. Ритуал по- мещения в могилу костей животных был переосмыслен, и к моменту прихода в Приамурье их уже не устанавливали в погребениях. По всей вероятности, к тому времени обычай положения берцовой кости ноги барана в могилу был заменен ее ритуальным сожжением. Так, в описании похоронной обрядности дауров начала XX в. говорится, что после погребения дауры сжигают лучшую часть пищи – берцовую кость овцы [Народы…, 1965. С. 670]. Конечно, нельзя исключать и духовной составляющей данного ритуала, поскольку, согласно воззрениям древних монголов, в берцовой кости барана содержалась жизненная сила – сулдэ, и кость играла какую-то определенную роль в посмертном существовании человека [Данилов, 1985. С. 89]. Ритуал сожжения костей жертвенных животных был присущ и средневековым монголам, о чем свидетельствовал П. Карпини, который сам видел, как женщины собирались для сожжения костей «за упокой душ людей» [Бартольд, 1966. С. 388]. Таким образом, к моменту прихода на Верхний Амур это племя уже отличалось от ранних монголов в проведении погребального обряда, хотя в некоторых деталях имелись и схожие моменты. Обычай дауров ставить перед могилой головы быков и баранов, а сзади нее – голы лошадей и быков [Народы…, 1965. С. 670], вероятно, также восходит к традиции древних скотоводческих народов. Как известно, черепа лошадей, коров, баранов встречаются в погребениях дворцовской культуры (XII–XIII вв. до н. э.), культуры плиточных могил, в захоронениях хунну, бурхотуйской культуры [Данилов, 1985. С. 90].
Одним из свидетельств принадлежности владимировской культуры к ранним монголам считается обнаружение в захоронениях серьги на проволочной основе из серебра или бронзы в виде вопросительного знака с одной или двумя бусинами на нижнем отростке. Таких предметов обнаружено 23 экз. К этому типу близки серьги с прикрепленной к нижнему отростку свинцовой полой каплевидной подвеской [Болотин, 1993. С. 94]. Обращение к материалам раннемонгольской культуры показывает, что серьги, имеющиеся в данной культуре, делятся на два типа: 1) отлитые из серебра или бронзы; 2) изготовленные из серебряной проволоки, полученной методом волочения. Серьги второго типа изготавливались в виде спира- ли или знака вопроса, украшались небольшими жемчужинами, серебряными полыми шарами, стеклянными бусинками, костяными цилиндриками. Такие серьги известны степным народам с конца I – начала II тыс. н. э. [Именохоев, 1992. С. 33]. Они имели широкое распространение в Евразии, встречались у тюркоязычных племен, в Волжской Булгарии, Золотой Орде, древнерусских памятниках XIV–XV вв., в частности в курганах Ижорского плато. В XVI–XVII вв. чулымские тюрки носили серьги в форме вопросительного знака [Гайко, 2009. С. 34]. В XIX – начале XX в. во многом схожий вид серег сохранялся у ногайцев Северо-Восточного Кавказа [Кузеева, 2014]. Это подтверждает факт широкого распространения серег в виде знака вопроса. Их появление в Верхнем Приамурье, несомненно, может быть связано, во-первых, с приходом в регион пришлого населения, носившего подобные серьги, во-вторых, с развитием торговых и культурных контактов, в результате которых эти предметы могли попасть к автохтонному населению в бассейн Верхнего Амура. Этот вид серег, найденных в количестве 23, все же нельзя отнести к разряду устойчивых признаков ранних монголов ввиду того, что «генеральный» признак раннемонгольской культуры – обряд вложения в могилу берцовой кости барана – обнаружен лишь в одном захоронении. Столь широкое распространение этих серег на огромном пространстве от Верхнего Амура до Ижорского плато и Северного Кавказа можно объяснить не только завоевательными походами монголов, а в первую очередь популярностью этих украшений у средневекового населения и налаженными торговыми и культурными связями в конце I – начале II тыс. н. э. Поэтому такой признак, как серьги в виде вопросительного знака, имевшие широкое хождение в Евразии, не может служить надежным критерием для определения этнической принадлежности археологических культур. Можно предположить, что эти модные в то время серьги попали в Верхнее Приамурье к племени переходного типа в результате торгово-обменных операций и культурных контактов.
Признаком близости владимировской культуры и ранних монголов, по данным археологов, является и небольшое количество керамической посуды. Она представлена чашами (пиалы и чашечка-стаканчик), блюдом, кувшинами, изготовленными на гончарном круге. Для чаш и блюда характерны невысокий кольцевой поддон, села-доновая глазурь (встречаются прозрачная, бесцветная и голубая) и растительный орнамент в виде бутонов цветов, листьев, стеблей [Болотин, 1993. С. 87–88]. Найденные кувшины (12 экз.) отчасти сближаются с мохэскими сосудами (из-за такой детали, как вытяжной валик над верхним краем сосуда), а стеклянная полива зеленого, коричневого или черного цвета, встреченная в семи кувшинах, свидетельствует о традициях дальневосточной поливной посуды, присущей культуре Бохая, танского Китая, киданей. Для пяти других кувшинов характерны тонкие стенки, стеклянное покрытие иного способа, а также другое керамическое тесто с небольшим содержанием мелкого песка [Там же. С. 88–89].
Обратимся теперь к материалам раннемонгольской культуры. В могилах саянтуй-ского типа раннемонгольской культуры имелись круглодонные горшки [Дашибалов, 2002. С. 263]. Другие изделия из керамики не отмечены, поэтому согласимся с тем, что в культуре ранних монголов керамические изделия были редки. Однако может ли данное обстоятельство являться свидетельством родства двух культур – владимировской и раннемонгольской? Нужны дальнейшие сравнительно-сопоставительные исследования в этой области, которые могут ответить на вопросы, связанные с керамическими изделиями Забайкалья и Приамурья.
К свидетельствам появления ранних монголов в Приамурье относят и правосторонний запáх в одежде погребенных, прослеженный в двух погребениях владимировской культуры – Прядчинский и Владимировский некрополи. О запáхе на правую сторону свидетельствует положение пуговиц в могилах. Пуговицы были грушевидной формы, изготовлены из бронзы и кости [Болотин, 1993. С. 92]. Исследовательница культуры чжурчжэней Л. Н. Гусева отмечает, что у большинства народов Дальнего Востока, как современных чжурчжэням, так и более поздних, наблюдается правый запáх в одежде. Халаты с правым запáхом носили японцы, корейцы, китайцы, монголы, уйгуры и другие народы. В то же время известно, что чжурчжэни, кидани и шивэй носили одежду с левосторонним запáхом. Для шивэй были характерны короткие куртки из белой оленьей кожи, а также одежда из звериных шкур, свиной и рыбьей кожи, запахивающаяся на левую сторону [Гусева, 2005. С. 100–102]. Таким образом, если следовать логике вещей, предки дауров также должны были носить одежду с запáхом на левую сторону. Cведений о раннем бытовании у дауров одежды из свиной и рыбьей кожи не имеется, поэтому, очевидно, данные виды одежды относятся к тем группам шивэй, потомками которых являются нанайцы, удэгейцы, орочи и др.
Можно предложить следующую версию замены левого запáха на правый. Для дауров и их предков была характерна одежда из звериных шкур, включая куртки из оленьей кожи. Запáх одежды, как и у родственных киданей, преимущественно был левый, однако не имел акцентирующего характера. В первую очередь, эта особенность бросалась в глаза китайским летописцам, которые подчеркивали именно данное важное отличие «варваров» от собственно китайцев. Большие изменения в одежде могли произойти под влиянием усилившихся монголов. Смена запáха в одежде происходила не сразу, поначалу приобрести монгольские халаты могла лишь знать или верхушка складывавшегося даурского общества. К тому же, возможно, процесс смены одежды протекал синхронно с утратой левого запáха у чжурчжэней и их потомков – маньчжуров. Известно, что у поздних маньчжуров уже наблюдается правосторонний запáх в одежде [Там же. С. 101]. Надо полагать, что подобный постепенный процесс смены запáха в одежде проходил сначала у предков дауров, а затем и собственно у дауров.
К артефактам, свидетельствующим о появлении ранних монголов на территории Верхнего Приамурья, относят преобладание костяных наконечников стрел над железными, хотя в предшествующие эпохи наблюдалась обратная ситуация. Соотношение костяных и железных наконечников стрел во владимировской культуре составляет примерно 6,5 : 1 [Болотин, 1993. С. 90]. Хотя имеются и исключения. Например, в коллективном захоронении у с. Прядчино Амурской области обнаружены 36 железных и 24 костяных наконечника стрел. Предполагают, что здесь отразилось начало тенденции количественного роста изделий из кости [Болотин, Исаченко, 1995. С. 53]. Из 36 железных наконечников 26 экз. были бронебойными, однако из-за неудовлетворительной сохранности невозможно разделить их на типы. Три типа наконечников с плоским пером (боеголовковые, асимметрично-ромбические, овально-крылатые), которых насчитывается 10 экз., имели массовое распространение в Восточной Сибири и Монголии в первой половине II тыс. н. э. Среди других находок имеются: накладка лука, схожая с вещами из чжурчженьских АК Приамурья и, вероятно, относящаяся к оружию «тунгусского» типа; серебряное кольцо, одевавшееся на большой палец при стрельбе из лука и аналогичное широко распространенному у амурских народов в XIX в. предмету, которым пользовались не только при стрельбе из лука, но и при добыче рыбы как упором для остроги [Болотин, Исаченко, 1995. С. 50–53]. Эти и другие находки, по данным археологов, являются свидетельствами сосуществования двух традиций в изготовлении оружия, что характерно, прежде всего, для ранних этапов соседства этносов. В результате слияния автохтонной тунгусской и пришлой монгольской образовалась владимировская культура [Там же]. Однако наличие костяных наконечников стрел и других атрибутов, использовавшихся при стрельбе из лука, не является надежным свидетельством пребывания ранних монголов в Верхнем Приамурье. Наблюдаются следующие несоответствия: костяные наконечники, приписываемые ранним монголам, одинаковы с мохэскими; сложносоставной лук схож с вещами из чжурчженьских АК Приамурья и относится к оружию «тунгусского» типа; кольцо, используемое при стрельбе из лука, встречалось у амурских народов в XIX в. В итоге мы задаемся вопросом, не указывают ли обнаруженные предметы вооружения на приход в Верхнее Приамурье некой переходной группы? Возможно, еще до прихода на Амур предки дауров были отличной от собственно монголов, смешанной группой. Мы солидарны с мнением Е. И. Кычанова о том, что «границы между монголоязычными ши-вэй и киданями и тунгусо-маньчжурскими мохэ, бохайцами и др. и в языковом отношении и этнически были более стертыми, образуя массу переходных групп, по сравнению с более резкими границами между тюркоязычным и монгольским миром» [1980. С. 139]. Предки дауров не могли не контактировать с соседствующими тунгусо- маньчжурскими группами. Столь многие сходства с чжурчженьской культурой и с мохэ в материалах владимировской культуры, на наш взгляд, нельзя объяснить одним сближением и сосуществованием ранних монголов и проживавших на Верхнем Амуре тунгусо-маньчжуров. Скорее всего, дауры пришли в Приамурье, уже будучи сформированной или формирующейся переходной группой, в этнокультурном плане существенно отличающейся от ранних монголов.
Итак, наше обращение к основным признакам владимировской археологической культуры, которые, по мнению ряда дальневосточных археологов, связаны с приходом ранних монголов на Верхний Амур, выявляет некоторые недостатки гипотезы. Обнаруженные в Приамурье могильники можно отнести к племени переходного типа. Наши итоги сводятся к следующему: во-первых, северная ориентация трупоположения во владимировской АК, считающаяся этническим признаком ранних монголов, является достаточно распространенной в археологических культурах Забайкалья, Монголии, Северо-Восточного Китая. Во-вторых, кость животного, установленная в изголовье могилы, является единичным случаем во вла-димировской культуре и не может служить веским доводом соотнесения владимиров-ской культуры с культурой ранних монголов. В-третьих, такие признаки, как серьги в виде знака вопроса, костяные наконечники стрел, отсутствие керамики, правосторонних запа́х одежды также не могут являться надежным критерием определения этнической близости части носителей владимиров-ской культуры как ранних монголов. Предками дауров могли быть близкие как к монгольским, так и к тунгусо-маньчжурским этническим группам, переходные группы, сформировавшиеся в долине р. Нонни и сопредельных территорий Западной Маньчжурии.
Список литературы Погребения владимировской культуры Верхнего Приамурья как источник по изучению этногенеза дауров
- Асеев И. В. Некоторые аспекты исторических и археологических материалов как свидетельства расселения монголоязычных племен в Байкальском регионе и Монголии в Средние века//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2009. Т. 8, вып. 5: Археология и этнография. С. 189-198.
- Бартольд В. В. Соч. М.: Наука, 1966. Т. 4. 497 с.
- Болотин Д. П. Владимировская культура позднего Средневековья в Приамурье//Проблемы этнокультурной истории Дальнего Востока и сопредельных территорий. Благовещенск, 1993. С. 84-101.
- Болотин Д. П. Этнокультурная ситуация на Верхнем Амуре в эпоху позднего средневековья (XIII-XVII века): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1995. 17 с.
- Болотин Д. П. Народы и культуры Приамурья в позднем средневековье//Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. Владивосток: Дальнаука, 2005. С. 615-635.
- Болотин Д. П., Исаченко Б. А. Коллективное захоронение позднего Средневековья у с. Прядчино Амурской области//Традиционная культура востока Азии: археология и культурная антропология. Благовещенск, 1995. С. 49-54.
- Гайко В. В. Этническая история чулымских тюрок XVI-XVII веков в трудах А. П. Дульзона//Омский научный вестник. 2009. № 1 (75). С. 32-35.
- Гусева Л. Н. Левосторонний запáх одежды чжурчжэней//Россия и АТР. 2005. № 2. С. 99-103.
- Данилов С. В. Жертвоприношения животных в погребальных обрядах монгольских племен Забайкалья//Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск: Наука, 1985. С. 86-90.
- Дашибалов Б. Б. Об этнической принадлежности могил саянтуйского типа Юго-Восточной Сибири//Археология и культурная антропология Дальнего Востока и Центральной Азии. Владивосток: Изд-во ДВО РАН, 2002. С. 262-271.
- Ивлиев А. Л. Погребения киданей//Центральная Азия и соседние территории в Средние века. Новосибирск: Наука, 1990. С. 42-63.
- Именохоев Н. В. Раннемонгольская археологическая культура//Археологические памятники эпохи средневековья в Бурятии и Монголии. Новосибирск: Наука, 1992. С. 23-48. История Бурятии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. Т. 1. 328 с.
- Кириллов И. И. Ундугунская культура железного века в Восточном Забайкалье//По следам древних культур Забайкалья. Новосибирск: Наука, 1983. С. 123-138.
- Кузеева З. З. Головные украшения ногайских женщин XIX -начала XX в.//Вестн. Института истории, археологии и этнографии. 2014. № 1 (37). С. 166-187.
- Кычанов Е. И. Монголы в VI -первой половине XII в.//Дальний Восток и соседние территории в Средние века. Новосибирск, 1980. С. 136-148.
- Мазин А. И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов. Новосибирск: Наука, 1984. 200 с.
- Малая энциклопедия Забайкалья. Археология. Новосибирск: Наука, 2011. 365 с. URL: http://encycl.chita.ru/encycl/person/?id= 4961 (дата обращения 22.01.2014).
- Народы Восточной Азии. М.; Л.: Наука, 1965. 1025 с.
- Харинский А. В., Номоконова Т. Ю., Ковычев Е. В., Крадин Н. Н. Останки животных в монгольских захоронениях XIII-XIV вв. могильника Окошки I (Юго-Восточное Забайкалье)//Российская археология. 2014. № 2. С. 62-75.
- Цэвээндорж Д., Баяр Д., Цэрэндагва Я., Очирхуяг Ц. Археология Монголии. Улаанбаатар: Institut archaeologic ASM, 2008. 239 с.
- Dagur ündüsüten-ü tobči teüke. Kükeqota, 1989. 300 с. (на монг. яз.).