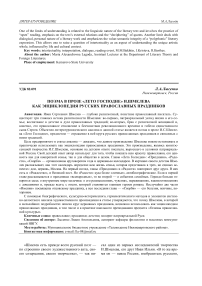Поэма в прозе "Лето Господне" И. Шмелева как энциклопедия русских православных праздников
Автор: Лысенко Лидия Анатольевна
Журнал: Вестник Нижневартовского государственного университета @vestnik-nvsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
Иван Сергеевич Шмелев - глубоко религиозный, поистине православный писатель. Существует три главных истока религиозности Шмелева: во-первых, патриархальный уклад жизни в его семье, воспитание в детстве в духе православных традиций; во-вторых, брак с религиозной женщиной и, конечно, его православное отношение к бесчинствам революционного времени и гибели единственного сына Сергея. Объектом литературоведческого анализа в данной статье является поэма в прозе И.С.Шмелева «Лето Господне», предметом - отражение в ней круга русских православных праздников и связанных с ними традиций. Цель предпринятого в статье анализа - доказать, что данное произведение Шмелева можно истолковать и практически использовать как энциклопедию православных праздников. Это произведение, являясь квинтэссенцией творчества И.С.Шмелева, основано на детском опыте писателя, выросшего в условиях патриархальной России. Свой детский опыт автор использует для того, чтобы показать всю красоту православия, его ценность как для конкретной семьи, так и для общества в целом...
Праздники, детство, колорит патриархальной руси, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/14116855
IDR: 14116855 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Поэма в прозе "Лето Господне" И. Шмелева как энциклопедия русских православных праздников
«Шмелев есть прежде всего русский поэт — сал один из первых исследователей творчества по строению своего художественного акта, сво- И.Шмелева, его друг Иван Ильин. «В то же вре-его созерцания, своего творчества», — так пи- мя он — певец России, изобразитель русского, исторически сложившегося душевного и духовного уклада; и то, что он живописует, есть русский человек и русский народ — в его умилении и в его окаянстве. Это русский художник пишет о русском естестве. Это национальное трактование национального» [2. С. 335].
Поэму в прозе «Лето Господне» можно рассматривать как энциклопедию русских православных праздников и как вершину творчества Ивана Шмелева, поистине православного писателя. А его путь к тому, чтобы стать таковым, был нелегким.
Можно утверждать, что существует три главных истока религиозности И.Шмелева: во-первых, патриархальный уклад жизни в его семье, воспитание в детстве в духе православных традиций; во-вторых, брак с религиозной женщиной и, наконец, его православное отношение к бесчинствам революционного времени и гибели сына. В последние годы жизни за границей, как замечает А. Любомудров, Шмелев все более ощущал властное влечение к иному миру, олицетворением которого был для него православный монастырь. ... И желание его осуществилось: 24 июня 1950 г. он приехал из Парижа в небольшой монастырь, расположенный в Бюсс-ан-От. По воспоминаниям очевидцев, Шмелев был в приподнятом настроении, радовался, слыша звон церковного колокола. Вечером того же дня он скончался от сердечного приступа на руках монахини в стенах православной русской обители Покрова Божьей Матери [3. С. 146]. Таким был уход из жизни одного из самых православных писателей XX столетия.
Пожалуй, вершиной (квинтэссенцией) религиозного творчества Шмелева стала поэма «Лето Господне». Главы «Лета Господня», книги поистине удивительной, — «Праздники», «Радости», «Скорби» — организованы круговоротом года и церковным календарем. В картинах своего детства Шмелев рассказывает, как этот календарь определял всю жизнь семьи, которая представала в трех, но единых аспектах: дом, церковь, Москва. И праздники, и радости, и скорби — в доме, в церкви, в Москве. Это была книга о самом дорогом, что виделось автору в жизни. Восприятие мира ребенком предстает у Шмелева как единственно подлинное, истинное, изначально народное.
Максим Дунаев отмечает, что «в “Лете Господнем” не соблюдена строгая хронология годового круга: Великий Пост — Пасха — Троица — Яблочный Спас — Рождество — Крещенье...
а потом — Петровки — Покров — Михайлов день — опять Рождество — Вербное Воскресенье — Святая... Взаимопроникновение, взаимо-наложение двух как будто не совпадающих во времени круговых движений. Но не прояснено: одни и те же дни описаны в разных главах или же различные. Рождество первой и Рождество второй глав — одно ли, или разные? Бессмысленный вопрос. Рождество всегда одно, единое, к какому бы году ни относилось. И “лето” — не один год, а время спасения. Герой книги живет как бы вне конкретного времени (он лишь некоторыми приметами намекает о себе, но не определяет жизни), все опирается лишь на время церковное, текущее по каким-то особым, неземным законам. Внутренний смысл хронологии «Лета Господня» еще предстоит разгадать» [1. С. 735]. Действительно, на первый взгляд главы «Праздники» и «Радости» кое в чем повторяют друг друга. В них есть и Рождество, и Великий пост. Но «Радости» куда более «личные», автобиографические. Если в первой главе рассказывается о праздниках, так сказать, «всенародных», то во второй — о событиях семейных... Гораздо больше говорится здесь о внутреннем мире мальчика: о его размышлениях, чувствах, переживаниях, взаимоотношениях с домашними и, прежде всего, с отцом, который становится главным героем романа. Неслучайно две части «Именин» посвящены отцовскому празднику, а вся последняя глава— «Скорби» — его болезни, кончине, похоронам. Главы «Донская», «На Святой», «Москва» рассказывают о Москве, а «Ледоколье», «Петровками», «Ледяной дом» представляют, так сказать, бытовые очерки, зарисовки замоскворецкой среды. О некоторых праздниках устами Горкина в поэме рассказывается довольно подробно. Среди них Пасха и особенности подготовки к ней во время Великого поста, Троица, Преображение Господне, Рождество, Святки, Крещенье Господне, Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье, Покров Пресвятой Богородицы, Радо-ница. По сути, эти праздники — основа православной веры, самые главные для любого христианина. Возможно, именно потому, для понимания духовной составляющей уклада православной семьи, эти праздники описаны очень точно: евангельская история праздников, традиции и обряды приготовления к ним, некоторые сведения о богослужениях. К тому же Шмелев словами того же умудренного опытом Горкина излагает, для еще более точного создания колорита праздников, отрывки из тропарей праздников, стихир, кондаков, псалмов; из «Великого канона» св. Андрея Критского, из Евангелия. С первых же страниц «Лета Господня» читатель не только открывает для себя удивительный, вещно-зримый уклад замоскворецкого купечества, но и познает тесно переплетенную с этим укладом духовную культуру русских людей второй половины XIX в. Эта культура формировала особый тип сознания, свойства которого коренятся в православном мироощущении древнерусского средневековья. Немудрено, что древнерусская религиозная традиция, предполагающая двойственное восприятие мира (вечного, нетленного и земного, временного), буквально пронизывает все праздники и посты, весь календарь православной духовности, который скрепляет художественную структуру повести «Лето Господне». В этой двойственности мироощущения — один из истоков радостного, приподнятого отношения к жизни героя-повествователя, потому что он в предметном мире, в его обрядах и ритуалах различает явления жизни неизмеримо более высокой и благостной. Вот почему маленький герой повести И.С.Шмелева охотно и радостно принимает все, что делают взрослые в Чистый понедельник, благоговейно вдыхая «“незабвенный, священный запах” Великого поста». Все, из чего складывается освященный столетиями русского православного быта ритуал очищения души в Чистый понедельник, герой принимает как давно ожидаемое, знакомое, родное [4. С. 4].
Итак, «Великий пост». «Чистый понедельник». С него начинается первая глава — «Праздники». «Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески с охотниками и утками уже сняли, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят... И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж “душа начнется”, — Горкин вчера рассказывал, — “душу готовить надо”. Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться» [5. С. 283]. Именно с подготовки к самому главному празднику — Пасхе — начинается поэма. И хотя пост праздником отнюдь не является, для православного человека, а особенно для ребенка, глазами которого читатель видит все события, это и есть настоящее торжество. Утром из дома выкуривают масленицу, убрали шторы с окон, с пола ковры, на мебель и на кар тины надели чехлы, «все домашние... в затрапезных платьях с заплатками, и мне велели надеть курточку с продранными локтями... теперь будет по-бедному до самой Пасхи» [5. С. 285]. Кроме того, собираются на постный рынок за продуктами, перед иконами «зажгли “постную” голого стекла лампадку» [5. С. 284]. За окном слышится «плачущий и зовущий благовест — по-мни...по-мни...» [5. С. 284]. Изменяется и меню семьи: «Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, “кресты” на Крестопоклонной... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то “коливо”! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а...великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая “рязань”...» [5. С. 287]. Это, конечно, все внешняя сторона начала поста, бытовая. Но ведь и быт освящается, как и вся жизнь человека.
Дальше описывается сам религиозный обряд. Следующая глава «Ефимоны». «Я еду к ефимонам с Горкиным. ...Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает, от грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой — старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергий Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.
— Горкин, — спрашиваю его, — а почему стояния?
— Стоять надо, — говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы. — Потому, как на Страшном Суду стоишь. И бойся! Потому — их-фимоны.
Их-фимоны... А у нас называют — ефимоны, ... — Господне слово от древних век. Стояние — покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние... Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому, их-фимоны!..
Таинственные слова, священные. Что-то в них... Бог будто?... как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а души» [5. С. 291]. Такими диалогами, в которых наставник Вани Горкин учит ребенка вере, православным обычаям, традициям, умению понимать церковное богослужение, особенностям уклада жизни в зависимости от периода церковного календаря, пронизано все произведение. При этом автор использует лексику простонародную. Старенький Горкин повествует так, что читатель невольно начинает понимать смысл происходящего события, праздника. Тем не менее, в главах используются и выдержки из богослужебных текстов: например, в первой главе о Великом Посте звучит текст молитвы Св. Ефрема Сирина, которую принято читать в течение всего поста: «Господи и Владыко живота моего...» [5. С. 284]. А при описании «стояния на ефимо-нах» приводятся самые яркие по глубине духовного содержания строки Великого Покаянного канона Андрея Критского «Душе мо-я... ду-ше-е мо-я-ааа, Возстани, что спи-иши, Конец при-бли-жа...аа-ется...» [5. С. 296]. В оригинале слова написаны так, как и поются. Все это создает колорит православного покаянного настроения богослужения. В продолжение части «Великий Пост» идет описание бытовой жизни в великопостное время.
Таким образом, благодаря содержанию первой главы читатель может представить себе, как должно устраивать свою жизнь в столь строгое время — до Пасхи. Внимательный читатель сразу заметит приметы пасхальных традиций: и Плащаница еще находится в храме, и новая одежда на Горкине, и свечка именно красная, пасхальная, и подготовка Крестного хода, с которого и начинается торжественное Пасхальное богослужение. «Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых...
— Ну, Христос Воскресе... — нагибается ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником... сме-ртию смерть... по-пра-ав..! Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха, красная» [5. С. 331]. Практически кульминация главы — столь радостное описание празднования Светлого Христова Воскресения. Все: и работники, и хозяева христосуются, дарят друг другу пасхальные яйца и, конечно, создают атмосферу непомерно огромного торжества, радости и веселья.
В книге Шмелева «движение совершается от радостей к скорбям. От вступления в сознательный, отроческий возраст — к смерти. К смерти еще не собственной физической, но к переживаниям смерти — в прощании с умирающим отцом» [1. С. 735].
Даже в названии частей в главе «Скорби» прослеживается некоторая закономерность или даже предначертанность: Святая Радость — Живая вода — Москва — Серебряный сундучок — Горькие дни — Благословение детей — Соборование — Кончина — Похороны. Так же как изменяются времена года, в круге церковных праздников есть ничем не нарушаемая последовательность, так и жизнь человеческая неизменно проходит от рождения до смерти. И точка во всей поэме ставится именно на Похоронах. Важно, что и в этой части мы находим подтверждение того, что поэма «Лето Господне», по сути, является энциклопедией русских православных праздников, потому что даже в главе «Скорби» фоном для рассказа о семейных событиях становятся православные праздники.
Таким образом, по мнению Осьмининой, главным вопросом книги становится вопрос о спасении души. М.Дунаев, словно развивая эту мысль, пишет о смерти, что она — и горе, и радость. Недаром в самый момент смерти отца мальчик погружается в некое райское радостное видение (и неземное, и обыденно-привычное), в котором он встречается со здоровым и радостным отцом. Скорбь расставания и радость ожидания встречи — там [1. С. 736]. Итак, можно утверждать, что даже глава «Скорби» соответствует названию нашей работы. Только если первая глава рассказывает о жизни по вере в круге церковного календаря, то вторая — о смерти в вере, о том, как достойно приготовиться к смерти, и праздником в ней является весь ход приготовления к уходу в мир иной, но праздником исключительно для души.
Очень точно, довольно возвышенно И.Ильин писал об этом произведении: «...С тех пор, как существует русская литература, впервые художник показал эту чудесную встречу мироосвящающего Православия с разверстой и отзывчиво-нежной детской душой. Впервые создана лирическая поэма об этой встрече, состаиваю-щейся не в догмате, не в таинстве, и не в богослужении, а в быту. Ибо быт насквозь пронизан токами православного созерцания; и младенческое сердце, не постигающее учения, не разумеющее церковного ритуала, пропитывается излучениями православной веры, наслаждается восприятием священного в жизни; и потом, повернувшись к людям и к природе, радостно видит, как навстречу ему все радостно лучится лучами скрытой божественности. А мы, читатели, видим, как лирическая поэма об этой чудной встрече разрастается, захватывает весь быт взрослого народа и превращается в эпическую поэму о России и об основах ее духовного бытия... Так Шмелев показывает нам русскую православную душу в момент ее пробуждения к Богу, в период ее первого младенческого восприятия Божества; он показывает нам православную Русь — из сердечной глубины верующего ребенка» [2. С. 385].
Подводя итог, остается сказать, что поэма в прозе «Лето Господне» — действительно своеобразная настольная книга русских православных праздников, в которой внимательный читатель может найти исторические сведения, еван гельские истории, традиции и обряды, особенности богослужения и даже описание православной подготовки к смерти. Колорит патриархальной Руси, созданный в поэме, словно напитан осознанием вечных ценностей, которые на некоторое время были преданы забвению в нашей стране в связи с изменением политического устройства России и утратой обществом религиозных устоев. Теперь происходит процесс возврата к исконно русским традициям, восстановления церковных традиций одновременно с открытием для читателей таких произведений как «Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелева. Поистине русского писателя.
Список литературы Поэма в прозе "Лето Господне" И. Шмелева как энциклопедия русских православных праздников
- Дунаев М.М. Творчество И.С.Шмелева (1873-1950) // Православие и русская литература. Ч. 5. М., 2003.
- Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 1.
- Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе Русского зарубежья: Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев. СПб., 2003.
- Морозов Н.Г. Лето Господне И.С.Шмелева // Шмелев И.С. Лето Господне. М., 1998.
- Шмелев И.С. Лето Господне. М., 1991. Т. 2.