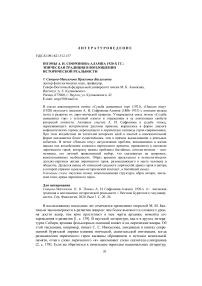Поэмы А. И. Софронова-Алампа 1920-х гг.: лиро-эпическая традиция в воплощении исторической реальности
Автор: Сивцева-Максимова Прасковья Васильевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются поэмы «Судьба священных гор» (1921), «Письмо отцу» (1928) якутского писателя А. И. Софронова-Алампа (1886-1935) с позиции вклада поэта в развитие их лиро-эпической природы. Утверждается связь поэмы «Судьба священных гор» с эстетикой олонхо и отражением в ее композиции свойств авторской личности. Активное участие А. И. Софронова в судьбе этноса, переживающего исторические разломы времени, выразилось в форме диалога мифологических героев, переходящего в лирическую исповедь героя-современника. При этом воздействие на читателей авторских идей и мыслей в иносказательной форме оказывается более существенным, чем в прямом высказывании о реальных событиях. В поэме «Письмо отцу» актуализация проблем, возникающих в жизни народа под воздействием сложного переходного времени, проявляется в исповеди лирического героя, которому важны проблемы бытийные, онтологические - долг человека, его личный нравственный выбор, что сказывается на жанровых, композиционных особенностях. Образ времени представлен в психологических деталях-картинах жизни лирического героя, размышляющего о месте человека в обществе. Делается вывод об эпической сущности лирической драмы героя и автора, в которой отражен и реально-исторический контекст, и бытийный смысл.
Якутская поэма, композиционная структура, образ автора, эпическая тема, драма лирического героя
Короткий адрес: https://sciup.org/148316616
IDR: 148316616 | УДК: 82.091:821.512.157
Текст научной статьи Поэмы А. И. Софронова-Алампа 1920-х гг.: лиро-эпическая традиция в воплощении исторической реальности
Сивцева-Максимова П. В. Поэмы А. И. Софронова-Алампа 1920-х гг.: эпическая традиция в воплощении исторической реальности // Вестник Бурятского госунивер-ситета. Сер. Филология. 2020. Вып 3. С. 20-26.
В исследованиях последних лет отмечается проявление открытой М. М. Бахтиным закономерности в развитии жанров: чем более высокого и сложного уровня достиг жанр, тем ярче проступают в нем черты архаики, моменты его зарождения и развития [1, с. 139]. В якутской литературе, как и в других литературах Сибири, архаика фольклорных сказаний влияет и на лирические жанры. Об этой тенденции, например, пишет С. С. Имихелова, увидевшая в книгах современной бурятской лирики влияние эпической, сказительской интонации, когда размышления лирического героя вызваны обращением к истокам ментальной памяти, отчего слово лирического «я» напоминает слово сказителя-улигершина [2, с. 178]. Если же обратиться к начальным периодам национальных литератур, непреложным фактором в создании многих жанров поэзии всегда оказывались народно-поэтические эпические традиции. Так, убедительным доказательством этому могут служить якутские поэмы 1920-х гг. Алексея Кулаковского (18771926) и Анемподиста Софронова-Алампа (1886-1935. Академик П. А. Слепцов писал о поэзии А. Софронова, что «в большинстве случаев реминисценции являются невольными в силу спонтанного влияния народной поэтической культуры <...> в дальнейшем освоении фольклорных ресурсов» [2, с. 94]. Общая генетическая близость обеспечивает типологическое сходство творчества двух основоположников национальной литературы в жанровом аспекте. В то же время их поэмы созданы согласно индивидуальному авторскому мировосприятию. Так, углубленным психологизмом в восприятии реального мира, реальной общественной среды отличается творческое наследие А. Софронова. Его поэмные образы дают целостное представление конкретного места и времени, хотя и наделены иносказательным раскрытием человеческого сознания. Этот особый психологический контекст образов представен на уровне образов-мотивов и топосов в тесном переплетении исторического времени и личного времени лирического героя.
После создания классического произведения А. Кулаковского «Сон шамана» (1910), Софронов также поднимает эпическую проблему судьбы нации в поэме «Разговор священных гор» и в датированном тем же 1921 г. стихотворении «Судьба священных гор», которое воспринимается прологом к поэме. Оба произведения, воспринятые критикой 1920-х гг. как националистические, впервые изданы в 1990-е годы в сборнике неопубликованных произведений классика. Это издание подготовлено Л. Р. Кулаковской с ее комментариями [4, с. 40-54]. Своей строфикой, тропами два произведения поэта воспроизводят поэтические образы олонхо, а в создании исторической реальности следуют эпической масштабности и иносказательности обрядовых представлений якутов о судьбе и связях человека с миром природы. Вот почему смысловое содержание наполнено сложными думами поэта в годы гражданской войны в Якутии, напоминая «Сон Шамана» А. Кулаковского. Отличие же заключается в том, что композиция поэмы Сафронова решена в форме диалога двух персонажей, в котором ощущается «присутствие» авторского «я».
Гора-Хотун (Госпожа, охранительница Прекрасной Туймаады), видя кровопролитие в братоубийственной войне, упрекает своего старшего брата Гору-Тойон (Господина, Защитника долины предков), открывшего дорогу пришельцам с южных сторон, откуда неминуемо начинают доходить революционные события и гражданской войны в России. В монологи этих Священных гор включаются как авторское «уточнение» предсказания сказителей из легенд о том, эти горы - защитники земли предков обязаны охранять добрых духов земли. В отличие от «Сна Шамана» Софронов в образах и монологах Священных гор создает символический образ Родины благодаря лирическому иносказанию о судьбе народа, и эта лирическая доминанта в поэме позволяет прийти к философски-обобщенной идее поэмы, становится ключевым компонентом ее жанрового своеобразия. Так общая проблема в поэме «Сон шамана» и поэтической дилогии Софронова раскрывается в различных жанровых формах: эпической и лирической. Поэма Кулаковского заканчивается предсказанием-алгысом, обращенным к народу от имени шамана, как того «требует» композиция, фабула эпического произведения, а «Разговор Священных гор» завершается лирическим голосом автора.
В финале поэт указывает на само время событий, конкретизируя реальность отраженных событий. Подтвердим это словами Тойон Хайа. Он отвечает на упреки Сестры следующим образом (дословный перевод наш. - П. С.-М .):
Почтенная Сестра!
Отец мой Ат Дабаан ..
Лицо свое повернул в другую сторону.
Чтобы обосновать другие роды,
Остановить (у себя) иных людей,
Присоединился со смелыми,
Ведет знакомство с лучшими.
Меня же,
Чтобы не двигался с места, цепью заковал;
Запретив слово сказать,
Повелел ничего не видеть
Два года тому назад [4, с. 48-49] (курсив наш. - П.С.-М .).
Так автор указывает на время протекших событий - год 1919-й. Отражение реального времени в раздумьях лирического героя - это особая авторская позиция в стихотворениях и поэмах Софронова. Она выражена в диалектике архаических и современных для поэта метафор, представляющих смысл непреходящих ценностей в «большом времени». Архаическое в системе метафор выступает отражением возвышенного начала, о чем специально подчеркивается в стихотворении «Судьба священных гор», где, как и затем в поэме, голоса Духов Земли предков, образы старцев-предсказателей, мотивы трехярусного пространства приближают лирический дискурс к мифологическому представлению о судьбе и предназначении человека.
В поэме Софронова, имеющей подзаголовок «Омун» («Фантазия»), авторское слово предназначено представлять главных героев, чему посвящен зачин как эпизод ожидания. Северные горы поэт называет Госпожой, южные -Господином, и они в обращениях друг к другу размышляют о судьбе народа, переживающего трагедию гражданской войны. В первом обращении Хотун Хайа (Госпожи) к «Почтенному брату» и в его ответе подчеркивается драматизм времени. Во втором «слове» Хотун Хайа, упрекающей Брата в медлительности и требующей от него действенного беспокойства о людях, звучит ее надежда на преодоление нестабильности настоящего времени. Ответ Тойона Хайа (Господина) метафорически оправдывают надежду Хотун Хайа, что дополняется заключительным авторским словом в форме сказительского обращения к читателям. Оно звучит как попытка преодолеть необратимость течения времени и как горькое напоминание о незавершенности событий настоящего. Вот почему в финале повторяется «эпизод ожидания», заложенный в зачине:
Не заканчивая, завершаю,
Не объясняя, откладываю,
Не досказав, робко кончаю,
Речь моя не развивается,
Язык мой не раскрывается,
Стихи мои иссякли,
Друзья-читатели,
По ошибке не осуждайте.
Действительно настало, дети мои, То время, особенность которого В том, что об известном молчат, Размышления свои прячут, Об услышанном не говорят… [4, с. 54] (дословный перевод наш. - П. С.-М .).
Таким образом, композиция лирической поэмы А. И. Софронова построена на обрамлении диалогов героев авторским словом, представляющим экзистенциональное сверхсобытие (эйдос). Динамика авторской мысли усилена поэтическими формулами сказания, что уточняет циклический характер метафор и иносказаний.
Одно из самобытных произведений А. И. Софронова поэма «Письмо отцу» написана во время ссылки и опубликована впервые в сборнике избранных произведений в 1965 г. [5, с. 334–352]. Поэма состоит из вступления и 18 глав, где рассказ-исповедь лирического героя отражает непростое содержание социально-исторического конфликта личности и общества. Можно сказать, что это – главная тема всего творчества Софронова, которая раскрывается в новом ракурсе, осуществляя в «письме» естественное сочетание принципа народности с социально-нравственными проблемами гражданского содержания. Историческое время и реальный человек приобретают художественную силу и философское обобщение в доверительном характере изложения лирического сюжета – обращения сына к отцу, что может восприниматься в данном случае удачным метафорическим обобщением реального времени и смыслов реального пространства.
Композиционный аспект в анализе особенностей русской поэмы раскрывает в своих исследованиях В. И. Тюпа на примере творчества А. Блока: «Сюжетность медитативного текста образуется <…> событиями переходов лирического субъекта из одного пространства в другое. Этими сюжетными перемещениями, собственно, и формируется два семантических поля, противостояние которых составляет лирическую коллизию поэмы» [7, с. 105]. Особенностью представленной поэмы Софронова является и строгая композиционная систематика текста, отраженная в названиях глав, сама последовательность которых основана на «когнитивной модели» – представлении «когнитивной основы процесса порождения индивидуально-авторских смыслов» [6, с. 147–148].
Названия первых четырех глав «Эн», «Мин», «Иhит», «Өйдөө» («Ты», «Я», «Слушай», «Пойми») выступают в виде обращения: «Эн миигин иhит, өйдөө» («Ты меня слушай, пойми»). Названия V–IX глав: «Билигин», «Биллим», «Куттанным», «Дьулайдым», «Араҕыстым» («В настоящее время», «Узнал», «Испугался», «Мне стало страшно», «Отстранился») – выражают напряжение мысли лирического героя, которое достигает кульминационного момента в X главе, и дальше, в XI–XIII главах, постепенно переходит в размышления о настоящем, что отражается в названиях последующих глав: «Билинэбин», «Мин», «Алуас», «Ыллаабытым-туойбутум» («Признаюсь», «Я», «По ошибке», «Пел-воспевал»). Движение сознания лирического героя отражают названия XIV- XVIII глав: «Ол эрээри», «Уларыйдым», «КeрдeheбYн», «Билбитим», «Бырастыы» («Но», «Изменился», «Прошу», «Знал», «Прощай»).
Особую смысловую значимость названий глав подтверждают повторяющиеся заглавия «Мин» («Я») - II, XI главы; «Биллим», «Билбитим» («Узнал», «Знал») - VI, XVII главы, входящие в состав разных «предложений». В целом названия группируются в четырех синтаксических единицах, где представлены глаголы (однородные сказуемые), наречия обстоятельства, союз-противопоставление, личные местоимения.
Таким образом, на первый взгляд, полная грусти и печали интимная лирика под пером А. И. Софронова превращается в обстоятельную эпическую характеристику судьбы поколения первой трети ХХ в. В примечаниях к поэме автор указал, что сначала писались отдельные части как самостоятельные стихотворения под общим названием «Моя лебединая песня». Поэт перевел это образное выражение на якутский язык в виде оригинального метафорического изречения «Ырыа быстыыта хоЬоон». Но перевод его самого не удовлетворил и «вдруг пришло», как говорится в примечаниях к поэме, название «Письмо отцу». В это время шел второй год его ссылки в Архангельской области, в Таттинском улусе оставался единственный родной человек поэта - его престарелый отец. Отсюда исповедальный сюжет, обращенный к отцу и служащий запоздалым признанием неисполненного сыновнего долга перед ним придают поэме сугубо личностный характер. И сам автор отмечал, что стихи писались для себя, чтобы развеять печальные думы о прошлом в форме спокойной протяжной народной песни «дьиэрэтии». Однако в тех же примечаниях определяя особенности и значение своего произведения, он третьим пунктом выразил следующее предположение: «.. .скажу, к примеру - если я известен народу саха как писатель, то прожитая мною жизнь, возможно, будет вызывать впоследствии какой -нибудь интерес...» (перевод наш. - П. С-М .) [5, с. 311].
Так в поэме Софронова обращение сына к отцу перерастает в обращение поэта к народу. Примечательно и то, что для полного раскрытия разговора о разочаровании и неверии личности, о мучительных думах и неумирающей надежде поэта он находит подходящий жанровый образ - «Письмо отцу». Именно это название произведения можно приравнять к обобщающему авторскому дискурсу, где сила субъективно-психологической трактовки времени обретает философскую глубину. В этом плане можно сопоставить жанровые поиски Софронова с классическим жанровым решением Кулаковского в его поэме-концепции «Сон шамана», где формулировки названий соответствуют жанровому коду произведения.
В поэме «Письмо отцу» размышления о судьбе становятся сюжетными мотивами в виде систематизации периодов жизни лирического героя и раскрывают образ времени. Структурное своеобразие в данном случае отражено в названиях каждой части. Если лирические стихи часто остаются без названия, что в целом характерно и для творчества Софронова, то в «Письме отцу» названия частей как сегмент композиционного порядка подчеркивают устойчивые принципы продуманной структуры лирического произведения. Они на протяжении всего текста систематизируют и уточняют идейные мотивы каждой части и тематические границы поэмы в целом. Заглавия в лирической поэзии по-особому манифестируют авторскую активность, что подчеркивается в анализе лирической композиции следующим образом: «Особо существенна роль заглавия в аспекте соотнесенности разворачиваемой перед нами системы факторов художественного впечатления с креативной версией данного текста. При наличии заглавия оно становится авторской «темой» сколь угодно протяженного высказывания, а весь последующий текст – его “ремой”» [8, с. 105].
Композиция поэмы «Письмо отцу» строится на циклическом развитии идеи. Мотив циклизации при этом наблюдается на двух уровнях. Микроуровень фрагментов текста представляет разделение восемнадцати частей на пять типологических единиц. Начальная единица – обращение к адресату (Отцу), что формируется в виде вполне законченного высказывания «Ты меня слушай, пойми», подчеркнутого названиями четырех частей-фрагментов. Следующая ступень композиции определяется главами поэмы, где раскрывается драматизм судьбы лирического героя, естественность намерений которого не соответствует требованиям новой власти. Эта начальная концепция выражается в открытом признании: «В настоящее время узнал, испугался, мне стало страшно, отстранился». Третья ступень циклической композиции представлена обращением к прошлому, что противопоставляется настоящим реалиям жизни поэта: «Признаюсь, я по ошибке пел-воспевал». Четвертую группу составляют главы, возвращающие читателя к идее второй ступени. Они также сформулированы в названиях частей-фрагментов: «Но изменился». Заключают исповедь лирического героя части, где раскрывается идея приятия поэтом судьбы такой, какой она сложилась: «Прошу, узнал, прощай».
Таким образом, главным мотивом, определяющим идею поэмы, выступает динамический образ времени, представленный в деталях-картинах жизни лирического героя. Оригинальность решения этого мотива заключается в том, что переживание направлено на выражение постепенного отдаления от общества. В этом плане циклическая композиция выступает более подходящим приемом для создания образа времени, отразившегося в сознании героя, что способствует психологическому углублению в размышлениях о месте человека в обществе.
Так в творческом наследии А. И. Софронова выступает проблема нравственного долга и выбора в процессе коренного переустройства общественных отношений, что получило поэтическую реализацию в форме раскрытия душевного состояния лирического героя. В рассмотренных произведениях обращение автора к читателю усиливает реально-исторический контекст размышлений, где дискурсивным мотивом выступает постепенная отрешенность от своего времени, переходящая в сквозной мотив лирического драматизма, где раскрывается эпическая сущность лирического героя.
Список литературы Поэмы А. И. Софронова-Алампа 1920-х гг.: лиро-эпическая традиция в воплощении исторической реальности
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 4-е. М.: Сов. Россия, 1979. 320 с.
- Имихелова С. С. О драме лирического героя в современной бурятской поэзии // Современные проблемы исследования национальной классики: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 70-летию со дня рождения Л. Р. Кулаковской (1948-2017). Якутск: Изд. дом СВФУ, 2019. С. 177-185.
- Слепцов П. А. Якутский литературный язык. Истоки. Становление норм. Новосибирск: Наука, 1986. 262 с.
- Софронов А.И. Ырыа быстыыта хоhоон ("Моя лебединая песня")/сост.и коммент.Л.Р.Кулаковской. Якутск: Бичик, 1996. 399 с.
- Софронов А.И. Талыллыбыт айымньылар. Т. 2. Якутск, 1965. 443 с.
- Тарасова И. А. Когнитивная поэтика. Предмет, терминология, методы. М.: ИНФРА-М, 2018. 166 с.
- Тюпа В. И. Анализ художественного текста. М.: ИД "Академия", 2008. 336 с.
- Тюпа В. И. Аналитика художественного. М.: Лабиринт-РГГУ, 2001. 200 с.