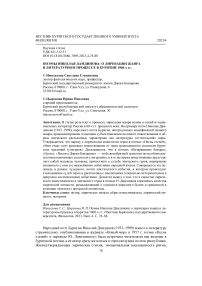Поэмы Николая Дамдинова: о лиризации жанра в литературном процессе в Бурятии 1960-х гг
Автор: Имихелова С.С., Цыренова И.П.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет о процессе лиризации жанра поэмы в одной из национальных литератур России в 60-х гг. прошлого века. На примере поэм Николая Дамдинова (1932-1999), народного поэта Бурятии, автора разных модификаций данного жанра, проанализирована тенденция субъективизации поэмного повествования и образа эпического рассказчика, характерная для литературы «оттепельной» поры. Утверждается, что наряду с лирическим монологом героя в поэмах «Песнь степей», «Имя отца» поэт развивает повествование от лица традиционного сказителя бурятских преданий (улигеров). Доказывается, что в поэмах «Возвращение батыра», «Гроза», «Песня о Доржи Банзарове» - этой своеобразной трилогии поэта облик рассказчика напоминает сказителя-улигершина, и в то же время повествование представляет собой исповедь человека, причастного к судьбе эпического героя, неразрывно связанного с ним и с важнейшими событиями народной жизни. Совершается эта исповедь в рамках чудесного, почти мистического события, в котором происходит столкновение судеб героя и рассказчика с внеличными (социально-историческими и природно-космическими) событиями. Делается вывод о том, что в единстве лирического повествователя и эпического героя в поэмах Н. Дамдинова отразились качества творческой личности, размышляющей о сущности народного бытия и сращенной в сознании читателя с авторской личностью.
Поэма, лирическое начало, образ повествователя, лирический монолог, историзм
Короткий адрес: https://sciup.org/148327678
IDR: 148327678 | УДК: 821.512.31 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-4-78-88
Текст научной статьи Поэмы Николая Дамдинова: о лиризации жанра в литературном процессе в Бурятии 1960-х гг
Имихелова С. С., Цыренова И. П. Поэмы Николая Дамдинова: о лиризации жанра в литературном процессе в Бурятии 1960-х гг. // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 4. С. 78‒88.
Народный поэт Бурятии Николай Дамдинов (1932–1999) вошел в литературу стремительно: опубликованная в журнале «Новый мир» в 1957 г. поэма «Песнь степей» в переводе Ю. Левитанского была встречена читателями как явление в бурятской поэзии, а ее автор сразу же влился в отряд ведущих поэтов республики. Жизнеутверждающая лирическая стихия, эмоциональная насыщенность ритма, 78
метафоричность образной структуры объяснялись сильным личностным началом, которое в бурятской поэзии еще не отразилось в полной мере. Критики отмечали юношескую порывистость и восторженное приятие лирическим героем жизни, такой же широкой и нескончаемой, как степь [6, с. 179]. В финале лирический монолог достигает глубоко философского размышления о неизбежности завершения отдельной человеческой жизни из уст молодого человека, верящего в бессмертие своей степи:
И когда он приблизится, тот неизбежный час, Молодыми глазами взгляну на мир, красоте его удивляясь.
А вечернее солнце будет закатываться, лучась, Чтобы завтра опять подниматься, от кромки земли удаляясь.
Так назавтра начнется день, первый день без меня,
Первый день из тьмы миллионов, что придут и уйдут, сгорая.
А степь, моя степь, под солнцем распростершаяся, звеня,
Нету конца у тебя, и нету у жизни края [3, с. 34].
Философичность финала подкреплялась оптимистическим убеждением, что песня родной степи, с которой герой-поэт начал свой путь и которая в момент его ухода «сольется с дыханием звезд и на землю вернется жить, / Чтоб лунной ночью вдруг зазвенеть у чьей-нибудь колыбели». Тема бессмертия творческой личности в дебютном произведении Дамдинова станет еще одним открытием для национальной поэзии.
Так, поэтический талант Николая Дамдинова открылся в жанре лирической поэмы, главного поэтического жанра в поэзии ХХ в. Наряду с поэмами лирическими, стержнем которых является проникновенный монолог лирического «я» поэта: «Песнь степей», «Имя отца», «Гудящие сосны», «Весенние костры», «Новая земля», «Ночь», поэт направляет свои силы и интерес к другой жанровой модификации, где лирическое начало неотделимо от событийности эпической поэмы, от почвы, от народного художественного мышления, подсказано традициями национального эпоса. К такой разновидности поэмы успешно обращались многие бурятские поэты поколения Н. Дамдинова: Д. Жалсараев, Ч.-Р. Намжилов, С. Анга-баев, Д. Дамбаев, Ц.-Д. Дондокова и другие, внесшие весомый вклад в развитие бурятской литературы. Вслед за ранней «Легендой об Ангаре» (1952) поэт испытывает тяготение к народной поэзии, к образному постижению мира национальной жизни. Лучшие его поэмы созданы под влиянием стилистики народных преданий и легенд: «Возвращение батыра» (1966), «Песня о Доржи Банзарове» (1969). Отдельное место занимает поэма «Гроза» (1965), в которой заметно освоение формы стихотворной повести, также популярной в творчестве бурятских поэтов. Ярко выраженное эпическое начало в этих трех поэмах тем не менее подвергалось последовательной лиризации, идущей от русской поэмы начала ХХ в.
Путеводной звездой для их автора стали поэмы Маяковского. В стихотворении «В гостях у Маяковского» (1953) в переводе Р. Рождественского лирический герой во время «необычайного происшествия» — встречи с классиком в музее его имени — выразил восхищение любимыми главами из «Хорошо!», от которых веет «нетленной мудростью русских былин» и оптимизмом интимного разговора о «грядущем далеко» [3, с. 41].
В этом контексте особенно заметна заслуга поэтов в национальных республиках, создавших лучшие образцы лирической поэмы, которая в русской поэзии начиная с 70-х гг. ХХ в. заметно переживает значительный спад. Об этом высказывались критики, напоминая о том, что поэма второй половины прошлого века по-прежнему остается эпической [10, с. 247], другие — о том, что развитию лирической поэмы этого периода мешают «эксплуатация поэмы эпигонами, знаковый отказ от нее одних мастеров и радикальная трансформация жанра у других…» [7, с. 363]. Интерес к нему, возникший в начале «оттепельных» лет в процессе демократизации общественной жизни, можно объяснить исчерпанностью советской возвышенно-героической поэмы и сложностью соединения бытовой темы и отвлеченной идеи, житейского и легендарного планов. В литературах национальных республик это удавалось в результате обращения к темам, исконно национальным. Так, в бурятской поэме межродовой характер жанра, динамика его развития отвечали изображению в герое и авторе-повествователе как индивидуальных черт, так и качеств того этноса, к которому они принадлежали. Об этой особенности писала Е. Е. Балданмак-сарова при сравнении поэмы 1960-х гг. Н. Дамдинова «Возвращение батыра» о герое бурятских легенд и исторических песен Шилдэе-занги с поэмой «Шоно-ба-тор» А. Хамгашалова (1940) о другом герое бурятского народа [1].
Каково действие лирического начала в таких жанровых модификациях, как эпическая поэма и стихотворная повесть в одной из литератур национальных республик? Какие изменения в них наблюдаются в результате отхода от реалистиче-ски-объективного повествования под влиянием его субъективизации? Вопросы эти возникают по прочтении поэмы Н. Дамдинова «Возвращение батыра» (в переводе Р. Казаковой слово «батыр» мы бы перевели как «батор»), основанной на легенде о народном герое Шилдэе-занги.
В основе сюжета поэмы, имеющей подзаголовок «Песня про Шилдея-занги», лежит историческая песня-легенда о вожде (занги) одного из хоринских племен, который выбрал для своего народа место постоянной жизни у Байкала и стал подданным русского государства. Содержанием поэмы стал рассказ о героической смерти Шилдэя-занги от рук жестоких маньчжуров, развязавших войну в Монголии. Побывав в гостях вместе со своими баторами у нового монгольского друга, он возвращается домой, но у самой границы оказывается в плену у жестоких маньчжуров. На предложение врагов служить им он отказывается, объясняя тем, что добровольно принял подданство русского хана, гордится им, приняв из его рук охранный свиток (грамоту), которая, к сожалению, осталась дома. За верность своей родине он идет на смерть, но во время казни чудесным образом возвращается на родину:
Взошел на помост он.
Спокойно прошел по скользкости бревен И на север лицом повернулся, Чтоб родина стала видна.
В двух шагах от него –
Граница, за границей – разъезд казачий.
Травы, родные запахи…
Все, чем дышал и жил… <…>
Если верить преданью, словно еще жива,
На север, на милый север, По склону горы и дальше От врагов своих подлых покатилась его Голова [3, с. 200].
События в поэме составляют эпическую мысль автора об истоках зарождения общности судьбы бурятского народа с русским (об этом поэт писал и в ранней поэме «Легенда об Ангаре») в исторический период по-настоящему переходный, когда буряты меняли кочевой образ жизни на оседлый. Как перед человеком извечен выбор своей судьбы, так и бурятский народ, выбравший общий путь с русским народом, однажды решил задачу своего исторического самоопределения. Эта мысль-идея решена в «Возвращении батыра» лирически — благодаря песенной основе поэмы, связанной с эмоциональными переживаниями улигершина, «поющего» под звуки хура улигер-сказание о трагической судьбе народного героя. На приверженность поэта лирической поэме указывают и другие его ранние поэмы — «Песнь степей» или «Песнь о Сухэ-баторе».
Если в поэме Д. Жалсараева «Сказ о баторе» (1969), судя по названию, главенствует повествовательное начало и рассказ улигершина ведется в эпической манере о богатыре-баторе, который воплощает народные чаяния и надежды, то в поэме Дамдинова «Возвращение батыра» образ народного сказителя создается в лирическом ключе. Его высказывания о своем отношении к герою и случившимся с ним событиям, постоянные обращения к слушателям перемежаются со вставными песнями, превращающими повествование в рассказ-исповедь со своим отдельным лирическим сюжетом. Во вступлении он ведет разговор с молодыми слушателями, где сетует на то, что молодежь не ставит «ни в грош» стариков, и желает, не торопясь, рассказать народную легенду. А в основном повествовании его слушателями становятся и герои поэмы. Например, вторая глава завершается укоризненным обращением к монгольскому хану Тансаку-тайджи, исполнившему волю отца встретиться с сыном его побратима Шилдэем-занги: в недоброе время позвал он гостя и пирует по этому поводу «по соседству с бедой», когда часть монгольских племен сражается с напавшими на них маньчжурами. И в повествовании то и дело возникают лирические вставки в виде песен от лица рассказчика. В сюжетно-событийных главах он тоже выражает свое присутствие и в особенно важные, кульминационные моменты описывает свое эмоциональное отношение к случившимся событиям, например: «И гости ушли, / Как с неба — не собравшаяся гроза...» или «Так покинули они родину, / Словно их ветер сдунул» [3, с. 192].
Вот почему повествование превращается в монолог рассказчика, который эмоционально и трепетно воспроизводит важное для народа событие, к примеру: «Да будет счастлив конь, / Не потерявший свой луг! / Благословенье тому, кто родину не забыл!» [3, с. 194]. Возвышенно-лирической интонацией проникнуты строки о главном событии — гибели Шилдея, и во вставной песне прозвучит плач по герою:
Зла судьба твоя, Шилдэй!
Горе, горе…
Не скакать тебе, Шилдэй, На просторе.
Сломан лук твой поутру — И заброшен за гору!
Латы славные твои
Проглотила топь тайги.
Жизнь твою во цвете сил Враг коварный подкосил. Слезы петь мешают мне — Горе, горе!
Хур умолк. По всей стране —
Горе, горе… [3, с. 198].
Но вслед за трагическим плачем хуршина идет описание чудесного события — события из сферы почти нереальной, фантастической. Чудесное возвращение героя на родину имеет реалистическое объяснение: враги ничего не могут сделать, когда голова казненного с края помоста (т. е. плахи) быстро катится по откосу по ту сторону границы. Тем не менее, горюя вместе с рассказчиком, читатель принимает символический план закончившегося странствия, пути человека (символичное возвращение героя на родину передано в духовном плане и в самом предании [2, с. 91]). Ведь своей преданностью родине герой заслуживает такого сказочного финала как исхода для души, рвущейся туда, на «милый север». Сама творческая память народа сохранила такой финал в исторической песне о реальной исторической личности. В песне же из поэмы Дамдинова событие рассказчика подытоживается строками:
Так в народе говорят, да, в народе:
Если смертный час к батыру приходит,
Может враг его оставить без жизни,
Но не может никогда — без Отчизны! [3, с. 201].
Предание о легендарной личности осталось навечно как правда, истина, которую поведал читателю рассказчик, осталось жить в народе благодаря главной ценимой им доблести — верности родине. Н. Дамдинов в реальной исторической личности видит идеал настоящего батора, заслужившего право остаться в преданиях и песнях: в памяти народной вернулся на родину Шилдэй, а сказитель-ули-гершин эту память передает новым поколениям. Эпическая мысль автора о взаимосвязи жизни отдельного человека и истории народа движется желанием уловить момент исторического бытия, осознать место своего народа в общем историческом развитии, и осуществляется она в форме лирического излияния.
Созданная в эти же годы другая поэма Н. Дамдинова «Гроза» имеет вид стихотворной повести или повести в стихах, весьма популярной в эти годы в творчестве как бурятских, так и русских поэтов Бурятии. Можно привести в пример «Сердечную повесть» М. Шиханова или «Повесть о детстве» А. Щитова [5]. Для Дамдинова-поэта такой жанр, который называют поэмой с сильным лирико-повествовательным началом [9]), — еще один образец жанрового поиска. Образ природной стихии, вынесенный в название поэмы «Гроза», появляется финале, а в центре повествования выведен скромный, на первый взгляд, студент московского вуза Балто. Он с нетерпением ожидает каникул, потому что его томит предчувствие беды. Об этом говорится в первой строке: «Он сердцем чувствовал беду». Получая из дома бодрые письма сестры, Балто страшится спросить о здоровье матери и решает потерпеть, ведь скоро лето.
Первая глава поэмы приближает ее к жанру стихотворной повести, но во второй, где говорится о первых минутах пребывания Балто в родной деревне и встрече со школьным другом Цыреном, появляется образ автора-рассказчика, обращающегося к читателям: «Друзья мои, настал черед / Поведать вам и о Цы-рене…». Вслед за этим появляется авторское отступление по поводу возвращения домой Балто — гимн родине от лица рассказчика по поводу мыслей и чувств героя, признание в любви к родному краю, горам, ручьям, пахучему дымку ая-ганги. Рассказчик разделяет с героем его радость и в порыве единения называет его так: «мой славный добрый малый». Затем от него потребуется сочувствие герою, который от друга неожиданно узнает о смерти матери. Следующие три главы передают горе Балто, с которым невозможно смириться, его воспоминания о доброй, всегда занятой делом, гордящейся сыном маме, и трагические мысли о разлуке с ней.
И ныне между ними вечность
Теченье быстрое стремит
В такую даль, в такую млечность, Что холод душу леденит.
И также тихо и покорно
На все грядущие года
На берегу ее нагорном
Осталась мама навсегда… [3, с. 48; пер. В. Липатова].
В горестных переживаниях героя согревает общение с друзьями и любимой девушкой, но в заключительной шестой главе ночь разразится грозой и ее мощный грохот отзовется во сне Балто, когда вдруг он явственно услышит голос матери, полный любви, отрады, надежды. Этот голос приведет его на могилу матери, и среди бушующей грозы, «в потоках шалых, ливневых», «в буйстве взрывов» он получит желанное успокоение и произнесет над могильным бугорком: «Спи, мама, тихим, вечным сном, / Пора прощания настала…» Завершает повествование авторское отступление, объясняющее это чудесное, освежающее героя событие:
Наверно, дан сигнал природой, Коль в первозданности величья Стал всюду слышен гомон птичий. — В полях, в лесах, под небосводом.
Земля, омытая грозою,
Сияет, как волшебный плод, То зеленью, то бирюзою, То золотом рассветных вод.
И ветер веет, как поет, Над освеженными полями. И ясный, жаркий день встает Над миром,
Где живем мы с вами [3, с. 54].
Стихотворная повесть о герое, столкнувшемся с размахом природной стихии (здесь невольно вспоминается классическая поэма — «петербургская повесть» Пушкина «Медный всадник»), завершается итогом в устах рассказчика. Грозу он называет «сигналом природы», в котором символически отзывается способность героя в своем драматическом состоянии услышать, откликнуться на этот сигнал. То есть героя постоянно сопровождает лирическое отношение рассказчика: в постоянных обращениях к читателям, в субъективных воспоминаниях о возвращении после долгой разлуки на родину, в его ощущениях от пения, звона речных волн, от легкого колыханья ивовых веток, в напоминании читателям о вечных чувствах влюбленных в эпизоде купания в реке Балто с Сэндэмой. А когда в грозу герой наяву услышит голос матери и бросится бежать к заветной могиле, монолог рассказчика сольется со словами героя, окончательно прощающегося с любимой матерью.
Как и в поэме «Возвращение героя», Балто заслуживает чудесного, спасительного события, потому что наделен, по мнению рассказчика, силой любви и верности. И главное — рассказчик своей отзывчивостью, задушевностью создает в сознании читателя символический смысл финального эпизода. Чудесный голос матери, чудесное преображение природы — не мистика, не фантастика, а природой отпущенный талант молодого героя услышать голос из иной реальности, отозваться на него. Поэтому он смог заслужить внутреннее преображение и успокоение, готовность смело смотреть в будущее.
В бурятских поэмах часто можно обнаружить условные приемы, основанные на символике сновидений, грез, фантазий как душевных странствий человека в пространстве своей памяти и воображения. Такие фантазии часто можно встретить, например, в поэмах Ц. Дондогой, где души героинь «напоминают хранилище коллективной человеческой памяти об иных мирах» [9, c. 142]. Но фантазия рассказчика в поэме «Гроза» содержит отчетливое реалистическое обоснование, как и в русской поэзии «шестидесятников», стремившихся в своих скромных, обыкновенных героях обнаружить черты личностей, причастных к важнейшим историческим событиям. История не была для Е. Евтушенко или Р. Рождественского чем-то лежащим вне их героев, они считали их творцами и стремились через призму «я» повествователя отразить в их судьбе ход самой истории.
Такой повествователь явлен и в поэме Дамдинова «Песня о Доржи Банза-рове», которая как бы завершает поэмную трилогию Дамдинова 1960-х гг., где повествование о детстве первого бурятского ученого также вписывается в ход национальной истории и завершится событием поистине мистически-чудесным.
Львиную долю поэмы занимает повествование о том, как герой — сын джи-динского казака, несущего пограничную службу на границе России с Китаем, живет в мире родной степи, народных обычаев, целый год вместе с отцом несет службу вдали от семьи, излечивается от смертельной лихорадки, отдан на учебу в кяхтинскую школу, и, наконец, способного мальчика собирают и отправляют в Казанскую гимназию. Особую важность получает при этом фигура повествователя, для которого чрезвычайно важно долго и подробно рассказывать о том, как катают войлок на юрту, как забивают на зиму быков, какие песни поют, как провожают в путь мужей и сыновей бурятские женщины, как встречают, истомившись в разлуке, и т. д. И эти бытовые зарисовки, весь вещный мир даны крупно, где даже детали и мелкие подробности приобретают самостоятельную значимость национальной жизни. Особенно много места занимают картины природной жизни — гораздо больше, чем рассказ о социальных явлениях, которые, хотя и долетают до жизни в степи, в юртах, не затрагивают осмысленной жизни маленького мальчика, а затем подростка, приобщающегося к окружающему миру. Подробно и поэтично переданы повествователем картины летнего степного зноя, лютого зимнего холода, описание очистительных, спасительных ливней и гибельных для людей и животных морозов.
Интонация повествователя, манера его неторопливой, раздумчивой речи передают образ героя — юного Доржи, описывают важные события в его еще короткой жизни. Например, во время его серьезной болезни летняя жара сожгла травы, «степь как будто посыпана пеплом…». И сопровождается это описание поэтическим размышлением рассказчика, его предположениями, сомнениями:
В десять лет —
Испытанье ли это судьбы,
Подтверженье ли слабости духа и тела? —
Грозным вихрем нежданно болезнь налетела, Опрокинув мальчишку без долгой борьбы.
А вот Доржи стоит перед старейшинами рода, которых созвал отец, прежде чем решить, посылать ли после окончания школы способного мальчика учиться дальше, и слушает их поучения:
— Младший — это хранитель огня в очаге, —
Для чего ему жить от отца вдалеке,
От хозяйства, от юрты родной отдаляться?..
— Надо жить, как положено людям степным…
По обычаю предков… В согласье с богами…
[3, с. 240; пер. О. Дмитриева].
Ответное слово Доржи: «Неужели в широких степях наших нет / Человека, способного к мудрым наукам? / ...Не противьтесь желанью, отцы, моему, / Может быть, окажусь / Я таким человеком», — предваряется субъективным мнением повествователя, которое подчеркивает его уверенное знание правоты маленького героя:
Встал Доржи.
(От него лишь зависит, куда
Путь сегодня мальчишке-кочевнику ляжет.)
Да, сейчас или больше уже никогда Слово, самое важное в жизни, Он скажет! [3, с. 241].
В повествователе органически сочетаются глубокий лиризм с напряженным драматизмом, тонкая наблюдательность с философским обобщением, когда он, например, сравнивает рождение народных богатырей с появлением в народе человека, кто мыслит «стрелы быстрей», кто «факелом зажег над степью разум свой»:
…В который раз, над степью встав,
Льет солнце зной с высот,
Дремотно марево висит, качаясь над травой.
Ужель настанет этот час,
И сын степей шагнет
С сияньем разума в глазах из юрты кочевой?! [3, с. 207].
Автором подчеркнуто единство конкретного поступка героя с раздумьем повествователя о его пути и судьбе. В сцене возвращения домой после первого своего пребывания на границе, когда в мальчишке уже проглядывает мужчина, Доржи вдруг «чутко вслушался в шепот простора ночного» и услышал то ли «звук какого-то странного, властного зова», то ли эхо, «или рога далекое гулкое пенье».
Звук глухой,
Да ведь в самую душу проник, И тотчас же заныла она в нетерпенье!
Потянулась на этот торжественный зов
И какою-то новой наполнилась страстью!..
И Доржи раньше всех оказался в дверях;
Этот звук боевой был уже ему ведом:
Так кричат лишь изюбры
В скалистых горах, Приготовясь под осень К боям и победам! [3, с. 219.]
Произошло почти фантастическое событие, но в нем нет никакой фантастики: герой вдруг услышал волнующий зов судьбы за пределами юрты. Можно утверждать, что это был зов самой природы, но это, вероятнее всего, чудесная способность самого героя, которая подвластна не каждому человеку. «И в сюжетно-композиционной структуре, и в идейно-смысловом целом произведения происходит рождение яркой исторической личности, ее восхождение от эмпирического мира к бытийному пространству-времени. Этот переход рассматривается автором в ми-стериальном плане: при сохранении реалистической мотивированности происходит символически-чудесное событие, объясняемое в сознании и подсознании героя как голос свыше, раскрывающее таинственную силу его высокого предназначения» [4, с. 68].
Образно-символическая природа поэмы потребовала расширения пространства-времени, и повествователь предрекает: скоро-скоро «судьба затрубит» и властно потребует от героя выполнить свое предназначение. Т. Н. Очирова писала об этой особенности поэмы: «…повесть о детстве Доржи ширится, словно бы разворачивается в пространстве и времени, получает второе измерение, становясь, по сути, поэмой, воспевающей духовное богатство народа, из глубин которого вышел Доржи» [8, с. 96]. Однако эта эпическая мысль претворяется в лирическом описании талантливой способности героя прикоснуться к чудесному, сверхреальному бытию.
Другой исследователь бурятской эпической поэмы Т. В. Самбялова сравнила «Песню о Доржи Банзарове» с поэмами на фольклорном материале и заметила, что в ней «образ повествователя уже далек от образа улигершина, народного сказителя, хотя и сохраняет стилистическую интонацию всезнающего певца. Это личность человека современной цивилизации, размышляющего о “судьбе человеческой — судьбе народной”, стремящегося к обобщениям философского характера. Именно образ повествователя придает поэме вид лирико-философской повести» [9, с. 142]. К этому утверждению следует добавить, что поэма Дамдинова о первом бурятском ученом, как и поэмы о вожде бурятского племени и студенте столичного вуза, — это поэтические сказания о талантливых личностях. И поведаны они рассказчиком, который в родстве с ними по своему творческому потенциалу, бесценной чуткости души и который воспевает ярких представителей своего народа как исторических личностей благодаря лирическому, песенному дару.
Список литературы Поэмы Николая Дамдинова: о лиризации жанра в литературном процессе в Бурятии 1960-х гг
- Балданмаксарова Е. Е. Бурятская поэзия: истоки, поэтика жанров: диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Москва, 2003. 365 с. Текст: непосредственный. EDN: QEFXAB
- Булгутова И. В. Мифопоэтика в контексте становления и развития бурятской литературы второй половины ХХ - начала XXI в.: диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Улан-Удэ, 2019. 388 с. Текст: непосредственный. EDN: PLCONO
- Дамдинов Н. Г. Избранные произведения: в 2 томах. Т. 1. Стихотворения и поэмы: перевод с бурятского. Москва: Советская Россия, 1981. 368 с. Текст: непосредственный.
- Имихелова С. С. Мистериальный сюжет как неомифологическая тенденция в бурятской литературе на историческую тему // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. Вып. 1. С. 63-69. Текст: непосредственный.
- Имихелова C. C. Русская и бурятская поэма в литературе Бурятии: взаимосвязи и особенности жанрового поиска // Русская литература в России и мире: материалы международной научной конференции. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2015. С. 147-157. Текст: непосредственный.
- Найдаков В. Ц. Непроторенными путями. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1984. 224 с. Текст: непосредственный.
- Немзер А. Поэмы Давида Самойлова // Самойлов Д. С. Поэмы. Москва: Время, 2005. С. 355-364. Текст: непосредственный.
- Очирова Т. Н. Николай Дамдинов. Литературный портрет. Москва: Советская Россия, 1980. 112 с. Текст: непосредственный.
- Самбялова Т. В. Традиционная и авторская символика в бурятской эпической поэме второй половины XX в.: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Улан-Удэ, 2011. 163 с. Текст: непосредственный. EDN: QFHICL
- Числов М. Время зрелости - пора поэмы. Современное состояние жанра, проблемы, тенденции. Москва: Советский писатель, 1982. 256 с. Текст: непосредственный.