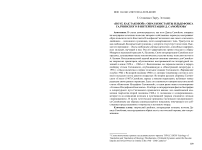"Поэт, как таковой": образ константы Ильдефонса Галчинского в интерпретации Д. Самойлова
Автор: Сташенко Татьяна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (51), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье демонстрируется, как поэт Давид Самойлов, опираясь на мемуарные источники польских авторов и собственные переводы, выстраивает образ польского поэта Константы Ильдефонса Галчинского как своего «польского двойника» - подлинного художника, поэта моцартианского типа. Трактуется он как свободный, бескорыстный художник, у которого отсутствует поза гения. Высшее его призвание - «быть свободным уличным артистом», способным одаривать всех музыкой, звучащей в нем. Ряд его характеристик прямо отсылает к образу Моцарта в маленькой трагедии А. Пушкина. Свою интерпретацию Самойлов подкрепляет, устанавливая также типологическое сходство между польским поэтом и А. Блоком. Исследовательской задачей видится описание значимых для Самойлова творческих ориентиров, обусловленных выстраиваемой им литературной позицией в конце 1950-х - 1960-е гг. Выполненные им переводы вошли в первую подборку стихов Галчинского, опубликованную в «Иностранной литературе» в 1956 г. и были включены в первое отдельное издание Галчинского «Варшавские голуби» 1962 г. Во второй половине 1960-х гг. интерес Самойлова к поэзии и личности польского поэта заметно возрастает. Во втором русском сборнике Галчинского «Стихи» (1967) Самойлов, наряду с новыми переводами, публикует новые редакции своих ранних переводов. Здесь он становится и автором вступительной статьи «Константы Ильдефонс Галчинский», а годом ранее пишет стихотворение «Соловьи Ильдефонса-Константы». В отборе и интерпретации фактов биографии и литературного пути Галчинского проявляется важное для самойловской концепции творчества второй половины 1960-х гг. положение о «сопереживании», которое из-за совпадения взглядов и чувствований творцов становится личным «переживанием». В целом эстетические принципы Галчинского воспринимаются Самойловым как образец социокультурного поведения, отвечающего его собственным представлениям о творчестве и истинном творце.
Творческий двойник, литературная позиция, поэтика давида самойлова, конструирование образа поэта, поэтический перевод как сопереживание
Короткий адрес: https://sciup.org/149127221
IDR: 149127221 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00109
Текст научной статьи "Поэт, как таковой": образ константы Ильдефонса Галчинского в интерпретации Д. Самойлова
В дневниковой записи от 16 ноября 1969 г. Давид Самойлов отметил: «Поэзия отличается от перевода, как чувство от сочувствия. Иногда сопереживание бывает так пронзительно, что сострадание переходит в страдание. Так бывает редко» [Самойлов 2002, II, 48]. Запись появилась в связи с завершением его работы над переводами Циприана Камиля Норвида. Однако ситуация, когда и без того условные в переводе границы между «чужим» и «своим», по сути, стирались окончательно и переводимый автор начинал восприниматься как творческий двойник, ранее складывается при работе Самойлова над переводами из другого польского поэта - Кон- станты Ильдефонса Галчинского.
Переводы Самойлова вошли в первую подборку стихов Галчинского, опубликованную в «Иностранной литературе» в 1956 г. [Галчинский 1956], а также были включены в первое русское издание Галчинского «Варшавские голуби» 1962 г. [Галчинский 1962].
Во второй половине 1960-х гг. интерес Самойлова к поэзии и личности польского поэта заметно возрастает. Во втором русском сборнике Галчинского «Стихи» (1967) [Галчинский 1967] Самойлов, наряду с новыми переводами, публикует новые редакции своих ранних переводов. В этом издании он становится и автором вступительной статьи «Константы Ильдефонс Галчинский» [Самойлов 1967], а годом ранее, в 1966 г, пишет стихотворение «Соловьи Ильдефонса-Константы» [Самойлов 2006, 167].
В научной литературе отмечалось, что поэзия Галчинского высоко ценилась Самойловым [см.: Немзер 2006, 678; 2011, 274; Хорев 2012, 213]. Важной исследовательской задачей видится описание значимых для Самойлова творческих ориентиров, обусловленных выстраиваемой им литературной позицией. В связи с этим наибольший интерес для нас представляют предисловие к сборнику 1967 г. и стихотворение «Соловьи Иль-дефонса-Константы».
В начале статьи Самойлов акцентирует внимание на двойственности как стержневом понятии выстраиваемого им образа. Существенно, что эта двойственность во всем не разрушает целостной личности Галчинского: у него «нет граней, отделяющих жизнь от поэзии, трагедию от фарса, труд от игры, веселье от грусти» [Самойлов 1967, 3] и позволяет ему одновременно существовать и как реальному субъекту, и как литературному персонажу не только в пространстве художественном, но и физическом: «У него было два имени, одно придуманное, шуточное - Ильдефонс, другое, данное при рождении, - Константы. Два имени слились для читателей воедино. Он и в поэзии был одновременно выдуманным Ильдефонсом и живым Константы» [Самойлов 1967, 4].
Репутация Галчинского складывается из двух комплексных составляющих: Ильдефонс - «гуляка праздный, мистификатор, шутник, поклонник Бахуса, беспечный и забавный» [Самойлов 1967, 4]; и Константы - «трагик, разыгрывающий драмы в кукольном театре. Лунатический мистик. Катастрофист» [Самойлов 1967, 4]. Заметим, что имя Ильдефонс не было вымышленным, как сообщал Самойлов, - оно было дано польскому поэту при крещении: 23 января (по католическому календарю) - день памяти св. Ильдефонса Толедского.
Одна из характеристик жизнерадостной ипостаси образа Галчинского («гуляка праздный») напрямую отсылает к образу Моцарта из маленькой трагедии Пушкина. Данная отсылка показательна, поскольку Моцарт в пьесе совмещает жизнерадостное с трагическим: он автор не только оперы-буффа «Дон Жуан», но и «Реквиема».
Неслучайно Самойлов в статье 1975 г. «Три поэта» (предисловие к книге избранных произведений Ю. Тувима, В. Броневского и К. Галчинского, где часть, посвященная последнему, являлась переработанной версией статьи 1967 г.) называет Галчинского «“поэтом, как таковым”, талантом моцартианским, каждое проявление которого пронизано трудно определимым обаянием поэзии» [Самойлов 1975, 18].
В приуроченной к пушкинскому юбилею анкете «Вопросов литературы» (1974) Самойлов признавался: «В разные периоды жизни мне нравились разные произведения Пушкина. <...> теперь - Пушкин «маленьких трагедий». <...> Мне нравится моцартианский выход из трагического, присущий Пушкину, нравится сжатая трагедия, разрешающаяся иронией или высоким приятием жизни» [Самойлов и др. 1974, 22]. Самойлов применяет характеристику «моцартианский» к Пушкину, тем самым причисляя его к художникам этого типа: «Пушкинское жизнеутверждение стало традицией нашей литературы, вбирая жгучие проблемы и внутренние катаклизмы Гоголя и Достоевского, оно оставалось неизменным» [Самойлов и др. 1974, 21]. В связи с этим подчеркивается и «особое значение Пушкина»: «он наличествует как конкретный образ, как образец и норма личности, характера и поведения. Он для нас не только создатель сюжетов, но и сам бесконечный сюжет, живой характер, образец умения жить, чувствовать, сочувствовать, мыслить и любить. <.. .>» [Самойлов и др. 1974, 21].
В статье-предисловии 1967 г. Самойлов уже опосредованно соотносит образ Галчинского с пушкинским, цитируя фрагменты стихотворений, посвященных польскому поэту: «поэт греко-цыганский» (В. Броневский) и поэт, показавший «сколько бессмыслицы в поэзии и сколько поэзии в бессмыслице» (Л. Стафф) [Самойлов 1967, 3-4].
Описывая вторую ипостась, Самойлов устанавливает типологическое сходство между польским поэтом и А. Блоком. Отсюда другая ключевая характеристика в образе Галчинского - возвышенный «трагик, разыгрывающий драмы в кукольном театре» [Самойлов 1967, 4]. Проводя эту параллель, Самойлов исходит из своей трактовки Блока как поэта, который, обладая даром всепонимания и откровенности, сумел воплотить определенную творческую позицию, «противопоставленную прагматизму и житейской прозе», «свой вариант русского идеализма» [Самойлов 1980, 41]. Как подчеркивал Самойлов, в данном случае речь шла «не просто о влиянии, а о некоем типе поэтического мышления, об освобожденное™ от любых предубеждений стиля, догмы, доктрины, о доверии поэта к своему поэтическому мироощущению, о единстве поэзии и морали» [Самойлов 1967, 13]. При этом эстетическую позицию блоковской «свирели на мосту», согласно Самойлову, Галчинский понимал и принимал, но одновременно совмещал ее в своих стихах с блоковской же позицией периода «Балаганчика» [Самойлов 1967, 12].
В свете этого сближения описывался и творческий путь Галчинского: с самого начала он хотел оборониться от грубого вторжения реальности и писал стихи в большей мере как театр «для себя», «где был месяц, скрипка и музыка Баха» [Самойлов 1967, 8]. Но он знал, что в театре «для себя» -«бутафорские стены, а за бутафорской дверью, лежит тот же мир» [Са- мойлов 1967, 8], из которого он ушел. Ирония Галчинского разрушала бутафорию, но «над сломанными декорациями стояло подлинное небо, была красота мира, в которую он влюблялся. И уже забывал иронию и скепсис и пел красоту с одержимостью романтика» [Самойлов 1967, 8].
Не менее значимым для самого Самойлова оказалось и сближающее его с Галчинским восприятие Блока. В статье пересказывается эпизод из воспоминаний С.М. Салинского: «Станислав Мария Салинский, близкий друг поэта, рассказывает, как шли они однажды перед рассветом по Театральной площади в Варшаве. В небе сияла большая, неподвижная зеленая звезда. Галчинский вполголоса стал читать стихи Блока:
Свирель запела на мосту.
И яблони в цвету,
И ангел поднял в высоту Звезду зеленую одну...
Потом подумал и попросту, обращаясь к звезде, как к человеку, сказал по-русски:
- Теперь я понял ваш секрет, Александр Александрович...» [Самойлов 1967, 11-12] (ср.: [Salinski 1961, 106]).
Этот же отрывок из стихотворения Блока юный Самойлов выделяет в дневниковой записи от 31 мая 1937 г, сопровождая следующим комментарием: «Читаю Блока, впервые без нотки раздражения. Начинаю проникать в него» [Самойлов 2002,1, 122].
Подобному сходству эмоционального восприятия Самойлов придавал особое значение, видя в нем путь к подлинному узнаванию «чужого как своего» и осознанию «себя через чужое».
Обратимся теперь к рассмотрению стихотворения «Соловьи Ильде-фонса-Константы».
Ильдефонс-Константы Галчинский дирижирует соловьями:
Пиано, пианиссимо, форте, аллегро, престо!
Время действия - ночь. Она же и место.
Сосны вплывают в небо романтическими кораблями.
Ильдефонс играет на скрипке, потом на гитаре,
И снова на скрипке играет Ильдефонс-Константы Галчинский. Ночь соловьиную трель прокатывает в гортани.
В честь прекрасной Натальи соловьи поют по-грузински.
Начинается Бог знает что: хиромантия, волхованье! Зачарованные люди, кони, звезды. Даже редактор, Хлюпая носом, платок нашаривает в кармане, Потому что еще никогда не встречался с подобным фактом.
Плачет редактор. За ним расплакался цензор.
Плачет директор издательств и все его консультанты. “Зачем я его правил! Зачем я его резал!
Что он делает с нами! Ах, Ильдефонс-Константы!”
Константы их утешает: “Ну что распустили нюни! Ничего не случилось. И вообще ничего не случится! Просто бушуют в кустах соловьи в начале июня. Как они чисто поют! Послушайте: ах, как чисто!”
Ильдефонс забирает гитару, обнимает Наталью, И уходит сквозь сиреневый куст, и про себя судачит: “Это все соловьи. Вишь, какие канальи!
Плачут, черт побери. Хотят - не хотят, а плачут!...” [Самойлов 2006, 164]
Здесь уже посредством художественных приемов тоже создается образ Галчинского как поэта моцартианского типа.
Отправной точкой Самойлову послужил относящийся к началу 1920-х гг. эпизод из воспоминаний Салинского: “Bylo bardzo daleko do naszej mlodosci, do Milanowka; do krzakow kwitn^cego bzu, wsrod ktorych darly si? prawdziwe slowiki, akompaniuj^c glosowi Niny, ktora recytowala na gios „Solowjinyj sad” Bloka, czytala z cak) maestri^ podsluchanq u rosyjskich recy-tatorow, a Konstanty odwracal si? od czasu do czasu w kierunku krzakow za barierk^ tarasu i komenderowal slowikami: „А teraz presto, forte, pianissimo, tutti.” Nad sosnami wisial olbrzymi ksi?zyc. Wzruszenia tego jedynego teatrum „Solowjinogo sada” i slowiczego don akompaniamentu jawnie nie wytrzymal Jerzy Liebert - plakal duzymi milcz^cymi Izami, nie wstydz^c si?. „А ty je-stes, okazuje si?, baba ... „ - rozladowal wlasne, na pewno wielkie wzrusze-nie Konstanty zwracaj^c si? do Jerzego” [Salinski 1961, 84-85]. (Пер.: Было очень далеко до нашей молодости, до Милянувека, до кустов цветущей сирени, среди которых орали настоящие соловьи, аккомпанируя голосу Нины, которая в голос декламировала «Соловьиный сад» Блока, читала со всем мастерством, подслушанным у русских декламаторов, а Константы поворачивался время от времени в сторону кустов за перила террасы и командовал соловьями: «А теперь престо, форте, пианиссимо, тутти». Над соснами висела громадная луна. Этого волнения единого театра «Соловьиного сада» и соловьиного к нему аккомпанемента явно не выдержал Ежи Либерт - он плакал крупными безмолвными слезами, не стыдясь. «А ты, оказывается, баба» - разрядил свое собственное наверняка большое волнение Константы, обращаясь к Ежи [перевод наш. - ГС.]).
Отталкиваясь от этого мемуарного свидетельства, Самойлов усиливает оксюморонность описываемой ситуации. Галчинский «дирижирует соловьями», исполняющими «по-грузински», сочиненную любовную песнь «в честь прекрасной Натальи», аккомпанируя им «на скрипке» и «на гитаре».
Амбивалентность образа Галчинского, заданная уже его двойным именем (о специфике которого мы говорили выше), создается взаимодействием полюсов иронического и сакрального: «дирижирование соловьями» оказывается одновременно бессмыслицей и колдовством. Таким образом на романтическое представление о магической силе искусства (способной захватывать, зачаровывать, вызывать катарсис) и творящем поэте-демиурге накладывается ироническое снижение пафоса.
По сравнению с мемуарным источником Самойлов в стихотворении сдвигает время действия (Галчинский познакомился со своей будущей женой в 1929 г), а также кардинально меняет состав и соотношение действующих лиц: идеальный мир «прекрасной Натальи» (возлюбленной и музы поэта) и низкий мир издательской бюрократии («редактор», «цензор», «директор издательств и все его консультанты»), а между этими мирами, связанный с обоими Ильдефонс-Константы Галчинский.
Показательно, что Ильдефонс-Константы имеет целый ряд пересечений с Моцартом «Маленьких трагедий»: оба принадлежат миру музыки и как гении с легкостью создают произведения, которые способны вызывать слезы даже у недоброжелателей, обоим свойственна самоирония в ответ на чрезмерные восхваления. В свою очередь, собирательный образ издательской бюрократии соотносится с пушкинским Сальери: эмоциональная реакция бюрократов, столкнувшихся с вдохновенным творчеством поэта, близка эмоции Сальери, слушающего «Реквием» («Эти слезы впервые лью <...> Друг Моцарт! Эти слезы... // Не замечай их» [Пушкин 1948, 133]). Но в отличие от Сальери, бюрократы не имеют отношения к творчеству и мастерству: их работа («резать» и «править»), по сути, - уродовать, созданное творцом. Ильдефонс-Константы, подобно Моцарту, с иронией воспринимает это вмешательство. Остановить подлинного художника, помешать ему творить не в их воле. Более того, подпадая под власть искусства, они не способны ему противостоять. Здесь «трагедия» разрешается иронией, «высоким приятием жизни», а обозначенная таким образом позиция Ильдефонса-Константы совпадает с авторской.
Создавая поэтический образ Галчинского, Самойлов пишет стихотворение как бы по чужой канве. Здесь ему важно, оставаясь собой, сохранить ощущение чужого стиля и посредством «поэтического перевоплощения» подчеркнуть близость творческих позиций.
Так, он прибегает к смешению стилистических пластов высокой и сниженно-разговорной лексики и использует устойчивые элементы поэтического мира Галчинского. Это комплекс таких образов, как: «ночь», «июнь», «луна / месяц», «соловьи», «скрипка / гитара / музыкальное исполнение», которые описывают процесс творчества - ср., напр.: «Моя поэзия - ночь в пору полнолунья, /<..>/... в июне» («Моя поэзия» [Галчинский 1967, 54]); «Люблю соловьиный посвист, / ночь, когда она майская необычайно, / и небо, над ночью смешное, в звездах, / как “Детская симфония” Гайдна» («Люблю» [Галчинский 1967, 140]); «Я исполню, взяв смычок мой зыбкий, / под сурдинку, / на бессмертной скрипке, / все четы- ре вальса из балета» («Месяц» [Галчинский 1967, 229]); «Эх, распелись гитары, /<...>/ та же самая тайна, / тех же струн перезвон» («Две гитары» [Галчинский 1967, 120]). Кроме того, здесь есть отчетливые отсылки к текстам Галчинского: наиболее яркий пример - отсылка к одному из его самых популярных стихотворений “Zaczarowana dorozka” (ср.: «Зачарованные люди, кони, звезды» [Самойлов 2006, 164] и “ZACZAROWANY DOROZKARZ / ZACZAROWANA DOROZKA / ZACZAROWANY KON” [Galczynski 1979, 62]).
На мотивно-образном уровне в число столь же устойчивых входит образ лирического героя самого Галчинского - играющего (музицирующего) Ильдефонса и образ его жены - воспеваемой поэтом «прекрасной Натальи». Самойлов, останавливаясь на этом образе в статье 1967 г, отмечает: «<...> он женился по страстной любви и в поэзию его вошел еще один постоянный образ - “серебряная Наталья”, вечная женственность, мать, возлюбленная и муза - один из самых пленительных и глубоких образов, созданных поэтом» [Самойлов 1967, 14].
Не единожды в поэзии Галчинского встречается и сатирический образ редактора («Письмо с пунктиром», «Импресарио и поэт» и др.) - ср.: «Какой бы ни был: старый друг, / редактор, - ты один из двух, / мы оба связаны без срока, / и катит нас забавный воз /<...> / разбойника и скомороха» [Галчинский 1967, 68].
На ритмико-метрическом уровне Самойлов не стремится максимально точно воспроизвести по-русски польский силлабический стих, а лишь использует некоторые конструктивные принципы, которые в комплексе создают видимость польской силлабики: сплошная женская рифма, отсутствие силлабо-тонического ритма, сверхдлинный стих с обязательной цезурой в середине строки. (На это обратил внимание Л. Миль в рецензии на сборник «Дни»: «Блестяще владеет Самойлов даром имитации. В стихотворении о польском поэте Галчинском “Соловьи Ильдефонса-Констан-ты” ударения в строке и паузы расставлены так, что начинает явственно звучать польский акцент» [Миль 1971, 270]).
Таким образом, Самойлов, опираясь на биографические источники и собственные переводы, выстраивает образ Галчинского как своего «польского двойника» - подлинного художника, поэта моцартианского типа. Характеризуется он как свободный, бескорыстный художник, у которого отсутствует поза гения. Высшее призвание для него - «быть свободным уличным артистом» [Самойлов 1967, 23], способным одаривать всех музыкой, звучащей в нем. В отборе и интерпретации фактов творчества и биографии польского поэта проявляется важное для самойловской концепции творчества в те годы положение о «сопереживании», которое из-за совпадения взглядов и чувствований творцов, становится личным «переживанием». Эстетические принципы Галчинского воспринимаются Самойловым как образец социокультурного поведения, отвечающего его собственным представлениям о творчестве и истинном творце.
Список литературы "Поэт, как таковой": образ константы Ильдефонса Галчинского в интерпретации Д. Самойлова
- Галчинский К.И. Стихи // Иностранная литература. 1956. № 2. С. 17-25.
- Галчинский К.И. Варшавские голуби: Стихи. М., 1962.
- Галчинский К.И. Стихи. М., 1967.
- Миль Л. Факт и образ // Дружба народов. 1971. № 5. С. 269-271.
- Немзер А.С. Примечания // Давид Самойлов. Стихотворения. СПб. 2006. С. 647-749.
- Немзер А.С. Автопародия как поэтическое credo: "Собачий вальс" Давида Самойлова // От Кибирова до Пушкина: Сборник в честь 60-летия Н.А. Богомолова. М., 2011. С. 269-283.
- Пушкин А.С. Моцарт и Сальери // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. Драматические произведения. М.; Л., 1948. С. 121-134.
- Самойлов Д. Константы Ильдефонс Галчинский // Галчинский К.И. Стихи. М., 1967. С. 3-24.
- Самойлов Д., Рождественский В., Мартынов Л. и др. "Величайшая гордость наша" // Вопросы литературы. 1974. № 6. С. 3-34.
- Самойлов Д. Три поэта // Тувим Ю., Броневский В., Галчинский К.И. Избранное. М., 1975. С. 5-22.
- Кушнер А., Винокуров Е., Самойлов Д., Тарковский А. и др. Живые традиции // Вопросы литературы. 1980. № 10. С. 24-50.
- Самойлов Д. Поденные записи: в 2 т. М., 2002.
- Самойлов Д. Стихотворения (Новая библиотека поэта). СПб., 2006.
- Хорев В.А. Константы Ильдефонс Галчиньский и русские поэты // Хорев В.А. Восприятие России и русской литературы польскими писателями (Очерки). М., 2012. С. 207-214.