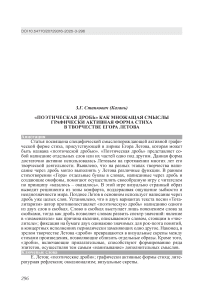«Поэтическая дробь» как множащая смыслы графически активная форма стиха в творчестве Егора Летова
Автор: З.Г. Станкович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена специфической смыслопорождающей активной графической форме стиха, присутствующей в лирике Егора Летова, которая может быть названа «поэтической дробью». «Поэтическая дробь» представляет собой написание отдельных слов или их частей одно под другим. Данная форма достаточно активно использовалась Летовым на протяжении многих лет его творческой деятельности. Выявлено, что на разных этапах творчества написание через дробь могло выполнять у Летова различные функции. В раннем стихотворении «Гора» отдельные буквы в словах, написанные через дробь и создающие омофоны, помогают осуществлять своеобразную игру с читателем по принципу «казалось – оказалось». В этой игре визуально странный образ выводит реципиента из зоны комфорта, поддерживая ощущение зыбкости и неоднозначности мира. Позднее Летов в основном использует написание через дробь уже целых слов. Установлено, что в двух вариантах текста песни «Тоталитаризм» автор противопоставляет «поэтическую дробь» написанию одного из двух слов в скобках. Слово в скобках выступает лишь пояснением слова за скобками, тогда как дробь позволяет словам развить спектр значений: явление в «знаменателе» как причина явления, описываемого словом, стоящим в «числителе»; фиксация на бумаге двух одинаково значимых для рок-поэта понятий, в концертных исполнениях периодически заменяющих одно другое. Наконец, в зрелом творчестве Летова «дроби» превращаются в визуальные скрепы между стихами произведения, позволяющие сблизить отдельные образы. Кроме того, «дроби», включающие прилагательные, способствуют формированию ряда эпитетов, осуществляя тем самым «нанизывание» дополнительных смыслов.
Е. Летов, «поэтические дроби», графически активные формы стиха, литературная рефлексия, окказионализм, визуальные скрепы
Короткий адрес: https://sciup.org/149149399
IDR: 149149399 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-296
Текст научной статьи «Поэтическая дробь» как множащая смыслы графически активная форма стиха в творчестве Егора Летова
Ye. Letov; “poetic fractions”; graphically active verse forms; literary reflection; nonce word; visual bonds.
Многие тексты Егора Летова отличает большое количество экспериментов со словами. Рок-поэт использовал в своих песнях и стихах метаграммы, игру с цепочками похожих слов, различные семантико-грамматические сбои. Сам автор в одном из интервью говорил о себе так: «…я прежде всего занимаюсь разработкой слова, экспериментами над словом, психологией и философией, воплощенными в слове» [Летов 2022, 138]. Нередко Летов прибегал и к тому, что можно назвать разными вариантами пространственной формы поэзии: к специфической расстановке букв, слов или частей фраз относительно друг друга. По мнению В.Е. Симаковой, «само использование этой формы позволяет говорить о Егоре Летове как о продолжателе традиций, в том числе авангардной традиции использования графических средств как смыслообразующих» [Симакова 2018].
Ю.В. Доманский посвятил отдельное исследование стихотворному тексту Летова «Лестница в небо», который в издании 2011 г. выглядит как уникальная трехстолбцовая запись. Автор статьи приходит к выводу, что произведение может быть прочитано в двух вариантах: горизонтальном и вертикальном:
Стихотворение Егора Летова «Лестница в небо…» визуально оформлено таким образом, что предполагает два способа чтения, то есть стихотворение это в плане своего построения и, соответственно, чтения оказывается вариативным. И вариативность его чтения, предопределенная его визуальной организацией, предполагает не альтернативные относительно друг друга интерпретации, а общую интерпретацию двух стратегий чтения, формирующих единую систему текста… [Доманский 2022, 99].
Другой интересный способ функционирования пространственной формы поэзии у Егора Летова представляет собой написание отдельных частей текста, чаще всего слов, одного над другим, как бы через дробь. В статьях «Функции “поэтических дробей” в лирике Егора Летова» и «Графические формы проявления рефлексии в творчестве Егора Летова на примере “поэтических дробей”» было предложено назвать данный феномен «поэтической дробью» [Станкович 2020; Станкович 2022].
О.Р. Темиршина отмечает, что функционально поэтическая дробь – это явление того же порядка, что и синтаксические склейки с образными синкретами – все эти формы, во-первых, генетически связаны с визуально-образным компонентом, во-вторых, соотносятся с симультанным выстраиванием смыслов в пространстве [Темиршина 2024, 306].
В предыдущих статьях удалось установить, что «дроби» помогают привлечь внимание к определенной части произведения. Они создают пространство для вариативности при возможном парном прочтении «числителей» и «знаменателей», что формирует ощущение многозначности и полифоничности мира. По своей сути «поэтические дроби» – это оригинальная форма представления процессов рефлексии и саморефлексии, которые не завершены, так как единственный возможный вариант не выбран автором.
Как представляется, функции «поэтических дробей» не могут сводиться к одному лишь рефлексивному началу, ведь произведения, в которых они обнаруживаются, создавались рок-поэтом на протяжении большей части его творческой деятельности, с 1984 г. по 2003 г., от времени становления Летова как творца и до этапа, когда полностью сформировался его индивидуальный стиль. Для того, чтобы обнаружить, какую дополнительную смысловую нагрузку могут нести на себе летовские «поэтические дроби», обратимся к трем произведениям, созданным им в разные годы.
Вероятнее всего, самым первым текстом Егора Летова, в котором обнаруживаются «поэтические дроби», является стихотворение «Гора», написанное 18 ноября 1984 г. Интересно, что в данном случае через дробь написаны не слова, а буквы в слове: «из изве зсдт чатой стиснутости» [Летов 2018, 70]. Похожая ситуация обнаруживается у Летова лишь единожды, намного позднее, в песне «Приказ № 227», созданной в 2002–2003 гг.: «санитарно-бытовые парадоксы обые денного сознания» [Летов 2018, 491] (ошибочное написание «обед ые нного» в издании стихов 2018 г. исправлено нами в соответствии с автографами Летова. – З.С.). Хотя данные примеры и выглядят сходными, у них есть одно существенное различие. В стихотворении «Гора» мы имеем дело с омофонами, то есть на слух слова «известчатой» и «извездчатой» не различаются, а «обеденного» и «обыденного» хоть и близки по звучанию, но вполне различимы при прослушивании. В результате мы понимаем, что стихотворе- ние «Гора» с самого начала предполагало существование именно в форме текста, а не песни.
Прилагательное «известчатый» с ударением на букве «а» дается в толковом словаре Т.Ф. Ефремовой как редко употребляемое, обозначающее «То же, что: известняковый» [Ефремова]. В случае с извездчатым мы можем говорить об авторском окказионализме. Если известчатый сделан из известки, то извездчатый, соответственно, – из звезд. Н.Т. Валеева рассматривает этот пример в своей статье о метаграммах и называет «извезд-чатый» псевдословом с псевдоприставкой и- и реальным корнем – звезд. Она пишет, что «здесь можно говорить о квазиметаграмме, каламбуре и гибриде одновременно» [Валеева 2022, 41].
Слово «изве стчатый» поставлено Летовым на место числителя, поэтому можно предполагать, что это должен быть первый вариант прочтения: «Из известчатой стиснуто сти – // Пошел я на гору // Трава высыхает // Вот вечер начался…» [Летов 2018, 70]. Можно предположить, что известчатая стиснутость – это давящий на лирического субъекта мир города, в котором дома сжимают человека, не дают ему почувствовать себя свободным. В таком случае пространство горы может представлять собой мир свободы, сопоставимый с природой. Неслучайно упоминается о высыхающей траве во время пути героя на гору.
Если мы имеем дело с извездчатой стиснутостью, то картина представляется более фантастической. Герой фактически спускается с неба, где был стиснут звездами, на гору, а не поднимается на нее. Закономерно в связи с этим, что в последнем стихе появляется информация о том, что «Гора оказалась воронкой». Это некий образ-перевертыш: то, что перед зрителем, гора или воронка, определяет его угол (точка) зрения. Так же обстоит дело с изве стчатым и извездчатым: человек определяет для себя сам, что сдерживает его, мешает его свободе: урбанистическая жизнь или, например, какие-то нереальные романтические идеалы, традиционно связываемые с образом звезд. Движение героя похоже также на обратный путь Данте: он шел воронкой Ада и вышел на гору Чистилища, а лирический субъект Летова – наоборот, что добавляет ситуации ноту печали.
Конец стихотворения оказывается неожиданным, но можно сказать, что весь текст построен на причудливых образах: «Мальчишки вслепую играют в футбол // Окошки сгорают // Пыль падает время от времени // Тихо звоня в колокольчик…» [Летов 2018, 70]. Летов выводит своих читателей из зоны комфорта с помощью странных образов, метафоры и визуально необычной «поэтической дроби». «Дробь» как бы готовит читателя к непредсказуемому финалу текста. При этом не столь важно, из како й стиснутости герой отправляется на гору. Результат его похода будет один и тот же.
Следующий случай появления «поэтической дроби» обнаруживается у Летова только в 1986 г. На этот раз мы имеем дело с песней «Тоталитаризм». В ней «поэтическая дробь» принимает уже тот образ, который можно считать для Летова традиционным: «числитель» и «знаменатель» формируются не отдельными буквами или их сочетаниями, а целыми словами: «Мы все одобряем тотальный _р т е е ф р л р е о к р с_ » [Летов 2018, 200]. Здесь нужно заострить внимание на еще одном важном отличии от более раннего произведения с «поэтической дробью»: рядом с текстом фигурирует только год написания, 1986, но точной датировки не дается.
Если обратиться к концертным записям песни «Тоталитаризм», можно услышать, что во время выступления на фестивале «СыРок» в 1988 г. Летов поет «тотальный террор», на записи же 1987 г. фигурирует «тотальный рефлекс». Вообще весь текст отличается достаточно большой вариативностью от исполнения к исполнению. Вероятнее всего, запись слов «террор» и «рефлекс» через дробь была добавлена автором позднее как фиксация разных, но, по-ви-димому, одинаково значимых для Летова вариантов. При этом, как мы видим, нельзя говорить о том, что террор был хронологически первым по отношению к рефлексу.
Интересно, что в рукописи 1986 г. и в издании книги «Стихи» 2003 г. эти слова даются не через дробь, а «рефлекс» написано в скобках, после террора: «Мы все одобряем тотальный террор (рефлекс)» [Летов 2003, 130]. Информация, данная в скобках, фактически раскрывает значение того, что написано перед этими скобками, то есть в нашем случае автор приравнивает слова «рефлекс» и «террор» друг к другу. Террор как то, что индивид осуществляет на рефлекторном, инстинктивном уровне, не задумываясь о его результатах. Рефлекс – как общая, тотальная реакция на террор – не разумная, а именно на уровне рефлекса.
По-видимому, написание через дробь было добавлено Летовым позднее первой редакции 1986 г. и появилось уже только в издании книги «Стихи» 2011 г. Данный факт может свидетельствовать о продолжении работы над текстом произведения. В статье «Особенности стихосложения Егора Летова» Ю.Б. Орлицкий, помимо прочего, отмечает, что такие графически активные формы стиха, предполагающие особое («вариативное») чтение текста, были во сстановлены только в издании 2011 года, ориентированном, по утверждению составителей, на аутентичное воспроизведение авторских рукописей [Орлицкий 2018, 51].
«Дробь», таким образом, усложняет и делает соотношения понятий «рефлекс» и «террор» более разноплановыми. Вероятнее всего, возможен целый спектр прочтения данных образов. Можно предполагать, что то, что находится в «знаменателе», является некоей латентной, невидимой с первого взгляда причиной того, что оказалось в «числителе». Рефлекс становится основанием для террора.
«Поэтические дроби» у Летова не остаются приметой лишь коротких лирических текстов: в более позднем творчестве они появляются в достаточно большом лиро-эпическом произведении и смотрятся там достаточно гармонично. Текст «Как в покинутом городе», написанный в октябре–декабре
1994 г., сам по себе является вполне необычным произведением не только в свете присутствия в нем «поэтических дробей». Начнем с того, что у Летова есть два текста с одинаковым первым стихом «Как в покинутом городе», в книге «Стихи» они имеют нумерацию 1 и 2. Мы рассмотрим текст № 2. Это не песня, а, скорее, некая поэма, внутри которой присутствуют по-разному организованные фрагменты, часть которых является прямой речью. Чтобы охватить все смыслы произведения, без сомнения, потребуется отдельное исследование. Мы же сосредоточимся только на том его фрагменте, где обнаруживаются «поэтические дроби». Для этого периода творчества Летова «поэтические дроби» можно не считать уникальным явлением. Они встречаются в стихотворениях «Счастье свое я за палец схватил…», написанном 14 ноября 1994 г., и «Крадучись», созданном 4 июня 1995 г.
В тексте «Как в покинутом городе» две «поэтические дроби» стоят в двух смежных стихах второй строфы, являющих собой пример параллелизма. Рассмотрим расширенную цитату в контексте предложения:
Подобно учебным гранатам
Со стуком [наши шальные скуластые тени] валились на прелые доски С деревянным стуком валились на пол На прелые доски
На дощатые подобия полов
На с г к р р е и м п у у ч ч и и е е надгробия подвалов
На нем _ ытые поверхности затерянных миров трухлявые
И убийственно прое**нных миров
И бесчисленных прое**нных миров
Прое**нных миров да проигранных сражений, Подавленных восстаний, обреченных революций Да порубленных, поваленных вишневых садов, лесов [Летов 2018, 397].
Сам по себе метафорический образ надгробий подвалов является странным, ведь надгробия обычно бывают каменными, неподвижными, а значит, эпитеты «гремучие» и «скрипучие» вряд ли могут быть логичными в данном случае. Деревянная крышка люка в полу, закрывающая вход в подвал, может быть скрипучей. На первый взгляд она не похожа на надгробие, но может, по желанию автора, соотноситься с ним как нечто, лежащее сверху чего-то, закрывающее какое-то пространство.
Надгробия подвалов представлены здесь не просто как предметы, сделанные из досок, но как то, что имеет отношение к полу. Более того, немытыми и трухлявыми также могут быть как раз доски полов. Таким образом, затерянные миры, к которым относятся эти эпитеты, тоже начинают напоминать доски пола и теряют романтический ореол. Неслучайно в следующем стихе происходит резкое снижение стилистики, и миры обозначены уже ненормированной лексемой. «Дробь» здесь связывает образы двух смежных стихов не только чисто визуально (верхняя строка как бы спускается к нижней и наоборот), но и через смыслы прилагательных, могущих иметь отношение к одному и тому же существительному.
Эпитет «гремучие» стоит здесь особняком, потому что не может быть логически соотнесен ни с досками, ни с полами, ни с надгробиями. Возможно, он в большей степени имеет отношение к таким образам, как проигранные сражения, подавленные восстания и обреченные революции, появляющимся в тексте ниже. Такой вывод можно сделать, если принимать во внимание образ из известного стихотворения О. Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…»: «За гремучую доблесть грядущих веков, // За высокое племя людей – // Я лишился и чаши на пире отцов, // И веселья, и чести своей…» [Мандельштам 1995, 198]. В обоих случаях речь идет о гибели определенных идеалов. Однако у Мандельштама эти идеалы потерпели поражение не напрасно – они отданы за доблесть грядущих веков и ради высокого племени людей, то есть за еще более высокие, общечеловеческие ценности, тогда как у Летова ситуация представляется практически безнадежной: восстания потерпели поражение, войны проиграны, революции обречены, а вишневые сады порублены. «Поэтические дроби» в тексте Летова формируют связи между различными образами, простое последовательное упоминание которых не позволило бы обнаружить в них ни общее содержание, ни полифонию смыслов. Можно также заметить, что «поэтические дроби» представляют здесь вариант формирования последовательного ряда эпитетов, благодаря чему осуществляется «нанизывание» смыслов.
Как мы видим, в произведениях, рассмотренных в данной статье, летов-ские «поэтические дроби» обретают несколько функций. Во-первых, включая в себя омофоны, своеобразные слова-перевертыши, «дроби» приглашают читателя в игру с неожиданным финалом по принципу «казалось – оказалось». Во-вторых, написание через дробь может прямо противопоставляться написанию в скобках. В позднем варианте текста песни «Тоталитаризм» Летов меняет скобки на дробь, усложняя образ. То, что дается в «знаменателе», может быть прочитано как скрытая причина того, что оказывается в «числителе». Наконец, дроби могут работать и как визуальные скрепы, способствующие сближению, казалось бы, совершенно изолированных друг от друга образов.