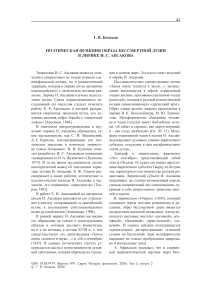Поэтическая функция образа бессмертной души в лирике И. С. Аксакова
Автор: Косяков Г.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736751
IDR: 14736751
Текст статьи Поэтическая функция образа бессмертной души в лирике И. С. Аксакова
Творчество И. С. Аксакова является логическим завершением не только периода славянофильской поэзии, но и романтической традиции, которая в лирике поэта органично взаимодействует с элементами поэтики реализма. Лирика И. Аксакова изучена недостаточно полно. Среди дореволюционных исследований его наследия следует отметить работу К. К. Арсеньева, в которой раскрывается творческая эволюция поэта, его духовные искания, пафос борьбы с «ликующей ложью» [Арсеньев, 1888].
В советском литературоведении к изучению лирики И. Аксакова обращались такие исследователи, как С. И. Машинский, А. С. Курилов, рассматривавшие его поэтическое наследие в контексте творчества семьи Аксаковых. В. И. Кулешов отметил разработку И. С. Аксаковым концепции «невыразимого» В. А. Жуковского [Кулешов, 1973]. В то же время исследователь сделал категорический вывод об эпигонском характере поэзии И. Аксакова. Б. Ф. Егоров рассматривает в своих работах эстетические и идеологические взгляды И. Аксакова, в частности, его концепцию «народности» [Егоров, 1982].
В работе Е. И. Анненковой на материале писем И. Аксакова выясняется его стремление к синтезу «сокровенной» и «житейской» истин, к постижению субстанциональных начал русской жизни [Анненкова, 1998].
В ранней лирике И. Аксакова мы видим его обращение не только к магистральным образам и мотивам русского романтизма, но и к их истокам, к поэзии XVIII в., о чем свидетельствуют его произведения «Зачем опять теснятся в звуки…» и «26-е сентября» (1845). В данных поэтических текстах утверждается мысль о непостижимости духовной субстанции, которая обречена на страда- ния в земном мире. Эта идея станет ведущей в лирике И. Аксакова.
Пессимистическое умонастроение элегии «Зачем опять теснятся в звуки…» экспрессивно воплощается в образе отравленной «чаши жизни», противопоставленной «чаше радостей», которая в русской романтической поэзии символизировала «дружеский круг». Образ «чаши желчи» широко представлен в лирике В. К. Кюхельбекера, М. Ю. Лермонтова. Метафорическое сближение человека и чаши (сосуда) имеет библейские истоки: «Я забыт в сердцах, как мертв мертвый; я – как сосуд разбитый» (Пс. 30: 13). Метафора отравленной чаши в элегии И. Аксакова раскрывает духовное уныние лирического субъекта, оскудение в нем метафизического «огня души».
Эпиграф к лирическому фрагменту «26-е сентября», представляющий собой стих из Псалма 14, задает ситуацию предстояния лирического субъекта Творцу из бездны зла, характерную для творчества русских романтиков. Лирический субъект И. Аксакова переживает не столько молитвенный порыв, сколько напряженный акт самопознания, открывая в себе непрестанное движение мыслей и чувств.
В лирическом «Очерке» (1845), который соединяет черты поэтики романтизма и реализма, образ бессмертной души вводится посредством цветовой символики. Автор использует цветовые эпитеты: «розовый», «румяный», «багровый», «ярко-золотой», «огневой». В горнем пейзаже подчеркивается стремительное распространение огненной стихии во Вселенной. Заря метафорически выражает не только пробуждение природы, но и воскресение души.
А. Афанасьев указывал, что в славянской мифопоэтической картине мира Вос-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 2 © Г. В. Косяков, 2006
ток – «блаженное царство весны» [Афанасьев, 1994]. Восток для христиан – сакральная сторона света, связанная со Спасителем: «…ибо мы видели звезду его на востоке» (Мтф. 2: 2). Православный иконографический символ зари соотнесен с Небесной Софией [Трубецкой, 1995]. Утренняя заря в русской романтической лирике отражает светозарную природу духовной субстанции: «Символ души, проснувшейся прекрасно…» (Н. М. Языков. «Василию Алексеевичу Елагину», 1831). В поэтической картине мира славянофилов и Ф. И. Тютчева Восток – предвестие рая, Царствия Небесного, воскресения и бессмертия.
В «Очерке» И. Аксакова метафорическим выражением пробуждающейся природы и человеческой души, просветленных горним светом, выступает женщина, портрет которой воплощает невыразимое духовное содержание и горний мир в земном образе:
Ее прекрасные и строгие черты, Немая музыка движенья… 1
Образная параллель зари и земной женщины сближает лирику И. Аксакова с поэзией Н. Языкова: «Красуется земля, восставшая от сна…» (Н. М. Языков. «Рассвет», 1830). Душа в произведении И. Аксакова благодаря мечтательной созерцательности, переносится в идеальную сферу личностного рая, золотого века, детства (подробнее см. [Жап-лова, 2004]), представленного, как и в лирике К. Аксакова, образным рядом усадебного мира, деревенской природы: «Ей вспомнились – деревня, лето…» Земной мир («роскошь зелени и золото полей») является проекцией небесного рая.
Субъект лирики И. Аксакова обращен к тем же проблемам, что и лирический субъект поэзии Ф. Тютчева. Лирическому субъекту И. Аксакова известны бездна, хаос и мгла микро- и макрокосма. Он, в отличие от лирического субъекта Ф. Тютчева, не стремится слиться с хаосом, стихиями, бездной смерти, а испытывает священный трепет перед ними. Для него даже возможность диалога с «темниной» предполагает разрушение неповторимой индивидуальности.
Если К. Аксаков в поэзии ищет слияния с природным миром, то лирический субъект
И. Аксакова нацелен на духовное самоуглубление, молчание, что мы видим в таких произведениях, как «Вопросом дерзким не пытай…» (1845), «В тихой комнате моей…» (1845), «Отрывок из ненаписанной поэмы» (1845), «Andante» (1846). Идеалом И. Аксакова становится «умное делание» («работа вечная в тиши»), оформление внутреннего космоса, противопоставленного духовной бездне. Данный уход в сферу внутреннего, духовного самосовершенствования характерен для русской интеллектуальной элиты 1840-х гг. Подобно своим современникам И. Аксаков стремится к полноте мирочувс-твования, к тому, чтобы отдельные чувства во внутреннем мире слагались в хор. Скептически относясь к разуму, логическим построениям, И. Аксаков в лирике утверждает доминирование интуитивно-целостной формы познания, ориентированной на раскрытие в земном мире откровений бессмертной, бесконечной жизни, ее «неистощимого значенья».
Идеал И. Аксакова близок мировоззрению И. В. Киреевского, который, не приемля ориентацию западной философии на «внешнюю связь понятий», открывает в восточной патристике «достижение полноты истины», «внутреннюю цельность разума» [Киреевский, 1911]. «Умное делание», нацеленное на синтез разума и веры, неизмеримо возвышает разум, утверждая его божественную природу. Конечной формой духовного самопознания, по И. Киреевскому, выступают внутренний покой, внутренняя «соборность» как единение чувств, переживаний и мыслей человеческих, как преодоление разрыва человека с природой и Богом.
Лирика И. Аксакова, как и поэзия А. С. Хомякова, характеризуется прямым дидактизмом. И. Аксаков, продолжая православно-национальные традиции, считает основными формами духовной мертвенности уныние, праздность и пассивность перед социальным и метафизическим злом («К портрету», 1846). Лирический субъект И. Аксакова воспринимает земную жизнь как страдание, подвиг (см. [Бродский, 1910]) и стоически принимает ее («Панову», 1846). Труд и испытания представлены в поэзии И. Аксакова как средство укрепления духа, как необходимое условие для обретения «мира» (покоя).
Обличение зла в лирике И. Аксакова восходит к библейским источникам и обращает его лирического субъекта к двум антитетичным ценностным выводам. Первый из них заключается в осознании тотальности зла в земном мире и в бессилии бессмертной души перед ним: «Царит бессмысленная Ложь!» («Пусть сгибнет все», 1849). Как и в «Пророке» М. Ю. Лермонтова, в данном произведении И. Аксакова акцентирована мысль о невостребованности слова и подвига миром, лежащим во зле.
Второй вывод заключается в утверждении веры в процессе обновления мира, его очищения и спасения: «Когда ж спасение нахлынет…» («Мы все страдаем и тоскуем…», 1846). В элегии И. Аксакова «На 1858 год» диалектически объединены оба данных мотива. Преддверие нового года метафорически соотносится с торжественным наступлением утра: возникает образный параллелизм просыпающейся ото сна природы и России после политической реакции. Весна для лирического субъекта есть свидетельство победы метафизического света, красоты жизни в ее естественном движении над мраком и смертью. Образной параллелью пробужденного мира выступает образ воскресшей души, которая освобождается от страданий, болезненных влияний ограниченного мира: «И не помнится о зле». Лирический субъект отстраняется от проявлений мелкого зла в собственной душе: «Ни вражды, ни мести нет». Лирического субъекта И. Аксакова характеризуют молитвенное благодарение, открытость миру, оптимистическое устремление в будущее: «Дню грядущему привет!» Уныние сменяется радостью, сопоставимой с духовным воскресением.
Молитвенное горение бессмертной души возникает в лирике И. Аксакова не только как духовная реакция на социальное и метафизическое зло; его лирический субъект часто стремится к диалогу с Творцом:
Пошли мне сил и помощь божью, Мой дух усталый воскреси… 2
«А. О. Смирновой» (1846).
Молитвенный контекст в лирике И. Аксакова расширяется, как и в поэзии А. Хомякова, до масштаба Вселенной, не теряя своей интимности («При кликах дерзостно-победных…», 1847). Молитва, просветляющая микро- и макрокосм, предельно диалектична и фокусирует в себе смысл человеческого бытия и земной истории как путь от «душевной битвы» к «благоуханной тишине», символизирующей сошествие «рая сладости» в душу человека.
Для поэта доминантой земного мироощущения бессмертной души выступает ее тоска («К тишине, к примиренью, к покою…», 1860). В лирике И. Аксакова, как и в поэзии А. Хомякова, К. Аксакова, проявлено имманентно заложенное в душу предвосхищение расставания с земным миром. В элегии «Странным чувством объята душа…» (1847) пороговое состояние позволяет открыть смысл и красоту земной жизни, ее «пестрой семьи». Душа стремится вместить в свою бессмертную сферу весь земной опыт.
Итак, И. Аксаков, воспринимая земную жизнь как подвиг и бой со злом, поэтизирует стоическое внутреннее молчание, активное неприятие любых проявлений зла. Для братьев Аксаковых в качестве нравственного ориентира выступает идеал соборности. И. Аксаков, преодолевая пессимистическое представление о невозможности полноценной реализации духовных интенций в мире, лежащем во зле, уповает на конечную победу евангельского идеала. Как и А. Хомяков, И. Киреевский, И. Аксаков исповедует идею духовной целостности. Вера в бессмертие души позволяет лирическому субъекту И. Аксакова обрести нравственную основу в борьбе со злом, с благодарением принять дар земной жизни.
Магистральные образы и мотивы лирики И. Аксакова органично продолжают христианскую традицию русской культуры.