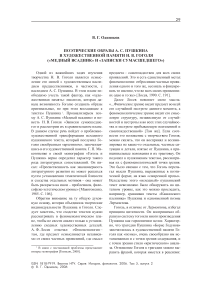Поэтические образы А. С. Пушкина в художественной памяти Н. В. Гоголя («Медный всадник» и «Записки сумасшедшего»)
Автор: Одиноков В.Г.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736748
IDR: 14736748
Текст статьи Поэтические образы А. С. Пушкина в художественной памяти Н. В. Гоголя («Медный всадник» и «Записки сумасшедшего»)
Одной из важнейших задач изучения творчества Н. В. Гоголя является осмысление его связей с художественным наследием предшественников, в частности, с наследием А. С. Пушкина. В этом плане необходимо учесть такой фактор, как «художественная память» писателя, которая давала возможность Гоголю создавать образы оригинальные, но при этом восходящие к текстам Пушкина 1. Проанализируем поэму А. С. Пушкина «Медный всадник» и повесть Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» и рассмотрим их в сравнительном плане. В данном случае речь пойдет о проблемнохудожественной трансформации исходного пушкинского текста, который послужил Гоголю своебразным «архетипом», запечатлевшись в его художественной памяти. Г. П. Ма-когоненко в своей монографии «Гоголь и Пушкин» верно определил характер такого рода литературных сопоставлений. Он писал: «Преемственность как закономерность литературного развития не может решаться путем установления тематической близости и сходства отдельных мотивов – она может быть раскрыта на ином – проблемном, философско-эстетическом уровне» [Макогоненко, 1985. С. 106].
Обратим внимание на ту общую духовную основу, которая объединяла творческие индивидуальности Пушкина и Гоголя. Следует заметить, что сходство текстов нужно рассматривать в феноменологическом плане, чтобы не свести анализ только к установлению сходных художественных деталей. А. Ф. Лосев отмечал: «Феноменология – там, где предмет осмысливается независимо от своих частных проявлений, где смысл предмета – самотождествен для всех своих проявлений. Это и есть единственный метод феноменологии: отбросивши частные проявления одного и того же, осознать и фиксировать то именно, что во всех своих проявлениях одно и то же» [Лосев, 1990. С. 191].
Далее Лосев поясняет свою мысль: «...Физическое зрение видит предмет во всей его случайной пестроте данного момента, а феноменологическое зрение видит его смысловую структуру, независимую от случайностей и пестроты и во всех этих случайностях и пестроте пребывающую неизменной и самотождественной» [Там же]. Если соотнести это положение с творчеством Гоголя, можно сказать, что он воспринял и ассимилировал не какие-то отдельные, частные ситуации и детали, взятые от Пушкина, а принципиальные положения и их трактовку. Он подошел к пушкинским текстам, рассматривая их с феноменологической точки зрения. Это было связано с тем, что Гоголь перелагал мысли Пушкина, выраженные в поэтической форме, на язык «смиренной прозы». Вследствие этого «исходный» пушкинский текст невозможно было обнаружить на цитатном уровне, как это можно проследить, например, сравнивая тексты «Кавказского пленника» Пушкина и одноименной поэмы Лермонтова.
Гоголь, в отличие от Лермонтова, избегал принципа цитатности. Он воспринимал образную систему того или иного произведения Пушкина как гармоничное целое. Характерно, что трагедия Пушкина «Борис Годунов» запечатлелась в художественной памяти Гоголя как «поэма», очень своеобразно им истолкованная и с точки зрения содержания, и с точки зрения стиля «критического» анализа. Отношение Гоголя к трагедии можно выразить фразой, которая имеется в рецензии:
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 2 © В. Г. Одиноков, 2006
«Ответная струна души гремит» [Гоголь, 1994. Т. 7. С. 67]. Следует заметить, что и образ «медного всадника» вызвал у Гоголя «ответный звук» души. Он в своем «отклике» не только взял за основу центральный «образ» поэмы «Медный всадник», но и модифицировал его в соответствии со своим творческим заданием. В письме к М. П. Погодину (от 11 января 1834 г.) он указывал на эту особенность своего творческого мышления. Отмечая выход в свет «Афоризмов» М. П. Погодина, Гоголь пишет: «Я люблю у тебя всегда читать их, потому что или найду в них такие мысли, которые верны и новы, или же найду такие, с которыми хоть и не соглашусь иногда, но они зато всегда наведут меня на другую новую мысль» [Там же. Т. 9. С. 66].
В художественной памяти Гоголя сохранился образ пушкинского «медного всадника», который явился импульсом к созданию оригинального сочинения «Записки сумасшедшего». Между Гоголем и Пушкиным в середине 1830-х гг. сложились очень тесные творческие и личные отношения. Г. П. Мако-гоненко обратил внимание на то, что «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и «Портрет» писались после знакомства Гоголя с «Пиковой дамой» и «Медным всадником» [Макогоненко, 1985. С. 105]. Исследователь подчеркнул, что Пушкин познакомил Гоголя с текстом «Медного всадника» зимой 1833–1834 гг. [Там же. С. 139]. А к 1835 г. уже были написаны «Записки сумасшедшего», появившиеся в составе сборника «Арабески», о выходе которого знал Пушкин, так как Гоголь в письме к нему от 7 октября 1835 г. сообщает без всяких комментариев как о вещах, Пушкину знакомых: «Мои ни “Арабески”, ни “Миргород” не идут совершенно» [Гоголь, 1994. Т. 9. С. 77]. В этом же письме Гоголь сообщил о написании трех глав «Мертвых душ», в которых была развита пушкинская тема России.
Таким образом, идейно-художественные искания Гоголя и Пушкина сошлись в общей точке. В связи с затронутой темой влияния образа «медного всадника» на замысел «Записок сумасшедшего» возникает вопрос: что конкретно в художественном материале Пушкина могло привлечь Гоголя и как это отразилось на художественной структуре его произведений? Гоголя в связи с его собственной «петербургской» темой мог привлечь заявленный Пушкиным специфический жанр произведения –
«петербургская повесть». Через жанровое определение произведения Пушкин акцентировал тему «маленького человека», типичного петербургского мелкого чиновника, образ которого был близок Гоголю.
У Пушкина Евгений «живет в Коломне, где-то служит». Гоголь своего героя Поп-рищина изображает, подобно Пушкину, как мелкого чиновника, который, надо полагать, живет не на Невском проспекте и служит в каком-то департаменте. Герой «Медного всадника» Евгений сходит с ума. Пушкин отметил лишь сам факт, не вникая в особенности психического процесса и не детализируя его. Гоголь же не только констатировал сумасшествие героя, но и сочинил дневник Поприщина. В этом дневнике зафиксированы этапы развития психической болезни, которой он придал глубокий социальный и философский смысл. Нужно отметить, что состояние безумия русские писатели трактовали в широком плане, что подтверждает и позиция Гоголя 2.
Г. П. Макогоненко в указанной выше монографии выделил тему «безумия» у Пушкина и Гоголя, связав ее с социальной и общественной проблематикой. Характерно, что Евгений бунтует не просто против того, «чьей волей роковой над морем город основался», а против «кумира»:
Вокруг подножия кумира Безумец бедный обошел.
В этом плане пушкинские стихи точно совпадали по идее с творческими замыслами Гоголя. Раскрытию процесса создания «кумира» была посвящена комедия «Ревизор». Г. А. Гуковский в книге «Реализм Гоголя» подчеркнул, что третий акт комедии – это наглядная картина формирования именно «кумира», сотворение которого по религиозным представлениям считалось величайшим грехом (Исх. 20, 4–5) 3. В комедии Бобчинский, подводя итог, скажет, что, очевидно, тому человеку, с которым он только что общался, «генерал-то… и в подметки не станет!» Образ «кумира» находит отклик и в «Записках сумасшедшего» в несколько модифицированном виде в фигуре «испанского короля», с которым идентифицировал себя Попри- щин. Может ли, впрочем, такое незначительное создание, как Поприщин, превратиться в «кумира»? С точки зрения Гоголя в абсурдном мире все может быть. Например, Нос в гоголевской повести не является частью лица героя, а превращается в «значительное лицо».
Поприщин создает «кумира» в себе самом. Этот процесс для Гоголя – явление не только социально-общественное, но и «метафизическое», поскольку «бесовское» начало явно присутствует в нем.
В «Записках…» чудовищно смещены временные и пространственные границы. Мир обретает фантасмагорические формы. Специфика гоголевского «хронотопа» состоит в том, что пространство и время теряют определенность. Территориальные границы оказываются размытыми: Россия, Испания, Англия, Франция, Германия в представлении Поприщина превращаются в некое единое пространство, существующее в неопределенном времени. В «Записках сумасшедшего» время фиксируется (в жанре дневника) совершенно конкретно. Но хронологические пометы у Гоголя такого рода, что указывают как бы на отсутствие всякой конкретики и намекают на переход в «вечность». Трудно сказать, где на шкале времени находится «43 апреля» или «чи 34 сло». Имеется даже следующая запись: «День был без числа». Характерен и такой словесный «синтез», как «мартобря», благодаря которому время «укрупняется» и лишается, по сути, хронологических границ. Поприщин одновременно находится в настоящем, конкретном времени и в «вечности» 4.
В данном случае изображаемая в повести повседневная жизнь обретает обобщенный и в какой-то степени метафизический смысл. Гоголь так организует художественный текст «Записок…», что он создает образ мира, пропитанного злом и управляемого «бесовской властью». Н. А. Бердяев писал: «Гоголя мучило, что Россия одержима духами зла и лжи, что она полна рож и харь и трудно в ней найти человека. Он видел метафизическую глубину зла, а не только социальное ее проявление… Он был подавлен тяжестью воспринимаемо- го им зла, он нигде не видел добра, не видел образа человека» [Бердяев, 1991].
«Записки сумасшедшего» наполнены разного рода указаниями на существование «бесовского» начала в мире. Оно обнаруживается уже в тех намеках, какие сделал Гоголь в системе хронологических помет, относящихся к отдельным записям Поприщина. Характерна в этом отношении игра с цифрами, обозначающими астрономические даты. Учитывая гоголевскую художественную фантазию, правомерно проанализировать наиболее знаменательные даты дневниковых записей Поприщина. Любопытна уже первая помета – «Октября 3». Принимая во внимание атмосферу «чертовщины» во всей повести, следует обратить особое внимание на эту запись и попытаться найти в ней цифровую символику.
Цифра 3 в сочетании с указанием месяца «октябрь» может быть истолкована как сумма, если учесть, что октябрь десятый месяц от начала года. В результате сложения этих двух цифр получается число 13, известное в народе как «чертова дюжина». Далее Гоголь неоднократно обыгрывает это число. Среди записей Поприщина имеется дата «Ноябрь, 13». Значение этой пометы не только в том, что, наконец, открытым текстом указано число 13, но и в названии месяца, который для Гоголя имел явно особое значение. Дело в том, что в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» месяц ноябрь был отмечен как начало бедствий главного героя Евгения: «Над омраченным Петроградом // Дышал ноябрь осенним хладом». Совпадения такого рода свидетельствуют о том, что Гоголь в сумбурных записях Поприщина зашифровал определенную информацию, которая осложняет смысловую партитуру «Записок…».
Обращает на себя внимание еще одна дата, которая характеризует героя как полного безумца: «Год 2000 апреля 43 числа». В этой записи число 2000 можно понимать как удвоение сакрального апокалиптического числа 1000. Тогда становится объяснимо и число 43, поскольку указан месяц «апрель». Следовательно, вновь речь идет о превышении на этот раз реального количества дней ровно на 13. Продолжая игру с этим числом, Гоголь в заключение придумывает «безумную» дату: «Чи 34 сло». После этого помещено нечто, совершенно не читаемое, а затем слово «февраль», перевернутое «вверх ногами», и число 349. Все эти манипуляции провоцируют читателя, если он пожелает, выявить в этой абракадабре некую «логику». Попытаемся сделать это и мы. Цифры 3 и 4 использованы в упомянутой ранее записи, только в другой последовательности. Там было «апреля 43 числа», а здесь в начале «безумной» даты указан иной порядок цифр, призывающий читателя обратить внимание именно на такую последовательность: «Чи 34 сло». Теперь становится понятным, что Гоголь акцентировал внимание на числе 34. Затем помещено слово «февраль» в перевернутом виде и число 349. Первые две цифры числа 34 уже зафиксированы ранее как неизменяемый блок, к ним присоединена цифра 9. Поскольку предшествующее слово перевернуто, возникает предположение, что Гоголь имел в виду необходимость применить подобную операцию к цифре 9, что превращает ее в цифру 6. В этом случае при сложении трех цифр 3, 4, 6 вновь получаем число 13.
Разумеется, нельзя придавать слишком серьезное значение всей этой игре с читателем. Главное здесь – определенная атмосфера, создаваемая таким приемом повествования, которое предполагает подбор зашифрованных смысловых знаков. Путь к их расшифровке Гоголь наметил сам в фантастической повести «Нос», в которой подобные цифровые манипуляции четко раскрыты автором-повествователем. Напомним, что дата исчезновения Носа «25 марта», а его возвращение отмечено датой «7 апреля». Если учесть, что в марте 31 день, то Нос отсутствовал 13 дней. Следовательно, это число было для Гоголя знаковым, выражающим характер фан-тасмогорической жизни современного ему Петербурга.
Следует отметить, что склонность писателя к такого рода цифровым манипуляциям восходит к некоторым специфическим явлениям в русской народной культуре, которые особенно ярко проявились в среде старообрядцев. Например, они утверждали, что в слове «император» скрыто апокалиптическое число 666, которое проясняет антихристову сущность правящего государя. Для доказательства они представили буквы слова в качестве соответствующих цифр, как это было принято в Древней Руси. Но в сумме они получили число 706. Тогда они нашли выход из положения, заявив, что мешающую им букву «м» (40) они исключают из слова «импе- ратор», поскольку в ней они усмотрели особую изощренность антихриста, скрывшего свою подлинную сущность. И при аргументации утверждения об уже состоявшемся воцарении в мире антихриста они использовали слово «иператор», исключив букву «м».
Если рассматривать авторский прием Гоголя в свете отмеченной нами культурной традиции, то можно заметить, что его «игра» с цифрами придавала повествованию особо мистический, ирреальный характер. В этом фантасмагорическом мире, который по авторскому замыслу является и безумным вымыслом героя, и вместе с тем объективной, жизненной реальностью, созревает у Поп-рищина мысль об идентификации собственной персоны и фигуры «испанского короля». В «Записках сумасшедшего» образ «испанского короля» выполняет ту же функцию, что и «горделивый истукан» в поэме Пушкина «Медный всадник». Различие заключается лишь в том, что Поприщин пытается сам выполнять роль такого «истукана» и встать над людьми, как это диктует ему его безумное сознание, которое так похоже на «разум» окружающего общества. Путаница понятий «разум» и «безумие», переход одного в другое имели для Гоголя принципиальный смысл. Религиозно-философскую основу такого рода противоречий можно увидеть в словах из Послания апостола Павла: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их» (I Кор. 3;18, 19). Становится очевидным, что Гоголь четко ассоциировал «разум» окружающего Попри-щина общества с «безумием» мира.
Прорисовывая перспективу духовного возрождения личности, Гоголь изображает процесс прояснения разума героя «Записок…», которое обнаруживается в последней записи. Характерно, что в этой заметке страдающего героя появляется мотив спасительной «птицы-тройки», обретающей характер лейтмотива в поэме Гоголя «Мертвые души». В этом плане мысль Гоголя также восходит к А. С. Пушкину, к созданным им образам «Медного всадника» и «гордого коня», устремленного в будущее («Куда ты скачешь, гордый конь, // И где опустишь ты копыта?»). Путь Петра, воплощенного в образе «Медного всадника», ориентирован на
Запад, в «прорубленное в Европу окно». Гоголь «перекодировал» исходный образ, добавив к «коню» двух пристяжных, образовавших «тройку». Она впервые появляется в последней записи Поприщина. Обратимся к тексту повести. Поприщин жалуется: «Нет, больше не имею сил терпеть». И вот тут появляется образ «тройки»: «Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света!» «Тройка» в этом случае выступает как знаковый образ, подобно образу «коня» в поэме «Медный всадник».
Кроме превращения образа «петровского коня» в «тройку», Гоголь попытался изменить и вектор ее движения, повернув ее на Восток. Маршрут движения «тройки» специально обыгрывается Гоголем. Используя принцип «остраненности», он через призму сознания Поприщина дискредитирует Запад. Характерно, что путь в Европу обозначен маркированными художественными деталями негативного характера. Это миражное «движение» нашло отражение в «испанской» части дневника Поприщина. Если попытаться привести его сумбурные записи в некий определенный порядок, то выстроится следующий маршрут: Петербург, где какой-то цирюльник с «Гороховой» намеревается обратить всех людей в магометанство; затем следует Германия, в которой «хромой бочар» из Гамбурга изготавливает очень плохую луну, рассыпающуюся от столкновения с землей; далее – Англия и Франция, которым дана предельно отрицательная характеристика; и наконец – Испания с ее жестокими порядками, сгубившими героя повести. Таким образом, Гоголь отметил бесперспективность движения на Запад и обратил внимание на перспективность устремления в восточном направлении, которое собирается использовать и Поприщин при своем бегстве из испанского плена. Возвращается Поприщин в своих мечтах не через упомянутые европейские страны, а через Италию, попадая, очевидно на юг России с ее «русскими избами».
Окончательный смысл движения на Восток проявится в «Мертвых душах», где будет пропет гимн России: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?» Образ «птицы-тройки», перенесенный в художественный мир «Мертвых душ», стал для Гоголя своеобразной эмблемой России. В поэме этот образ обрел мощную духовную ауру, поскольку движение вперед Гоголь мыслил как движение к Богу: «мчится вся вдохновенная Богом». Об этом он пытался сказать в своей поэме и ясно поведал в «Размышлениях о Божественной Литургии». Таким образом, пушкинская традиция нашла оригинальное осмысление у Гоголя и была продолжена Ф. М. Достоевским в его «Записках из подполья» 5 и великих романах, отразивших целый этап духовного развития России.