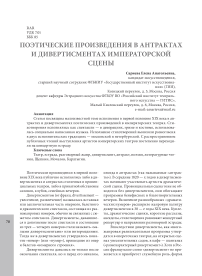Поэтические произведения в антрактах и дивертисментах императорской сцены
Автор: Сариева Елена Анатольевна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Искусство, образование, наука
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена малоизвестной теме исполнения в первой половине XIX века в антрактах и дивертисментах поэтических произведений в императорских театрах. Стихотворения исполнялись как спектакли - в декорациях, гриме и костюме, использовалась специально написанная музыка. Исполнение стихотворений выявляли разногласия в двух исполнительских традициях - московской и петербургской. С распространением публичных чтений выступления артистов императорских театров постепенно переходили на концертную эстраду.
Театр, эстрада, разговорный жанр, дивертисмент, антракт, поэзия, литературные чтения, щепкин, мочалов, каратыгин
Короткий адрес: https://sciup.org/170174191
IDR: 170174191 | УДК: 7.01
Текст научной статьи Поэтические произведения в антрактах и дивертисментах императорской сцены
Поэтические произведения в первой половине XIX века публично исполнялись либо в дивертисментах и антрактах столичных и провинциальных театров, либо в приватной обстановке салонов, клубов, семейных вечеров.
Дивертисментом (от франц. divertissement — увеселение, развлечение) называлась вставная или заключительная часть оперного, балетного и драматического спектакля, состоящая из разножанровых номеров, обычно не связанных с сюжетом спектакля. Дивертисменты, дававшиеся в дополнение после спектакля и состоявшие из трех — четырех номеров стали называть «малыми дивертисментами» или интермедиями. Тогда же в дивертисментах утвердилось понятие «номер» (или «нумер»), пришедшее из опер и балетов «номерного строения».
Дивертисменты давались не только после окончания спектакля, но и перед его началом, иногда в антрактах (так называемые «антракты»). В середине 1820 — х годов в дивертисментах начинают участвовать артисты драматической сцены. Провинциальная сцена тоже не обходится без дивертисментов, они обогащают программы бенефисных и благотворительных вечеров. Включение разнообразных «драматических нумеров» расширило жанровую палитру дивертисментов в 30 — е годы XIX века. Куплеты, драматические сценки, короткие рассказы, анекдоты, стихотворения развивают концертный репертуар в направлении разговорной эстрады.
Впоследствии дивертисменты, как многожанровая развлекательная программа утвердятся в опереточных театрах, на открытых сценах увеселительных садов, в кафе — шантанах («разнохарактерный дивертисмент»). Хотя в России французское слово «дивертисмент» не приживется и приобретет служебную роль, форма

Рис. 1. Баранов Н. В. Портрет М. С. Щепкина дивертисмента останется основной в практике дореволюционной и советской эстрады и появится другое название — эстрадный концерт.
Особое место в антрактах и дивертисментах заняли басни и стихотворения, которые исполнял будущий артист Малого театра М. С. Щепкин (1788–1863).
В своих «Литературных и театральных воспоминаниях» С. Т. Аксаков писал, что М. С. Щепкин «с большим искусством читал басни в стихах, взятые у Эзопа французскими и немецкими баснописцами и от них уже перешедшие в русскую литературу. Там были басни Хемни-цера, И. И. Дмитриева и Крылова…».1 Сразу после приглашения в московскую труппу Щепкин сыграл «водевиль из крыловских басен» «Демьянова уха, или Нечаянный сговор в Ямской слободе» П. Н. Арапова в театре на Моховой, а в 1824 году уже выступил в роли Эзопа в комедии кн. А. А. Шаховского «Притчи или Эзоп у Ксанфа», о чем упоминает С. Т. Аксаков. Естественно, что басни Крылова сразу вошли в репертуар антрактов и дивертисментов.
Петр И. Вейнберг (1831–1908), поэт и переводчик, убежден, что пьеса Шаховского была поставлена специально для Щепкина, чтобы он мог проявить свой «декламационный талант». П. Вейнберг ставил Щепкина — чтеца выше Щепкина — актера и признавался, что исполнение Щепкиным басен стало для него «сущим откровением в области декламации». В своих «Воспоминаниях» Вейнберг пишет: «…стоило Щепкину прочесть только одну «Ворону и лисицу», даже только две строчки из нее: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки!» — чтобы передо мною, в полном смысле этого слова, открылся в этом отношении совершенно новый мир. В неописанное изумление повергла меня резкая противоположность этой читки всему тому, что я слышал и чему меня учили до сих пор, противоположность, как в общем, то есть в тоне, манере, так и во всех частностях, например, в только что упомянутых двух стихах, которые Михаил Семенович произносил совсем не приторно — сладковато, как произносят их все даже хорошие чтецы, имея в виду предшествующие слова: «и говорит так сладко, чуть дыша», — а совсем особенным, каким — то отрывистым плутоватым тоном, в котором слышались и грубая лесть, и тайное, презрительное, насмешливое отношение к глупой вороне, и страх, что эта ложь может обнаружиться прежде, чем цель, в виде сыра, будет достигнута…».2 Видимо, Вейнберг был восхищен тем, что Щепкин не перевоплощался до конца в героев басни (ворону и лисицу), исполняя их диалог, а выступал именно как рассказчик, несущий для зрителя свое отношение и к персонажам, и к ситуации. Одно из основных достоинств читки Щепкина, которого он и впоследствии не раз слышал, Вейнберг видел в органическом соединении «игры» и «декламации».
Если исполнение басен Крылова современники еще называют «читкой», то исполнение стихов Пушкина только «декламацией». Первые опыты исполнения в дивертисментах поэзии Пушкина принадлежат представителю романтизма, артисту П. С. Мочалову (1800–1848).

Рис. 2. Неверов Н. В. «Мочалов среди почитателей»
«Он хаживал ко мне только рано по утрам, чтобы ни с кем у меня не встретиться, — вспоминал Аксаков. — Мы читали друг другу то Пушкина, то Баратынского, то Козлова, который ему почему — то особенно нравился».3 Это было в 1827 году, к тому времени Мочалов уже не раз исполнял Пушкина со сцены. В 1824 году на афише Малого театра сообщалось, что в дивертисменте будет представлена «молдавская песня» Пушкина «Гляжу как безумный на черную шаль» в исполнении Мочалова, где музыкальность пушкинского стиха усиливалась оркестровым сопровождением. Музыку написал А. Н. Верстовский и предназначил этот романс для исполнения солистом тенором Булаховым. Мочалов превратил романс в драматическую миниатюру, практически в моноспектакль. «Бледный молдаванин» Мочалов исполнял стихотворение сидя на восточном бутафорском диване, устремив взгляд на брошенную на край черную шаль. «Театрализованную картинку, условную отвлеченную мелодекламацию он силой чувства преображал в многозначный пушкинский образ, в лирический сюжет жизни, в испо- ведь»,4 — считает исследовательница творчества артиста Р. М. Беньяш. Это был самостоятельный эстрадный номер в «сборном» спектакле Малого театра, состоявшем из переводного водевиля «Наследницы», дивертисмента «Гулянье на Крестовском острове» и одноактной оперы Кавоса «Мнимый невидимка».
Таким образом, если артистам было не достаточно музыкального сопровождения, они прибегал к другим выразительным средствам. Исполнение стихотворений в декорациях и костюмах в середине XIX века считалось модным и очень нравилось публике, в отличие от передовых людей того времени, ратовавших за реализм художественного чтения. Подобное мо-чаловскому исполнение описывает в своих мемуарах актер Малого театра П. Рябов, ставший свидетелем исполнения «Черной шали» в антракте другим трагиком императорской сцены К. Н. Полтавцевым в свой бенефис: «Занавес поднят, декорация представляет зал, как будто Мавританский. На авансцене стоит оттоманка, мало похожая на настоящую, на ней полулежал трагик Полтавцев с печальным и мрачным ви-
4 Беньяш Р. М. Павел Мочалов. Л., 1976. С. 246.
дом, в костюме грека, в шитой феске с золотой кистью, рядом на табуретке лежит немного свесившись злополучная черная шаль. Ритурнель в оркестре, и… «Гляжу я безмолвно на черную шаль». И так далее, с чувством, толком и вычурной расстановкой. Мы ведь в то время были очень невзыскательны. С выходками подобного рода сильно приходилось бороться Щепкину (другие не вступались или, как П. М. Садовский, только посмеивался и, не стесняясь, громко твердил: «вот болваны-то!»)»5.
На одном из бенефисов Н. В. Репиной Мочалов исполнил также в сопровождении оркестра отрывок из поэмы Пушкина «Цыгане». В декабре 1829 года на торжественном собрании общества Любителей Русской Словесности Мочалов читал стихотворение С. П. Шевырева «Петроград» под аккомпанемент арфы (муз. А. Н. Вер-стовского)6. Исполняя стихотворения в то время, артисты не стремились превратить стихи в прозу, наоборот, подчеркивали ритмичность стиха. Такое «романсное» исполнение под музыку по жанру больше напоминало мелодекламацию. Не случайно некоторые стихотворные произведения попадали в популярные «песенники» как «слова с музыкой, к мелодекламации». Так, в сборнике — «Новейшем собрании романсов и песен «Жасмин и роза»», изданном в Москве в 1830 году, помещено стихотворение К. Ф. Рылеева, еще одного любимого Мочаловым поэта. Как утверждает Е. М. Кузнецов, незадолго до свой смерти Мочалов готовился читать «Песню про купца Калашникова» в сопровождении оркестра. Но эта задумка не осуществилась в виду цензурных преследований в 1840 — е годы поэзии Лермонтова. 7
В январе 1841 года поэзия начинает исполняться в дивертисментах столичных императорских театров. Ведущие артисты Александринско-го театра, супруги В. А. Каратыгин (1802–1853) и А. М. Каратыгина — Колосова (1802–1880) «облюбовали» поэзию модного в 1840 — х годах салонного поэта И. П. Мятлева.
В январе 1841 года по просьбе самого поэта В. А. Каратыгин исполнил в костюме «итальян-
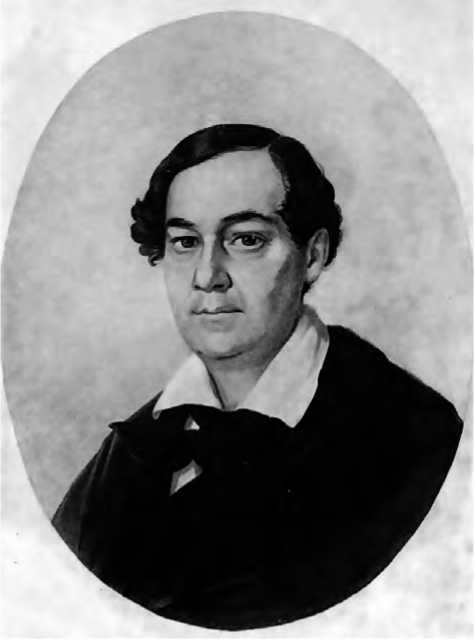
Рис. 3. В. А. Каратыгин. Акварель неизвестного художника. 1830-е гг.
ского лаццароне» «Тарантеллу» Мятлева в театрализованной обстановке, превратив небольшое стихотворение в моноспектакль. На фоне декораций, изображавших море в лунную ночь, под музыку М. И. Глинки нищий поэт, в исполнении Каратыгина, философствовал о бренности земного существования, о жизненной суете, о прекрасном небе, где «обширнее полет». После каждой строфы два хора (слева и справа) начинали петь, а танцовщики кордебалета исполняли неаполитанскую тарантеллу. Все действо, по сообщению «Северной пчелы», длилось три четверти часа. Газета находила «идею этой сцены прекрасной», но музыку «однообразной и утомительной». По свидетельству рецензента, музыка была настолько «вялой», что танцоры, певцы и певицы дремали до тех пор, пока «снова Каратыгин не разбудит их своим серебристым голосом»8. К сожалению, нет описания самой декламации Каратыгина.

Рис. 4. Жозеф-Дезире Кур. Портрет Александры Михайловны Колосовой-Каратыгиной зить всех тонкостей этого остроумного рассказа с лучшим вкусом, с большею понятливостью, с более благородным тоном, нежели как выразила все это знаменитая артистка»9.
В 1850 году в зале Дворянского собрания был дан концерт в пользу Елизаветинского детского приюта, где Каратыгин читал вступительную часть поэмы «Медный всадник» «с величайшим эффектом»10, как вспоминает А. М. Каратыгина — Колосова. Характер этого чтения подробно и с иронией описывает этнограф С. В. Максимов. Позволю себе привести описание с некоторыми сокращениями: «Трагик стоит перед нами в монументальной позе статуи командора: наклонил свою красивую, курчавую голову и сложил руки классически…Когда раздались первые звуки его голоса, оказалось, что он действительно воот-чию вознамерился собою изображать Великого Петра в тот момент, когда «на берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн». Стоял наш чтец задумчиво, неподвижно и вдруг неожиданно воскликнул, приподнял голову, надвинул брови, взмахнул правой рукой и показал как глядел Петр вдаль…Вот он, прославленный трагик, перейдя на высокие ноты, загремел, когда пошла речь о том, что «отсель грозить мы будем шведу»… Следом за тем, и также нимало не медля, движением ног объяснено было нам, насколько твердою пятою встанем у моря и запируем на просторе. Веселой улыбкою, быстро сложившеюся на лице, и как бы хвастливо настроенными мотивами в голосе, чтец, по-видимому, имел намерение показать слегка, как бы могли пировать с Петром его птенцы на ассамблеях… Еще один момент, — и снова обе руки быстро сложились на груди крестом, потому что проходят те сто лет, в течение которых в темных лесах, на болотных топях горделиво вырастал пышный город. Мы глазом не успели мигнуть, как снова приподнята была голова, раскинуты обе руки и на мужественное и строгое лицо была приглашена торжествующая, самодовольная и сладкая улыбка спокойного наслаждения, — должно быть, видом юного града, «полнощных стран красы и дива». Слово «пышно» вылетело из уст, подобно колечку дыма, какие пускают умелые курильщики, а слово «горделиво» было сказано с головой, откинутой слегка назад, и густой октавой…Стих, начинающийся словами: «Где прежде финский рыболов», чтец неожиданно рубил отчаянной скороговоркой… На самом последнем стихе он, однако, и сам стих вдруг, неожиданно и круто и пустил его на глухой октаве, так как, очевидно, желал показать, что суда находятся в тихой и надежной пристани, где очень удобно и спокойно стоять на якоре… В своем месте, дальше, предъявлено было, как мосты повисли над водами (правая рука показала их горбатыми, как рисуются они на картинках китайских садов) и как темно-зелеными садами покрылись острова в гранит одетой Невы; при чем красноречивая правая рука шевелилась таким медленным образом, точно успокоившийся чтец гладил в это время жирного кота вдоль спины. И опять руки сложены крестом на груди, и опять потуплены глаза и наклонена голова, даже на этот раз гораздо ниже, чем прежде… самодовольный чтец уже прямо дошел до пения. «Красуйся, град Петров, и стой» — расчленил он по слогами провел их последовательно по нотной азбуке, от верхнего до нижнего, а последние два слова: «неколебимо, как Россия», сверх всего в довершение всех эффектов, с особенным рокотом. Звуки замерли в октавных тонах ровно перед тем, как уже оставалось только раскланяться».
Максимов напоминает, что Каратыгин совершенствовался в декламации у П. А. Катенина, «ловко владевшего французскою манерою читать нараспев» и задавался вопросом: «что это такое: дурное ли домашнее воспитание или негодная французская манера, противная русскому вкусу?» 11.
Сарказм в воспоминаниях Максимова понятен. Член молодой редакции «Москвитянина», друг И. Ф. Горбунова и А. Н. Островского, поклонник Малого театра и сценического реализма Прова Садовского не мог воспринимать чтение Каратыгина иначе. Каратыгин в 1840 — е годы был прямым наследником форм и традиций прошлого русского театра и олицетворял собою на сцене отживший тип представителя классицизма. Для Максимова, представителя нового поколения и поклонника нового периода в театральном искусстве, воззрения того времени на условия и требования сцены разительно отличались.
Тем не менее, даже если судить по этому фрагменту, чтение Каратыгина выделялось за- метным разнообразием. Как свидетельствует Максимов, в зависимости от текста, артист менял голос, силу и высоту звучания. Жесты подчеркивали слова в стихах, а все мизансцены и передвижения служили воплощению общего замысла Каратыгина — еще раз сыграть Петра I, уже на эстраде. Этому замыслу служил и грим, который произвел особенное впечатление на И. С. Тургенева: «Как сейчас помню его появление в роли чтеца «Медного всадника», — во фраке и белом галстуке. Зачем он себе петровские прямые усы вывел при этом костюме — право не знаю. Это было так смешно!» 12.
Каратыгин, по словам С. Т. Аксакова был сотворен исполнять роли царей. Но в николаевскую эпоху цензура запрещала выводить на сцену венценосных особ династии Романовых. Во многих пьесах они присутствовали незримо. Их восхваляли, о них вспоминали и даже показывали под другими именами. Такие пьесы создавали Н. А. Полевой, Н. В. Кукольник, В. Р. и Р. М. Зотовы и др.
В 1838 году в бенефис В. Асенковой в первый раз дана была пьеса Н. А. Полевого «Дедушка русского флота», в которой Каратыгин «взял маленькую эпизодическую роль Лефорта и в ней костюмом и наружностью удивительно напоминал Петра Великого»13. Потом в Александринском театре шла драма Кукольника в стихах «Денщик», где Каратыгин гримировался Петром I, хотя играл денщика Петра, а не самого императора. Успех довольно средней пьесе придавали действительно с подъемом и энергией исполняемые монологи денщика — Каратыгина, в которых превозносились петровские реформы.
Вступительная часть поэмы «Медный всадник» рисует величественный образ Петербурга, построенного на топях, вопреки стихиям и здравому смыслу. Известно, что Николай I считал себя похожим на Петра, ратовал за укрепление государственной власти. Не случайно, заключительная часть поэмы, где Пушкин предлагает моральный выбор между имперскою целесообразностью и жизнью человека, не прошла николаевскую цензуру. Гримируясь «под Петра» 75 Каратыгин в очередной раз проявил вернопод-
-
12 Садовников Д. Н. Встречи с И. С. Тургеневым//Рус-ское прошлое. Пг., 1923. Кн. 3. С. 106.
-
13 Каратыгина А. М. Воспоминания Александры Михайловны Каратыгиной. 1802 – 1880//Русский вестник. 1881. № 4. С. 596.
даннические чувства и подчеркнул солидарность с Николаем в оценке петровских деяний.
Интересно, что 8 января 1847 году в бенефис М. С. Щепкина в Большом театре Мочалов тоже исполнил «Медного всадника». Интермедия «Артисты между собою», была повторена в Малом театре 14 января. Об этом сообщил в своем письме директору императорских театров А. М. Гедеонову Верстовский: «В интермедии Мочалов прочел пушкинского «Медного всадника», которого бенефисная публика, кажется, не поняла»14. Мочалов всегда читал с большим поэтическим чувством. Голос Мочалова, по отзывам современников, производил сильнейшее впечатление. Нежный и сильный, мягкий и звучный, проникал в душу слушателям и способен был передавать все оттенки человеческих страстей.
К сожалению, не осталось никаких печатных свидетельств исполнения Мочаловым «Медного всадника». Это тем более удивительно, что современники вели длительный и, надо признать, бесплодный спор о том, кто выше — Мочалов или Каратыгин. Это был спор не только индивидуальных эмоциональных ощущений. Это был спор двух столиц — Москвы и Петербурга. При этом Москва радушно принимала Каратыгина во время его гастролей, а Петербург относился к Мочалову с нескрываемой враждебностью.
Однажды, в этот спор включился даже Щепкин. Разговор, происходивший на квартире П. В. Нащокина, близкого друга Пушкина, описывает в своих «Театральных воспоминаниях» режиссер Н. И. Куликов: «Особенно кипятился М. С. Щепкин, который, услышав похвалу по адресу Каратыгина, вскочил с места, стал бегать по кабинету и, наконец, торжественно, как неопровержимую истину, сказал: — У Мочалова теплота, жар, искра, искра божия! Понимаете, искра божия!
Нащокин полушутя заметил:
— Насчет искры, не спорю, согласен… Но согласитесь и вы, почтенный Михаил Семенович: ведь бывало и то, что, когда у Мочалова искра эта или потухает или скрывается под пеплом,…а Василий Андреевич всегда одинаков, как изучил роль, как исполнял ее в первое представление, так и не отступает ни на шаг от выработанного типа.
— Вот и выходит, что ваш Каратыгин — мун-дирский Санкт-Петербург, затянутый, застегнутый на все пуговицы и выступающий на сцену, как на парад… — захохотал довольным таким сравнением Щепкин, обнимая Нащокина» 15.
Исполнение стихотворений выявляли разногласия в двух исполнительских традициях — московской и петербургской, в том числе вокруг исполнения Щепкина. Провинциальная публика, где долгое время сохранялась декламационная манера, близкая к чтению Каратыгина, не привыкла к такому исполнению. После выступления Щепкина в Казани, критик писал: «Щепкин, сведя сценическое искусство с классических ходуль, до того все упростил, что и в чтении обыкновенных стихов отрицает всякое мерное ударение, всякое соблюдение гармонии и рифмы»16. Щепкин, ратовавший за правду и реализм на сцене, в том числе при исполнении поэтических произведений, умел соблюдать баланс между музыкальностью стиха и правдивостью образа. Этому есть множество свидетельств современников.
В частых поездках по провинции артист исполнял стихотворения Пушкина или со сцены, или в узком кругу просвещенных представителей местного общества. Щепкин был лично знаком с Пушкиным, знал наизусть множество его стихотворений. Особенно любил он «Во глубине сибирских руд…», стихотворение, запрещенное цензурой, так что Щепкину редко удавалось читать его в широкой аудитории. А. А. Стахович рассказывал: «Сидит, задумавшись, Щепкин и тихо начинает произносить: «Во глубине сибирских руд…» И не иначе, как со слезами, кончит: «Как в ваши каторжные норы/Доходит мой свободный глас…»» 17.
Стихотворения с напряженной фабулой и баллады становятся особенно востребованными в концертной практике. Публичные чтения авторов — писателей и актеров — чтецов устраивались во время поста, когда спектакли были запрещены в императорских и провинциальных театрах. Началом таких публичных чтений исследователи условно считают 1843 год, к которому относится известное письмо Гоголя «Чтение русских поэтов перед публикою» и где Гоголь отмечает возникший к «публичным чтениям» интерес.
Из пушкинского репертуара Щепкина мемуаристы часто называют «Полководца», «Полтаву» и «Клеветникам России». «Московские ведомости» сообщали в 1854 году, что М. С. Щепкин «в зале Благородного собрания на утреннем балу в пользу Попечительства о бедных читал три главы из «Тараса Бульбы» и стихотворение Пушкина — ‘«Клеветникам России»’» 18. И. Ф. Горбунов в своих мемуарах вспоминает вечер в 1857 году у московского генерал — губернатора графа А. А. Закревского: «М. С. с чувством и воодушевлением прочел стихи Пушкина «Полководец»’ и произвел на участников 12 — го года сильное впечатление. Старый комендант Стааль просле-зился…»19. На литературных чтениях в Купеческом клубе в 1857 году Щепкин читал «Полтаву».
Желание Щепкина познакомиться с Тарасом Шевченко возникло сразу же, как только увидел поэтический сборник «Кобзарь», вышедший в 1840 году. Из этого сборника Щепкин взял в свой репертуар стихотворение «Думы мои, думы…». Встреча произошла в 1843 году и Шевченко, восторгавшийся русскими и украинскими образами Щепкина, написал для него стихотворение «Зачаруй меня волшебник», которое Щепкин назвал «Пустка». Стихотворение, где автор сравнивает себя с опустелой хатою, Щепкин читал «с задушевным чувством» и очень любил.
Таким образом, выступление артистов с поэтическими произведениями в дивертисментах носили, как правило, театрализованный характер, когда актеры предпочитали проигрывать стихотворение «в образе», зачастую используя и костюм, и грим. О актерах — чтецах прошлого и их исполнительских предпочтениях вспоминал артист Вл. Лихачов на страницах журнала «Театр и искусство»: «Прежний актер — чтец никак не мог (да и нынешний зачастую не может) отрешиться от сценических пут, — вообразить себя не на сцене, а на эстраде, не в костюме и гриме, а во фраке и прочих эстрадных принадлежностях»20. Искусство чтения в первой половине XIX века не мыс- лилось вне театра, когда дело касалось не только прозы (монологов), но и поэзии. Без костюма и грима монологи и стихи исполнялись только в интимной обстановке среди приятелей и знакомых. С распространением публичных чтений выступления артистов императорских театров постепенно переходили на концертную эстраду.
Список литературы Поэтические произведения в антрактах и дивертисментах императорской сцены
- А. Ж. Московские гости в Казани. Щепкин// Москвитянин. 1841. № 8. С. 548.
- Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 4 — х тт. М., 1955 - 1956. Т. 3. С. 111.
- Беньяш Р. М. Павел Мочалов. Л., 1976. С. 246.
- Вейнберг П. Из моих театральных воспоминаний/Ежегодник Императорских театров. Сезон 1894 - 1895. Приложения. Кн. 1. СПб., 1895. С. 74 - 77.
- Гриц Т. С. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М.: Наука, 1966. С. 107, С. 536,
- Горбунов и. Ф.. Полн. собр. соч. в 3-х томах. СПб.: А. Ф. Маркс, 1904. Т. 2. С. 395.
- Каратыгина А. М. Воспоминания Александры Михайловны Каратыгиной 1802 - 1880// Русский вестник. 1881. № 5. С. 124, С. 596.
- Кузнецов Е. М. Из прошлого русской эстрады. Исторические очерки. М.: Искусство, 1958. С. 92.
- Куликов Н. И. Театральные воспоминания// Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2-х томах. Т. 2. М: Искусство, 1984. С. 389.
- Ласкина М. Н. П. С. Мочалов: Летопись жизни и творчества. М.: Языки русской культуры. 2000. С. 158, С. 474.
- Вл. Лихачов. Из театральных воспоминаний// Театр и искусство. 1908. №51. С. 915.
- Максимов С. В. Из давних воспоминаний// Сочинения И. Ф. Горбунова. Том III. Ч. 1 - 4. СПб.: А. Ф. Маркс, 1907. 593. С. 151 - 154.
- Р. П. [Рябов]. Записки старого актера//Русская старина. СПб., 1905. Год XXXVI. Февраль. С. 388.
- Садовников Д. Н. Встречи с И. С. Тургене-вым//Русское прошлое. Пг., 1923. Кн. 3. С. 106.
- Смесь//Сын Отечества. 1841. № 4. С. 67. Стахович А. А. Клочки воспоминаний. М., 1904. С. 55.
- Ф. Б. Александринский театр//Северная пчела. 1841. № 23. 29 января. С. 90.