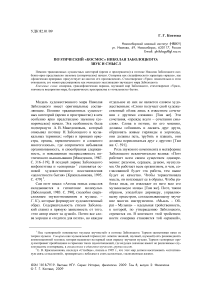Поэтический «космос» Николая Заболоцкого: звук и смысл
Автор: Коптева Галина Геннадьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Помимо традиционных сущностных категорий (время и пространство) в поэтике Николая Заболоцкого особенно ярко представлено звуковое (сонорическое) начало. Сонорика как специфического характера «краска», как «фоническая приправа» присутствует во многих его произведениях. Стихотворение «Урал» показательно в этом отношении, его можно рассматривать как очевидную экспликацию звучащего мира Заболоцкого.
Сонорика, грандофоническая окраска, звучащий мир заболоцкого, стихотворение "урал", эпичность восприятия мира, безграничность пространства и "тотальность" бытия
Короткий адрес: https://sciup.org/14737050
IDR: 14737050 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Поэтический «космос» Николая Заболоцкого: звук и смысл
Модель художественного мира Николая Заболоцкого имеет оригинальные составляющие. Помимо традиционных сущностных категорий (время и пространство) в нем особенно ярко представлено звуковое (со-норическое) начало. Эта особенность была подчеркнута А. В. Македоновым, который описывал поэтику Н. Заболоцкого в музыкальных терминах: «образ и принцип оркестра, органа, гармонического и сложного многоголосья», где сопрягается небывалая организованность, и своеобразная сдержанность, и повышенная экспрессивность поэтического высказывания [Македонов, 1987. С. 316–319]. В поздней лирике Заболоцкого мифопоэтика и «сонорика» 1 становятся основой художественного восстановления «целостности бытия» [Красильникова, 1995. С. 479] 2.
Сам поэт писал: «Атомы новых смыслов складываются в гигантские молекулы» [Заболоцкий, 1983. С. 590], (подобно сверхсложным звукоотношениям в музыке. – Г. К.), которые формируют художественный образ. Содержательность стихов Заболоцкий ставил в прямую зависимость от того, «что автор имеет за душой». Почти все слова хороши и «годятся для поэта», но каждое отдельное из них не является словом художественным: «Слово получает свой художественный облик лишь в известном сочетании с другими словами» [Там же]. Эти сочетания, «прежде всего – сочетания смыслов». Слова в поэзии, по его мнению, должны «обнимать и ласкать друг друга, образовать живые гирлянды и хороводы, они должны петь, трубить и плакать, они должны перекликаться друг с другом» [Там же. С. 591].
Роль звукового компонента в метафорике Заболоцкого исключительно велика: «Поэт работает всем своим существом одновременно: разумом, сердцем, душою, мускулами. Он работает всем организмом, и чем, согласованней будет эта работа, тем выше будет ее качество. Чтобы торжествовала мысль, он воплощает ее в образы. Чтобы работал язык, он извлекает из него всю его музыкальную мощь» [Там же]. Поэт, таким образом, уподоблен дирижеру, управляющему оркестром, согласовывающему звучание многих инструментов. «Мысль – Образ – Музыка» – идеальная тройственность, к которой, по утверждению Заболоцкого, стремится он. В контексте этой тройственности сонорика становится той «краской», той «приправой», которая неотъемлемо присутствует в его поэзии, где, как уже сказано, слова «поют, трубят и плачут, и громко перекликаются» друг с другом. Звуковая окраска, укрупняя образы, усиливает эффект эпичности, и специфический способ конструирования универсума осуществляется через индивидуальную систему Заболоцкого.
Все эти особенности функционируют в стихотворении «Урал». При первой публикации в сборнике 1948 г. оно имело подзаголовок «Отрывок из поэмы», как фрагмент задуманного автором цикла о Лодейникове. В первоначальном замысле («Лодейников», 1932 г.) этот герой ассоциировался с поэтом Н. М. Олейниковым (1898–1942). В стихотворении интроспективно присутствует тема труда человека – покорителя природы, характерная для произведений Заболоцкого 1946–1947 гг. («Город в степи», «Творцы дорог», «Храмгэс» и др.). Однако лейтмотивной является в нем проблема духовного возрождения человека – на фоне огромного, лишенного делимитаторов, наполненного музыкой зимнего пейзажа:
Зима. Огромная, просторная зима.
Деревьев громкий треск звучит, как канонада.
Глубокий мрак ночей выводит терема Сверкающих снегов над выступами сада. В одежде кристаллической своей
Стоят деревья. Темные вороны,
Сшибая снег с опущенных ветвей, Шарахаются, немощны и сонны.
В оттенках грифеля клубится ворох туч, И звезды, пробиваясь посредине, Свой синеватый движущийся луч Едва влачат по ледяной пустыне.
В первой строфе застывшая картина природы оживает благодаря звуковому акценту. Более того, звук дорастает до гротескного звучания (треск, как канонада) и может быть интерпретирован как проявление универсального природного ритма. Детали картины ночи (деревья, темные сонные вороны, сшибающие снег с опущенных ветвей, терема сверкающих снегов) представлены в динамике, и само это движение создает своеобразную звуковую картину:
Но лишь заря прорежет небосклон
И встанет солнце, как, подобно чуду,
Свет тысячи огней возникнет отовсюду, Частицами снегов в пространство отражен.
И девственный пожар январского огня Вдруг упадет на школьный палисадник, И хоры петухов сведут с ума курятник, И зимний день всплывет, ликуя и звеня.
Во второй строфе описан восход солнца, который автор возводит в ранг «чудесного» явления в пространстве: «свет тысячи огней», возникающий как будто из самого пространства («отовсюду»), визуально умножается их многократным отражением «частицами снегов». Эффект умножения оптических световых явлений подчеркнут со-норическими «красками»: зимний день «всплывает» – «ликуя и звеня»:
В такое утро русский человек,
Какое б с ним ни приключилось горе, Не может тосковать. Когда на косогоре Вдруг заскрипел под валенками снег И большеглазых розовых детей Опять мелькнули радостные лица, – Лариса поняла: довольно ей томиться, Довольно мучится. Пора очнуться ей!
Многоплановость зрительных и слуховых ощущений читателя, спровоцированных поэтом, способствует переключению на лирический объект. Духовное возрождение героини оказывается возможным на фоне звонкого многоголосья этого январского ликующего утра. С появлением радостных лиц «большеглазых розовых детей» происходит ее постепенное пробуждение от томительного сна душевных мук. Путь Ларисы – лирической героини стихотворений «Ло-дейников» и «Урал» – от ее ночного грехопадения с Лодейниковым к нравственному возрождению в исследуемом отрывке имеет инициационную, мифопоэтическую природу, имплицитно усиленную, вероятно, тем фактом, что поэма о Лодейникове, героиня которой фигурирует в качестве медиатора в обоих отрывках, так и осталась лишь творческим замыслом автора.
Функция звукового компонента здесь – способствовать и оттенить духовное возрождение Ларисы. В стихотворении «Урал» сонорика заливает своим эпическим светом безгранично огромное зимнее пространство и акцентирует, таким образом, момент восстановления души после «смерти». Лексема
«чудо», композиционно обрамляющая начальные и заключительные строки «Урала», подчеркивает мифопоэтику и обнажает конструктивный принцип отрывка: взаимона-ложение метафор утреннего пробуждения природы и чудесного исцеления души героини:
В тот день она рассказывала детям
О нашей родине. И в глубину времен, К прошедшим навсегда тысячелетьям Был взор ее духовный устремлен.
И дети видели, как в глубине веков, Образовавшись в огненном металле, Платформы двух земных материков Средь раскаленных лав затвердевали.
В огне и буре плавала Сибирь,
Европа двигала свое большое тело, И солнце, как огромный нетопырь, Сквозь желтый пар таинственно глядело. И вдруг, подобно льдинам в ледоход, Материки столкнулись. В небосвод Метнулся камень, образуя скалы;
Расплавы звонких руд вонзились в интервалы
И трещины пород; подземные пары, Как змеи, извиваясь меж камнями, Пустоты скал наполнили огнями Чудесных самоцветов. Все дары Блистательной таблицы элементов Здесь улеглись для наших инструментов И затвердели. Так возник Урал.
С музыкой внешнего пробуждения природы очевидно соотносится музыка духовного выздоровления героини, и двойной об-разно-симво-лический ряд сопрягается в сюжете с эпически направленным «в глубину времен» рассказом Ларисы об истории возникновения и развития Урала. Этот рассказ, построенный по принципу антитезы, в котором прошедшие тысячелетья противопоставлены сегодняшней «невиданной» жизни, пронизан мотивом неугасимого прометеева огня и эмоционально усиливается поэтическим «многозвучьем»: «В огне и буре плавала Сибирь», «подобно льдинам в ледоход, материки столкнулись», «расплавы звонких руд вонзились в интервалы и трещины пород», «подземные пары... пустоты скал наполнили огнями чудесных самоцветов».
Урал, седой Урал! Когда в былые годы
Шумел строительства первоначальный вал,
Кто, покоритель скал и властелин природы,
Короной черных домн тебя короновал?
Когда магнитогорские мартены
Впервые выбросили свой стальной поток,
Кто отворил твои безжизненные стены, Кто за собой сердца людей увлек
В кипучий мир бессмертных пятилеток?
Значительное место в этой хронотопически масштабной зарисовке отведено гимну в честь «полного сил» народа, властелина природы, трудящегося «в громах подземной канонады», короновавшего Урал «короной черных домн» и отворившего его «безжизненные стены». Однако это одическое славословье «подано» не в стиле « наивного реализма» эпохи «социалистического строительства», но где-то вопреки - совсем «по-заболоцки». И вновь усилено «музыкальным» акцентом:
Когда бы из могил восстал наш бедный предок
И посмотрел вокруг, чтоб целая страна Вдруг сделалась ему со всех сторон видна, -
Как изумился б он! Из черных недр
Урала,
Где царствуют топаз и турмалин,
Пред ним бы жизнь невиданная встала, Наполненная пением машин.
Он увидал бы мощные громады Магнитных скал, сползающих с высот, Он увидал бы полный сил народ, Трудящийся в громах подземной канонады, И землю он свою познал бы в первый раз...
В лирическом пространстве стихотворения эксплицитно реализуется мифологема огня как источника жизни, и эта идея подчеркивается в конце словами лирического героя:
Не отрывая от Ларисы глаз,
Весь класс молчал, как бы завороженный.
Лариса чувствовала: огонек, зажженный Ее словами, будет вечно жить
В сердцах детей. И совершилось чудо:
Воспоминаний горестная груда
Вдруг перестала сердце ей томить.
Что сердце? Сердце – воск. Когда ему блеснет
Огонь сочувственный, огонь родного края,
Растопится оно и, медленно сгорая, Навстречу жизни радостно плывет.
Сонорика как «фоническая приправа» присутствует во многих произведениях поэта. Его мифопоэтическое пространство – это весь окружающий огромный поющий мир: «Мир / Во всей его живой архитектуре – / Орган поющий, море труб, клавир, / Не умирающий ни в радости, ни в буре» [Заболоцкий, 1983. Т. 1. С. 191]. Этот принцип поэзии Заболоцкого четко продекларирован в стихотворении «Бетховен». Слово-мысль демиурга здесь сливается с музыкой сфер, перевоплощается в музыку:
И пред лицом пространства мирового Такую мысль вложил ты в этот крик, Что слово с воплем вырвалось из слова И стало музыкой, венчая львиный лик.
И сквозь покой пространства мирового До самых звезд прошел девятый вал… Откройся, мысль! Стань музыкою, слово, Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!
[Там же. С. 198]
Поэт умеет вслушиваться в окружающий мир, слышать его звучание, «музыку», напряженно пытается постичь его смысл: «Я, как древний Коперник, разрушил Пифагорово пенье светил, и в основе его обнаружил только лепет и музыку крыл» [Там же. С. 234].
Эпически-всеохватывающее, грандиозномасштабное мировосприятие поэта в очень многих его произведениях подчеркнуто усиливается, укрупняется сонорическим элементом («Горийская симфония», «Сагура-мо», «Уступи мне, скворец, уголок», «Храмгэс», «Над морем» и т. д.) Так, в стихотворении «Творцы дорог» – «вся сопка дышит, звуками полна, / и тварь земная музыкальной бурей / до глубины души потрясена. / И засыпая в первобытных норах, / Твердит она уже который век / Созвучья тех мелодий…». В «Прощании» – «природа сомкнулась рядами и тихо рыдала и пела», оформляя картину похорон и оттеняя траурный марш и колоннаду огромных, стоящих на страже дубов. Наконец, в уже упомянутом стихотворении «Лодейников» – элемен- ты разрозненного мира слились в «один согласный хор, / Как будто пробуя лесные инструменты, / Вступал в природу новый дирижер. / Органам скал давал он вид забоев, / Оркестрам рек – железный бег турбин…»
Художественный мир Заболоцкого гран-дофоничен: «атомы новых смыслов», складываясь в «гигантские молекулы», окрашивают этот мир эпическими смыслами; они наполняют его звуками эпически-громкими, сопоставимыми по своей мощности с такими природно-фено-менологическими и культурологическими формами, как океанический девятый вал, «таинственный орган» ночного сада, разнокачественный по структуре огромный хор либо оркестр, звериный рык, яростное пение птиц, клокотание земных недр, человеческий (или нечеловеческий) крик (хохот), шумное падение потока, грохотание грома, звучание разнообразных музыкальных инструментов и т. п. Вот характерные примеры: «И вкруг него ликуют птичьи хоры, звенит домра и плещет ток воды»; «Акустика вверху настроила ловушек, приблизила к ушам далекий ропот струй. И стал здесь грохот бурь подобен грому пушек…»; «И вот уже плачем и визгом наполнен небесный зенит»; «Стояли камфарные лавры и в бледные трубы трубили, и в медные били литавры»; «И, играя громами, в белом облаке катится слово…». Даже огромный безмолвный простор сибирских полей наполняется у поэта торжественным пением пурги (стихотворение «Тбилисские ночи»). Звук подчеркивает-дополняет безграничность пространства и эпическую все-охватность жизни в его мифопоэтике.
Эпическая форма исходит из приятия бытия, его универсальности, его постоянного и вечного ритма. У Николая Заболоцкого оно дополняется сонорикой и предстает в звучащей поэтической форме.
NIKOLAY ZABOLOTSKY’S POETIC «SPACE»: A SOUND AND SENSE