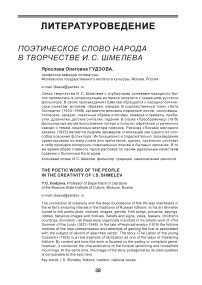Поэтическое слово народа в творчестве И.С. Шмелева
Автор: Гудзова Ярослава Олеговна
Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 (30), 2018 года.
Бесплатный доступ
Связь творчества И.С. Шмелева с глубинными основами народного бытия проявилась в непреходящем интересе писателя к традициям русского фольклора. В своих произведениях Шмелев обращался к народнопоэтическим сюжетам, мотивам, образам, жанрам. В художественную ткань «Лета Господня» (1933 -1948) органично вписаны народные песни, пословицы, поговорки, загадки, сказочные образы и мотивы, поверья и приметы, прибаутки, дразнилки, детские считалки, гадания. В сказке «Преображенец» (1919) фольклорный мотив восполнения потери и попыток обретения утраченного связан с темой лишенных вектора поисков. Рассказ «Письмо молодого казака» (1925) является редким примером стилизации как одного из способов освоения фольклора. Интонационно и содержательно произведение ориентировано на жанр плача или причитания, однако, органично сочетает в себе признаки похоронно -поминальных плачей и бытовых заплачек. В то же время образ главного героя рассказа по своим идеальным качествам сравним с былинным богатырем.
И.с. шмелев, фольклор, традиция, национальные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/144160239
IDR: 144160239
Текст научной статьи Поэтическое слово народа в творчестве И.С. Шмелева
Нет необходимости доказывать, что фольклор был мощным подспорьем для русских писателей всех литературных эпох и школ. В числе больших знатоков и ценителей поэтического слова народа можно назвать таких разных по времени, убеждениям и творческой манере художников, как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Н. С. Лесков, А. А. Блок, М. Горький, В. Г. Короленко, И. А. Бунин, А. М. Ремизов, М. М. Шолохов и др. В творчестве каждого отдельно взятого писателя фольклорные традиции реализовались по-разному, воплощаясь в употреблении устойчивых словесных формул, традиционных образов и сюжетных поворотов, сказываясь в характере оценочности, являясь средством создания образов. Обращение к кладезю народной мудрости и поэтического мастерства закономерно для такого тонкого знатока русской души и выразителя исконных начал народного миропонимания и быта, как И. С. Шмелев.
Фольклорные истоки творчества Шмелева обнаруживаются в обращении к народнопоэтическим сюжетам, мотивам, образам, жанрам («Под небом», «Солнце мертвых», «Няня из Москвы», «Письмо молодого казака», «Лето Господне» и др.), которые используются писателем в качестве приема реалистического изображения персонажа, в сюжетообразующих, оценочных и стилистических целях.
Роман «Лето Господне» (1933–1948) – ярчайший пример фольклоризма его автора. Стихия народнопоэтического слова в романе Шмелева напрямую связана с общей стилевой доминантой и авторской концепцией произведения, имеет прямое отношение к главным ценностям национальной культуры и общим законам человеческого бытия. Без обращения к запечатленному в фольклорных жанрах традиционному народному миропониманию невозможна также актуализация памятного аспекта шмелевского романа.
В «Лете Господнем» богатейший пласт поэтического творчества народа представлен разнообразными жанрами русского фольклора. В художественную ткань шмелевского романа органично вписаны народные песни, пословицы, поговорки, загадки, сказочные образы и мотивы, поверья и приметы, прибаутки, дразнилки, детские считалки, гадания и др. Характер отбора, трактовки, функционирования и способов вживления в повествование фольклорных элементов зависит от конкретной художественной задачи и отличается большим разнообразием.
Ведущую роль в повествовательной ткани «Лета Господня» играют пословицы и поговорки. В качестве иллюстрации морально-нравственных убеждений народа пословицы в романе объясняют законы жизни человека, служат средством оценки поступка или события, подсвечивают характеры героев. Будучи тесно связанными с движением сюжета, они могут направлять поведение персонажей или ход романного действия в целом.
К примеру, пословицы и поговорки, связанные с церковным календарем, ориентированы на православную систему ценностей. Народные наблюдения над погодой закрепились в выражении «Введенье ломает леденье» [2, 326]. Предшествующие Рождеству морозные декабрьские праздники описаны в известной поговорке: «Варвара-Савва мостит, Никола гвоздит» [2, 315]. Радостные рождественские хлопоты, окрашенные настроениями довольства и веселья, рождают в людях чувство праздничной спаянности и почти семейной близости. В такие дни и на жуликов не обижаются – «связываться не время». Красное слово народа гласит: «Что волку в зубы – Егорий дал» [2, 320].
Строгость, простота и воздержанность великопостных дней запечатлена в другой народной мудрости: «Пришел пост – отгрызу у волка хвост» [2, 6]. Праздник Благовещенья в русском быту связывался с великой радостью и знаменовал начало весны. На этот счет есть много образных изречений, любовно запечатленных в романе Шмелева: «Завтра и поста нет: уже был “перелом поста – щука ходит без хвоста”».
К фольклорным традициям в «Лете Господнем» отсылают также другие жанры устного народного творчества, менее распространенные в литературе и поэтому почти неизвестные современному читателю. Это многочисленные приговорки и прибаутки («похлебный грыб сборный, ест протопоп соборный» [2, 43], «соли посолоней, в гробу будешь веселей» [2, 147], «почем почемкую – потом и потомка-ешь» (2, 40)), небылицы («видала во сне – сидит баба на сосне» [2, 309]), детские песенки-считалки («Калачи горячи // На окошко мечи!» [2, 90]) и др.
Бывает, что приверженность к меткому народному слову является сквозной характеристикой персонажа. Так выстроен образ блаженной тетки Пелагеи Ивановны, которая «судьбу видит»: «Столько она всяких словечек знает, приговорок всяких и загадок!» [2, 307]. Приходит она редко и всегда неожиданно, может целый вечер проговорить загадками и прибаутками – «так цветным бисером и сыплет»: «Приехала тетка с чужого околотка… и не звана, а вот вам она!»; «Расти, хохолок, под самый потолок»; «Что, малинка… готова перинка?» [2, 308] и др.
Помимо малых жанров фольклора, традиции народного поэтического творчества в «Лете Господнем» широко представлены разнообразными примерами народной песенной лирики. В художественную ткань «Лета Господня» вписаны разнообразные по жанру народные песни от плясовых, семейных, трудовых и пастушьих до народных романсов и детских песенок. Репертуарно они включают в себя всенародно известные «Лучинушку», «Вниз по матушке по Волге», «Камаринскую», а также менее знакомые современному читателю «Ехали бояре из Нова-города», «На серебряной реке, на златом песочке», «Не велят Маше за реченьку ходить» и др.
Шмелев прибегал к фольклору не только для воскрешения в памяти дорогого сердцу прошлого, но и для живописания картин послереволюционной России. Чаще других для этой цели писатель обращался к жанру сказки с ее двоемирием. Актуальность данного фольклорного жанра связана с катастрофичностью общественно-политической ситуации и надеждами на возрождение Святой Руси, которые питала нравственная философия сказки, отражающая подлинные черты народной психологии и социальные стремления народа.
В 1919 году в Алуште Шмелев создал несколько политических сказок, в числе которых «Преображенский солдат» (с 1924 г.- «Преображенец»). Здесь писатель продолжил солдатскую тему, властно заявившую о себе в цикле рассказов «Суровые дни» (1914–1916). Однако персонаж крымской сказки далек от традиционных народнопоэтических представлений о величии духа и героизме русского солдата. Авторский замысел подчеркивает название произведения, пережившее трансформацию от стилистически нейтрального «Преображенский солдат», вызывающего ассоциации историко-героического характера, до уничижительно-разговорного «Преображенец», содержащего, помимо прочего, намек на дискредитацию ожидаемого эффекта от процесса преображения.
Как и в народной сказке, основой произведения Шмелева является история приключений традиционно безымянного героя. Фольклорный мотив восполнения потери и попыток обретения утраченного связан с темой лишенных вектора поисков: «поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Путь солдата соотносим также со сказочным мотивом нарушения запрета и следующих за этим бед.
Ущерб, понесенный героем Шмелева, очевидно, случился в результате превращения «преображенского солдата» в «преображенца». При этом скорость и характер процесса указывают не только на сближение с традицией, но и на отличие вполне земных метаморфоз от ирреальных сказочных «обращений». Здесь поиски недостающего – одновременно реализация лишенной духовного содержания, циничной и заносчивой свободы: «Уж чего-чего не пытал гвардеец преображенский: и стекла сапогом бил, и фонари-то из монтекристы резал, и суконце господское в вагонах обдирать принимался и… На чугунного коня у вокзала лазил, а настоящей радости нет и нет!» [3, 567].
Значимость потери, обнаружившейся в отсутствии подлинной жизни, до поры не увязывается преображенцем с категориями нравственными, вызывая недоумение охваченного революционным хаосом русского «простеца» (И.А. Ильин»): «С чего такое?» [3, 567]. Отсюда дикие метания героя, циничные до жестокости поступки и неизменный результат: «любопытно, а настоящего чего нет», «нет тебе настоящего удовольствия».
В полном согласии с фольклорной традицией пространственные изменения в сказке Шмелева определяют динамику времени. Пространственные категории доминируют даже тогда, когда солдат спит и, соответственно, не меняет своего положения в материальном мире.
Нелинейное течение сказочного времени допускает возвраты и повторения, в контексте которых сама смерть героя возможна как обратимое изменение, например, сон. В художественном пространствe шмелевского произведения, отражающем перевернутую реальность пореволюционного безвременья, подлинным оказывается именно сновидение героя, предоставляющее возможность для полноценной реализации его внутренних сил. В центре нравственной иерархии заблудившегося в революции персонажа традиционные ценности веры, долга, дома. Не случайно в эпизоде с ожившим Медным Всадником слово «честь» возникает трижды.
Сон вскрывает сущностной смысл «своего» и «чужого» мира героя. Солдат «живет» в обоих мирах. В реально-бытовом, наделенном признаками разрушения и небытия, герой не может избавиться от разъедающей душу скуки. Идеальный мир сновидения возвращает ему забытую радость, утрату которой не могли восполнить никакие «изобретения» и «игры».
Противоположные типы реальности раскрываются при описании Петербурга. С пространственно-временной точки зрения это «свое» представлено рядоположенными событиями и персонажами. Сновидческий хронотоп отражает этапы внутреннего движения героя, ценностные доминанты которого связаны с образами Николая Угодника, Медного Всадника и «Царя Николая». За границами «своего» мира начинается мир чужих, в народнопоэтической традиции связанный с миром мертвых. В произведении Шмелева речь идет о душевном омертвении и нравственно безотчетной жизни.
От сказки – стилистическая маркированность повествования Шмелева. Отсылкой к народнопоэтическим традициям являются лексические единицы со значением уменьшительности: «винца всякого попил», «сабелькой головки бутылочкам срубал», «семечки <…> в горсточку поклевывать», «солдатик», «патрулек», «зорька» и др.
Ориентация на фольклор связана с использованием различного рода повторов. Тавтологические словосочетания как средство языковой выразительности в произведении Шмелева отличаются удивительным многообразием. Это прежде всего повтор знаменательных частей речи, преимущественно глаголов со значением движения, реже – существительных, прилагательных, а также местоимений и частиц: «крутился-крутился», «играл-играл», «гулял-гулял», «вертелся-вертелся», «чистый-чистый», «сталь сталью», «чего-чего», «нет и нет», «вот-вот».
Гораздо более продуктивным в контексте литературной сказки оказывается употребление семантически сопряженных пар лексем, элементы которых вносят в повествование дополнительный оттенок значения. Прежде всего это повтор связанных по смыслу глаголов («оглядел-обсмотрел», «орали-призывали», «пропили-поделили»), существительных («ревизия-допрос», «глаза-думы», «визг-гогот»), прилагательных («голубые-золотые-серебряные», «голубая-зеленая», «тонкий-легкий») и наречий («здорово-крепко», «лихо-властно», «где-где»).
Крестьянское происхождение служилого человека подчеркивает просторечная лексика («надоть», «пятыя», «етажи», «зямельный», «ослобоните», «выпучил», «помога») и синтаксические конструкции («да вдруг заскучал и заскучал», «ан – пожарные налетели», «к добру ай к худу»). Эмоционально-характерологическую функцию выполняет также обращение к простонародной служебной лексике («ан», «да», «ай», «уж»), широкое использование междометий («эй», «ну», «ой», «ух», «эх», «ах»), грамматических форм с частицей «то» («девки-то», «сон-то»).
Отсылкой к стилистике народной сказки с ее яркостью и эмоциональностью служит интонационное решение произведения Шмелева. Рассказ о злоключениях преображенского солдата изобилует восклицательными и вопросительными конструкциями: «А ну, как нос провалится?! В деревню, в полной парадной форме, при багонах да галунах, при троих часах, и вдруг – без носу?.. Девки-то засмеют, стерьвы!» «Чегой-то,-скажут,-ай у тебя немцы нос обточили?» [3, 569].
В творчестве Шмелева есть редкие примеры стилизации как одного из способов освоения фольклора. Образец такого рода представляет рассказ «Письмо молодого казака» (1925). Произведение Шмелева соотносится сразу с несколькими фольклорными жанрами. Интонационно и содержательно «Письмо молодого казака» ориентировано на жанр плача, или причитания. При этом произведение органично сочетает в себе признаки похоронно-поминальных плачей и бытовых заплачек. В то же время образ главного героя рассказа по своим идеальным качествам сравним с образом былинного богатыря.
Связь с народнопоэтической традицией обнаруживается уже на сюжетно-композиционном уровне. Начало и конец произведения маркированы в соответствии с канонами русского фольклора. Письмо молодого казака Ивана Николаевича Думакова к родителям на Дон начинается характерным зачином с устоявшимися приемами сравнения и обращения: «Лети мое письмо еропланом-птицей скрозь всю Европу и Германию, прямо на Тихий Дон, в наше место, в Большие Куты, на Семой Проулок на уголок, под кривой явор, в родительское гнездо, к дорогим и бесценным родителям старому казаку Николаю Ористарховичу Думакову и родительнице нашей Настасье Митревне в руки» [4, 587]. Традиционные просьбы и поклоны завершают рассказ: «Помолите Угодников и Пресвятую Богородицу и спаса нашего на Хоруге нашем Казацком, Глаз Строг. <…> Поклоны мои земные дайте Земле Казацкой,
Донскому Войску, Батюшке Дону Тихому, солнцу красному, месячку ясному, Степи широкой. <…> А вам в ноги припадаю, родители мои старые, горевые батюшка и матушка» [4, 592].
В дальнейшем повествовании о жизни казака «под ветром чужих государств» в соответствии с народнопоэтическими канонами доминируют образы доли, горя, печали, слез, смерти. Рассказ о собственной нелегкой судьбе, тоске и одиночестве для Ивана Думакова второстепенен. На первом месте – скорбь о неизвестной судьбе родителей, ранящие душу воспоминания о расстрелах в погоревших Кутах, печаль о нелегкой судьбе казаков-эмигрантов.
Эмоциональность рассказа подчеркнута интонационно. Письмо молодого казака изобилует восклицательными и вопросительными конструкциями: «Где теперь Казаки, слава ваша? Под кем живете?! Перед кем шапку ломаете?! Пики гнете?!..» [4, 591].
В русле жанровых канонов плачей – поэтизация природы в рассказе Шмелева. Скорбя о пожаре в родной станице, Иван Думаков печалится также о порубленных ракитах и высохших ставках, а его обращение к родителям органично «вписано» в пейзаж: «Зачем вы молчите не говорите, как в земле лежите? Аль уж и Тихий Дон не текет, и ветер не несет, летняя птица не прокричит?» [4, 588].
Жанровое своеобразие «Письма молодого казака» особенно явственно проявляется в образе главного героя рассказа. Высокие нравственные качества, смелость, патриотический пафос и возвышенный эмоциональный настрой роднят Ивана Ду-макова с былинными богатырями. В контексте народнопоэтических представлений он «сокол», носитель лучших качеств народа. Как и следует настоящему богатырю, герой наделен сказочной силой и выносливостью: «Молитвами вашими и благословением, как отпущали на бранный бой, жив ваш сын Казачий сокол Иван Николаевич Думаков. И от пули, и от снаряда, и с газов, и с-под красного расстрелу, окроме всяких болезней. И с голоду, и с политической измены. Прошел наскрозь» [4, 587].
Как известно, «свои богатырские качества герои былин проявляют в воинских подвигах во имя защиты родной земли. Былинный враг, нападающий на Русь, всегда жесток и безжалостен, он намерен уничтожить народ, его государственность, культуру, святыни» [4, 8]. Принцип антитезы в сюжете шмелевского рассказа органично прорастает из жанровых свойств былин. Однако в «Письме молодого казака» этот прием значительно трансформирован. Противником главного героя выступает не привычный «басурманин», «злое татаровье» или «Литва поганая», иноверец и чужак, а внутренний враг, красный безбожник, представленный в фольклорном образе черной птицы, стервятника.
С былинной традицией связано пространственное решение образа молодого казака. Мотив стояния на дозоре не только содержит память о героях народных былин, но также воскрешает идею подвига и неизменной победы над врагом. В разных вариациях эта мысль представлена в рассказе четырежды с постепенным повышением смысловой и эмоциональной нагрузки словесного ряда: «И стою на посту-дозору, хочь и давно пику перворядную сломило не стыдным ветром, а безвинным горем» [4, 587]; «Я стою во весь рост, шапка только на мне чужая, шляпа мятая, а не шапка наша» [4, 589]; «Я теперь прямо гляжу на свет через многие страны, через всякие народы вижу. <…> Нет теперь меня выше, хоть и сточили ноги. Не хуже другого сын ваш молодой Казак. Не утеряюсь в других народах, дождусь доли» [4, 591]; «Во весь рост стою я, меньшой ваш сын, ширше плечами стал, могутней. До радостного свиданьица!..» [4, 592]. Прием повторений служит не только ретардации повествования, но также акцентирует внимание на важных элементах сюжета.
Былинный размер и напевный слог в «Письме молодого казака» органично сочетаются с фольклорными образно-эмоциональными характеристиками и свойственными народной поэзии постоянными эпитетами, метафорами и сравнениями: бело лицо, сыра земля, белый лебедь, красное солнце, ясный месяц, степи широкие, Тихий Дон и др. Свойственная былинам замедленность изложения достигается разнообразными повторами: пост-дозор, горы-леса, дороги-пути и т.д.
Актуальность обращения к фольклорным жанрам в условиях эмиграции обусловлена, с одной стороны, катастрофичностью общественно-политической ситуации в советской России, с другой – тяжелым положением вынужденных изгнанников в чужой и неприветливой Европе. В свете фольклорной традиции оживали чаяния «европейских скитальцев», жаждущих возрождения Святой Руси. Надежды на исход из «современного мирового окаянства» были сказочными, для победы над воцарившимся злом требовались чудеса и былинные богатыри. О неиссякающей вере в свет русской Души Шмелев писал Бредиус-Субботиной: «Обманываюсь ли я? Не думаю. А если порой и так, то… разве в темные времена сугубых испытаний откажешься от освещающей темный путь мечты?» [1, 257].
Список литературы Поэтическое слово народа в творчестве И.С. Шмелева
- Шмелев И.С. Переписка с О.А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Т. 3 (доп.). Ч. 1. - Москва: РОССПЭН, 2005.
- Шмелев И.С. Собрание сочинений: в 12 т. - Москва: Сибирская Благозвонница, 2008. - Т. 10.
- Шмелев И.С. Собрание сочинений: в 5 т. - Москва: Русская книга, 2000. - Т. 8 (доп.).
- Шмелев И.С. Собрание сочинений: в 12 т. - Москва: Сибирская Благозвонница, 2008. - Т. 7.