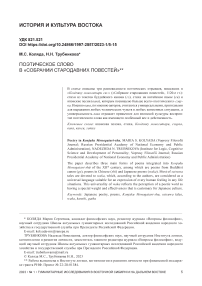Поэтическое слово в «Собрании стародавних повестей»
Автор: Коляда Мария Сергеевна, Трубникова Надежда Николаевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 1 (63), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье описаны три разновидности поэтических отрывков, вошедших в «Кондзяку моногатари сю:» («Собрание стародавних повестей», 1120-е гг.): стихи из текстов буддийского канона (гэ), стихи на китайском языке (си) и японские песни (вака), которым посвящено больше всего «поэтических» сэцува. Именно вака, по мнению авторов, считаются универсальными, пригодными для выражения любых человеческих чувств в любых жизненных ситуациях, а универсальность вака отражает привычное для японской культуры восприятие поэтического слова как имеющего особенный вес и действенность.
Японская поэзия, стихи, кондзяку моногатари, сэцува, вака, канси, гатха
Короткий адрес: https://sciup.org/170198099
IDR: 170198099 | УДК: 821.521 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-1/5-15
Текст научной статьи Поэтическое слово в «Собрании стародавних повестей»
По сравнению с другими сборниками японских поучительных рассказов сэцува «Собрание стародавних повестей» содержит сравнительно немного поэтических отрывков: около 150 на 1079 рассказов (точная цифра зависит от того, учитывать ли некоторые короткие цитаты). И современные « Кондзяку », и более поздние сборники сэцува в этом отношении бывают гораздо богаче – со стихами в каждом или почти каждом рассказе. Это может быть обусловлено замыслом составителя, например – выразить японскими песнями чувства героев хрестоматийных китайских преданий, как в «Китайских повестях» (« Кара-моногата-ри », середина XII в.) [7]. Или же обилие стихов может диктоваться выбором действующих лиц: таковы сборники историй из жизни столичных знатных особ, для которых сочинение китайских стихов и японских песен – обязательная часть служебного и домашнего быта; например, «Сборник наставлений в десяти разделах» (« Дзиккинсё: », середина XIII в.). «Собрание стародавних повестей» небогато стихами как раз потому, что очень разнообразно – здесь действуют и индийцы, и китайцы, и японцы, люди всех сословий; здесь задействованы самые разные источники, и их традиции отчасти влияют на построение рассказов, в том числе на то, возможно ли и нужно ли в них изъясняться стихами.
Позже собиратели поучительных рассказов будут порой настаивать, что поэзия доступна всем, объединяет людей всех стран и всех слоев общества: оказаться поэтом может каждый, как каждый может стать буддой. Такой подход можно проследить уже в « Дзиккинсё: » в разделе, призывающем читателя развивать свои таланты и ценить дарования других людей; в полной мере этот взгляд на стихи будет разработан в «Собрании песка и камней» (« Сясэки-сю: », конец XIII в.), где поэзия мыслится как один из путей к освобождению в буддийском смысле слова. В отличие от этих сборников, в « Кондзяку » стихи уместны не всюду и не всегда: они, как правило, выделяют рассказ в ряду соседних рассказов, за исключением одного из свитков (24-го), где речь идет о мастерах своего дела, в том числе о стихотворцах, и где в пределах одного рассказа может звучать и несколько стихотворений. В этой статье мы рассмотрим, какие стихи включены в « Кондзяку » и в каком качестве используются.
«Стародавние повести» изложены на старояпонском языке, рукописи и затем печатные издания пользуются смешанным письмом: иероглифами в сочетании с азбукой. Поэтому в книге не выглядят чужеродными ни японские песни (обычно пишутся только азбукой), ни китайские стихи (из одних лишь иероглифов). Перед нами две принципиально разных системы стихосложения, образованному читателю « Кондзяку » обе были знакомы и служили для разных нужд, встраивали человека в разные традиции: родовую, домашнюю, отечественную – и заимствованную, книжную. Вторая из традиций делится на две ветви: это, с одной стороны, поэзия школы и чиновничьей службы и, с другой, поэзия буддийских книг и обрядов, индийские стихи в китайском переводе и/или сложенные в Китае по образцу этих переводов. В « Кондзяку » стихи из этих трех традиций появляются неравномерно. Условно-индийские стихи в жанре гэ (санскр. гатха ) впервые звучат во втором рассказе собрания (1–2), время от времени появляются в индийской части, а также в китайской и индийской частях в рассказах о буддийских подвижниках, которые слышат или сами цитируют отрывки из сутр. Японская песня вака впервые встречается в первом рассказе японской части (11–1), затем вака можно видеть и в буддийском, и в мирском разделах этой части, но особенно их много в 24-м свитке, где речь идет о поэтах. Мирские китайские стихи си (кит. ши ) представлены в основном в японской же части, в рассказах 24-го свитка о японских стихотворцах, писавших по-китайски.
Стихотворные отрывкииз буддийских книг
Первые в « Кондзяку » стихи произносит сам Будда Шакьямуни в рассказе 1–2. Едва родившись, чудесное дитя царицы Майи говорит:
Я исчерпал ту долю, что велит рождаться из утробы, Это тело – мое последнее тело,
Я же исчерпаю и всякую нечистоту
И точно переведу всех живых на тот берег!
И хотя мудрец предсказывает ему два пути – стать буддой или правителем мира, конечно, сбывается сказанное в стихах: повзрослев, царевич уходит из дому, обретает просветление и посвящает жизнь тому, чтобы спасти всех живых существ. Слова младенца трудно назвать его собственными стихами – по легенде, так го- ворят все будды, когда приходят в мир, но важно, что царевич произносит их от первого лица. Похожие вещие слова встречаются и в других версиях легенды о Будде (см.: [1, с. 499]).
Гатхи восхваления и самовосхваления звучат еще в нескольких рассказах. Будда славит бедную, но щедрую женщину в рассказе 1–31: он просил милостыню, и она отдала ему последнюю еду своей семьи. Жадный богач Ру-чика пирует в одиночестве в рассказе 3–22 и в стихах заявляет, что избавился от всех помех и превзошел даже бога Индру. Слыша такое, Индра принимает образ Ручики, является к нему домой и раздает людям все его сокровища. Затем никто вплоть до царя не может понять, который Ручика настоящий, и только Будда разрешает недоумение и направляет богача на верный путь. Уже после своей земной кончины Будда восстает из гроба, чтобы гатхой восславить мать, царицу Майю, умершую вскоре после его рождения (рассказ 3–33, сами стихи в рассказе не приведены). А после ухода Будды ученики сводят воедино его наставления и стихами величают Ананду, который лучше всего запомнил слова учителя (4–1). Все эти рассказы отсылают к текстам буддийского канона: «Сутре о прежних деяниях Бодхисаттвы» (кит. « Пуса бэньсин-цзин », TСД 3, № 155, 116a), «Сутре о причинах, проповеданной для вельможи Ручики» (кит. « Лучжи чжанчжэ иньюань-ц-зин », ТСД 14, No. 539, 822a), «Сутре о великой Майе» (кит. « Мохэ Мое-цзин », ТСД 12, № 383, 1013a), «Большому трактату о запредельной премудрости» (кит. « Дачжиду-лунь », TСД 25, № 1509, 84a). Возможно, японские составители « Кондзяку » читали не сами сутры, а китайские сборники преданий из разных сутр, и все же можно сказать, что хотя бы опосредованно поэзия буддийского канона представлена в собрании достаточно разнообразными текстами.
Во многих сутрах Будда стихами подытоживает свои наставления, но именно таких рассказов, с проповедью и итоговой гатхой, в нашем собрании нет. Вообще в « Кондзяку » несколько раз повторяется мысль: будды приходят и уходят, но Закон у них один и тот же (а значит, и стихи общие), великое счастье быть современником Будды дается тем, кто «завязал связь» с ним в прошлых жизнях, но велики и заслуги тех, кто в другие времена дорожит Законом.
В рассказе 1–23 два индийских царя состязаются в щедрости, посылая друг другу подарки. Один из них сомневается, какой подарок отпра- вить, и Будда советует ему: изготовь мое изображение и сделай на нем надпись в стихах:
Если ты хочешь уйти в дальний поход, Тебе нужно запастись учением Будды.
Так ты сможешь одолеть воинство рождений и смертей, Так же, как слон крушит травяную хижину.
Кто принял Закон и Устав,
И всегда упражняется, не ленится, Тот сможет переплыть море страстей И достичь берега избавления от страданий.
Подарок принят с восторгом, и в итоге царь обращается на путь Будды.
В китайской части « Кондзяку » мы находим восхваление «Сутры цветочного убранства» (кит. « Хуаянь-цзин », ТСД 9, № 278, рассказ 6–34), «Большой сутры праджня-парамиты» (кит. « Да баньжо-боломидо-цзин », ТСД 5–7, № 220, рассказ 7–1), «Лотосовой сутры» (кит. « Мяофа ляньхуа-цзин », ТСД 9, № 262, рассказ 7–24). Стихи взяты из китайских сборников преданий о чудесах и звучат при чудесных обстоятельствах: одно из них читает судья мертвых Янь-ло (Яма) умершему, перед тем как отпустить его в мир живых – за то, что тот глубоко верил в сутру. Другое слышат во сне монахи, работавшие над переводом сутры, третье – опять-таки во сне – читает отшельнику, чтецу сутры, его слушатель (раньше он был обезьяной в лесу близ хижины отшельника, а теперь благодаря сутре смог возродиться на небесах). Похожие эпизоды со стихами, услышанными во сне, есть и в японской части собрания, и стихи близки к гатхам, хотя, в отличие от индийской и китайской частей, жанр их здесь так не обозначен – возможно, потому, что составители « Кондзяку » считают эти стихи написанными уже в Японии. Эти рассказы взяты из японских «Записок о чудесах Лотосовой сутры» (яп. « Хоккэ гэнки », середина XI в.). Преданным приверженцам сутры во сне и наяву являются отроки-небожители (рассказы 12–37, 13–16, 13–21), их славят боги (13–16) и бодхисаттвы (13–21), в стихах соединяются восхваления Закона и его подвижников. Эти истории не просто подтверждают могущество сутры, но и – за счет стихов, похожих на гатхи, – закрепляют связь между японской общиной и индийской, что для « Кондзяку » важно, коль скоро эта книга, помимо прочего, повествует о судьбе одного и того же учения, одной и той же общины в разных странах.
Читатели « Кондзяку » сами могли отнести себя к людям дурных времен, когда Будда Шакьямуни давно ушел из мира, а новый будда еще не явился. Тем важнее для них могли быть рассказы о том, как в прежних жизнях Шакьямуни сам рождался в подобные времена и жертвовал собой, чтобы обрести хотя бы одну-две строки Закона. В рассказе 5–9 он (в ту пору – царь) наносит себе тысячу ран и зажигает светильники в каждой из них. Тогда брахман, назначивший ему это испытание, читает царю «половину гатхи», хангэ :
Едва родились – тотчас умираем: Прекратить это – вот радость!
Это третья и четвертая строки четверостишия, с которого начинается китайская версия «Дхаммапады» – «Сутра строк Закона» (кит. « Фацзю-цзин », TСД 4, № 210, 0559a). Первые две строки таковы:
Содеянное непостоянно –
Гласит закон возвышений и падений.
В рассказе 5–10 Будда в другом своем прежнем рождении уходит подвижничать в леса, и там некий отшельник назначает ему испытание – девяносто дней пронзает его тело иглой – а потом читает ему две строки:
Не делай никакого зла, Чти и совершай всякое благо.
Это первые две строки четверостишия из той же «Сутры строк Закона» (ТСД 4, № 210, 567b). Третья и четвертая строки гласят:
Сам очищай свой ум – Таково учение всех будд.
Это же стихотворение есть в «Сутре о нирване» (кит. «Нэпань-цзин», TСД 12, № 374, 451c), оно называется «общей заповедью всех семерых будд» (Шакьямуни и шестерых его предшественников) и цитируется во многих текстах как формулировка «главного смысла Закона Будды» (см.: [13]). В традиции японских сэцу-ва это четверостишие обсуждается не раз, например – в «Собрании песка и камней» (IV–1, Vа–5, VI–10). А в «Собрании примечательных рассказов из прежних и нынешних времен» («Кокон тё:мондзю», середина XIII в.) есть примечательный рассказ (164) о соединении буддийской поэзии и японских песен. В нем монах Сэнсай 瞻西 (ум. 1127), большой ценитель поэзии, изготовляет «песенную мандалу», вака-мандара, – картину, на которой с семью буддами соседствуют тридцать шесть знаменитых поэтов Японии, а надписью служат строки «Не делай никакого зла, чти и совершай всякое благо». Картина хранилась в роду Оонакатоми, у представителей государя в святилище Исэ – главном святилище солнечной богини Аматэра-су; рассказчик, Татибана-но Нарисуэ, сообщает, что в 1249 г. сам побывал в Исэ, видел эту картину и поклонился ей.
«Не делай никакого зла…» – очень известная формулировка, но не единственная. В « Кон-дзяку » приводятся и другие стихи, которым в Японии принято придавать такое же значение главной мысли Будды. Они могут появляться и в ироническом контексте. Так, в японской части в рассказе 20–1 китайский демон тэнгу , пролетая над морем, слышит от воды звуки, будто кто-то поет строки Закона. Демон принимается искать, откуда звучат эти слова, и двигаясь сначала к речному устью, а потом вверх по рекам, добирается до горы Хиэй в Японии. Строки из сутры звучат в воде, потому что в нее сливают нечистоты из монашеских жилищ. Тэнгу думает сперва напасть на монахов (как и положено зловредному демону), но решает, что не справится с ними, и вместо этого находит способ возродиться в Японии потомком одного из принцев и стать монахом на Хиэй. Цитируются здесь строки из «Сутры о нирване» (ТСД 12, № 374, 451а), ставшие в Японии азбучными в прямом смысле слова: их японским переложением служит «песня Ироха», в которой встречаются все буквы японской азбуки, причем каждая только по одному разу.
Все движется, ничто не постоянно, Таков закон рожденья и гибели, Кто погиб и для рожденья, и для гибели, Обретет радость в покое-угасании.
Здесь звучит характерный для «Кондзяку» мотив: на материке буддийское учение пришло в упадок, тогда как в Японии оно по-прежнему живо несмотря на дурной век; широко известная цитата здесь служит своеобразным величанием японской общины, хотя само по себе это величание не лишено иронии – именно потому, что цитата расхожая, если кто-то знает все- го одну буддийскую гатху, то почти наверняка именно эту.
В китайской части « Кондзяку » в рассказе 6–33 бодхисаттва Дицзан (санскр. Кшитигарб-ха, яп. Дзидзо) спасает на Темном пути между смертью и новым рождением одного грешника: тот вел беспутную жизнь, но однажды изготовил изваяние Дицзана. Бодхисаттва учит умершего стихотворению, тот читает только что заученные строки судье мертвых – и возвращается к жизни, а кроме того, избавляет от адских мук еще многих грешников. Стихи взяты из «Сутры цветочного убранства» (ТСД 9, № 278, 466а):
Если человек хочет познать
Все множество будд в трех временах, То пусть созерцает вот так:
Сердце [само] создает всех татхагат!
Эти стихи не так ясны, как четверостишия «Не делай никакого зла…» и «Все движется, ничто не постоянно…», указывают они на то, что будды-татхагаты («прошедшие свой Путь») в прошлом, настоящем и будущем составляют часть опыта непросветленного существа, «созданы» им, коль скоро мир вокруг себя оно строит само по закону воздаяния: грешник строит ад, праведник – мир богов и т.д. В Японии четверостишие о буддах трех времен особенно часто обсуждалось в традиции «исконной просветленности» – в сочинениях, разбирающих то, в каком смысле каждый человек может стать буддой, непременно станет им или уже един с ним (см.: [14]).
Похожий рассказ о Дицзане-Дзидзо есть и в японской части собрания (17–29). Здесь бодхисаттва на Темной дороге спасает благочестивую женщину и предлагает научить ее «одной строке»; умершая соглашается и в итоге возвращается к жизни. «Строка» из шестнадцати иероглифов может читаться как четверостишие:
Трудно получить человечье тело, Трудно встретиться с учением Будды: Сосредоточься же всем сердцем И не жалей своей жизни!
Этот рассказ примечателен тем, что в нем бодхисаттва той же женщине читает еще и песню вака :
Ведет нас по пути
В край Высшей Радости
Наше собственное тело. Одно лишь сердце Прямо!
Рассказ, вероятно, восходит к японским «Запискам о чудесах бодхисаттвы Дзидзо» (« Дзидзо: босацу рэйгэнки », датировка неясна).
Три гатхи о главном смысле буддийского учения непросто совместить, они излагают наставления Будды с трех разных сторон: 1) все непостоянно, любые усилия тщетны; 2) этот непостоянный мир, как и мир будд, создан по закону воздаяния, но нами самими, нашим собственным умом; 3) очищать ум и действовать правильно – все же не безнадежная задача. Примеры ко всем этим положениям в поучительных рассказах даются в изобилии. Но главный урок традиции буддийских стихов и рассказов о них для « Кондзяку », как нам кажется, состоит в том, что Закон в коротком отрывке так же могуч и драгоценен, как во многих и многих свитках сутр; точно так же и простой пример «из жизни» может быть не менее полезен, чем подробный трактат или долгая проповедь.
Китайские стихотворения
Одна из примечательных особенностей « Кондзяку » по сравнению с более поздними сборниками рассказов сэцува , где хотя бы вскользь речь заходит о Китае, – это почти полное отсутствие китайских поэтов. Китаю в нашем собрании отведено пять свитков, с 6-го по 10-й, один из них, 8-й, не сохранился или же был запланирован, но не составлен. В рассказах о китайской буддийской общине, как мы показали выше, есть буддийские гатхи, но в историях мирян герои заняты чем угодно – заботятся о родителях, воюют, плетут политические интриги, странствуют, влюбляются, ведут философские беседы, ищут бессмертия – но стихов не сочиняют. Исключение всего одно: в рассказе 10–8 герой гуляет вдоль реки, что протекает через дворцовые сады, замечает на воде осенний лист хурмы с написанными стихами и безнадежно влюбляется в ту даму, которая их сложила; так же по воде он посылает в дворцовые сады свой ответ. Через несколько лет родители уговаривают героя жениться, против воли он женится на достойной даме, недавно уволенной с дворцовой службы, и супруги выясняют, что это друг друга они давно любят, это друг с другом они переписывались той осенью. Однако самих стихов в рассказе нет. Даже Бо
Цзюй-и (772–846), самый любимый в Японии из китайских поэтов, сам в « Кондзяку » не появляется, хотя рассказы 10–5, 10–6, 10–7 восходят к сюжетам его стихотворений (см.: [12]). Если следовать логике построения собрания, мирские стихи могли бы быть в отсутствующем восьмом свитке, но с уверенностью об этом говорить нельзя. Древнекитайская «Книга песен» упомянута в рассказах 11–9 и 11–12 о монахах Кукае и Энтине – с юных лет они показали себя способными людьми, освоили китайские мирские книги, а затем обратились к Закону Будды. Но сама «Книга песен» не цитируется ни разу.
Какое место занимало китайское стихосложение в жизни японской столичной знати, хорошо видно по рассказу 15–42. В этой истории, которая продолжается в рассказе 24–39 и есть также в «Великом зерцале» (« Оокагами », XI в.), соединяются все три вида стихотворений. Герой, благочестивый мирянин, прогуливаясь ночью по дворцу, читает гатхи из «Лотосовой сутры» (сами строки не приведены); потом он и его старший брат умирают в один день в пору морового поветрия. Герой после смерти является матери и песней вака укоряет ее за то, что его тело слишком скоро сожгли. Затем он является своему другу и китайскими строками сообщает о своей посмертной участи:
В старину клялись мы с тобой под луной во дворце Хорай1, Ныне гуляю я на ветру в мире Высшей Радости.
Семейный обиход предполагает обмен «родными песнями», а дружеское общение мужчин требует китайских стихов.
Японским поэтам, писавшим на китайском языке стихи си , отведена серия рассказов в 24-м свитке: стихосложение здесь берется как один из видов мастерства. Со знаменитым поэтом Сугавара-но Фумитоки (899–981) сам государь Мураками беседует о стихах и просит под клятвой ответить, кому лучше удались строки о луне: государю или Фумитоки. Поэт в итоге признает: «На самом деле мои стихи чуточку лучше» – и этим безмерно восхищает государя (24–26). Сами стихи на сей раз в рассказе приведены, как и в следующих четырех историях. В усадьбе знаменитого поэта Ооэ-но Асацуны
(886–958), уже умершего, собираются ценители поэзии, читают стихи Бо Цзюй-и, и одну строчку им поправляет старуха-служанка: она, конечно, не знает китайского, но помнит, как в свое время читал стихи ее господин (24–27).
А другой поэт, Сугавара-но Митидзанэ (845– 903), умерший в опале и после смерти чтимый как божество святилища Китано, является во сне паломнику, пришедшему в святилище, и объясняет ему две строки стихотворения: их когда-то сложил Митидзанэ, но никто уже не помнит, как их нужно правильно читать. Здесь в рассказе приведены и китайские строки, и их японское прочтение; повествователь заключает: «…Было много случаев, когда Тэндзин подобным образом помогал со стихами во сне» (24–28). В следующем рассказе речь идет о литературном соперничестве: отбирают стихи для надписей на ширмах в усадьбе матери канцлера Фудзивара-но Ёримити (992–1074), и один поэт критикует стихи другого, предполагая, что тот дал взятку знатоку, отбиравшему стихи. Ёрими-ти сам вникает в спор, и уже критика обвиняет в предвзятости; в итоге критик оправдывается, сложив японскую песню (24–29). И последняя история в этой серии показывает, как с помощью стихотворного прошения Фудзивара-но Тамэтоки (949–1029) получил должность, на которую поначалу собирались назначить другого человека (24–30). В стихах говорилось:
Зимней ночью холодной кровавые слезы Того, кто учился в поту, воротник увлажняли.
И на утро после дня назначений Лишь по сини небесной блуждает взор.
Исторической реальности это повествование, видимо, не соответствует ‒ тем интереснее, что в реальности сэцува хорошее стихотворение объявляется достойным средством продвижения по службе. Более того, в этом литературном мире подобное отношение к поэтическому таланту – нечто само собой разумеющееся.
В более поздних сборниках, например, в « Дзиккинсё: », похожие рассказы будут подкреплять ту мысль, что китайские стихи, как и японские песни, обладают чудесной силой, способны трогать сердца людей. В « Кондзяку » об этом речи нет – история скорее об умении поэта выразить чувства в стихах и умении другого человека понять эти чувства.
Можно сказать, что в «Кондзяку» сочинение китайских стихов – часть образа жизни образованного знатного человека. Но область применения навыков китайского стихосложения гораздо более узкая, чем в случае «родных песен», она ограничивается придворной службой и дружеским общением. Именно в связи с китайскими стихами в «Кондзяку» обсуждается то, что мы назвали бы «творческим процессом», включая сюда и оценку собственных сочинений, и изучение чужих, и соперничество, и успех на литературном поприще.
Японские песни вака
В самом широком смысле традиция восприятия японских песен предполагает, что эти стихи универсальны, годятся для самых разных жизненных ситуаций, с их помощью можно выразить очень разные чувства, и звучать они могут как при дворе, так и в обиходе простолюдинов. И хотя в японской культуре к началу XII в. уже была разработана поэтическая теория2, учение о тонкостях и трудностях стихосложения, в « Кондзяку » отражается другая точка зрения: сложить и понять песню вака может человек любого статуса, лишь бы он обладал «чутким сердцем». Стихи позволяют узнать, что на душе человека и каков он сам. Так, в рассказе 30‒12 муж возвращается к брошенной жене, поскольку она, в отличие от новой любимой, женщины практичной, способна оценить прекрасное и сложить стихи. Эта история входит в свиток, посвященный любовным отношениям. Подобных сюжетов там несколько, и часто именно стихи способны привести людей к взаимопониманию, даже если это уже не помогает наладить жизнь влюбленных. Источником рассказа 30‒12 послужили «Повести из Ямато» (« Ямато-моно-гатари », X в.) [16], из этого и других памятников жанра «песенных повестей», ута-моно-гатари , взяты многие истории 30-го свитка, он продолжает традицию таких повестей.
Казалось бы, рассказы о песнях несчастных влюбленных опровергают главное положение японского учения о поэтическом слове, выраженное в предисловии Ки-но Цураюки (866(?) – 946(?)) к первой антологии, составленной по приказу государя – «Собранию старых и новых песен Ямато» («Кокин вака-сю», начало X в.) 3: «Не что иное, как поэзия, без усилия приводит в движение Небо и Землю, пробуждает чувства невидимых взору богов и демонов, смягчает отношения между мужчиной и женщиной, умиротворяет сердца яростных воителей» (перевод А.А. Долина) [8, с. 43]. В «Кондзяку» такое расхождение двух традиций оправдано построением собрания: истории влюбленных предваряют заключительный, 31-й свиток, главная тема которого – тщетность вообще всех человеческих усилий. К тому же, в картине мира собрания, где человек постоянно на виду у другого и мнение этого другого имеет большую важность, даже в тех случаях, когда стихотворения уже не могут поправить сами отношения, они показывают неудавшемуся возлюбленному или просто «людям», что было на сердце у поэта, и в некотором смысле восстанавливают тем самым справедливость, а значит – сложены не впустую. Просто мир сам по себе текуч и непостоянен, здесь за встречами следуют разлуки, и отношения людские тоже часто зыбки ‒ да и не стоит за них цепляться слишком сильно.
Но такое уныние в « Кондзяку » чувствуется далеко не всюду. В свитке 24-м, посвященном мастерам своего дела, люди вполне преуспевают в различных ремеслах и искусствах. Здесь мы находим истории из еще одной «песенной повести» – «Повести из Исэ» (« Исэ монога-тари », X в.) [4]. Их герой отождествляется с одним из самых знаменитых поэтов Японии: Аривара-но Нарихира (825–880) слагает стихи, путешествуя по восточным провинциям (рассказ 24‒35), обменивается песнями с другими людьми (24‒36). Похожим образом строятся истории о других стихотворцах. В рассказе 24‒31, первом в серии, посвященной «родным песням», госпожа Исэ слагает вака для надписи на ширме в покоях государя – сына того правителя, кому служила она сама. В следующем Фудзивара-но Ацутада (906–943) при дворе воспевает цветение вишен, и откликом ему служит молчание: лучше сочинить невозможно! Затем говорится о Фудзивара-но Кинто (966–1041), который был не только поэтом, но еще музыкантом и знатоком словесности, составил «Сборник песен и стихов для пения» (« Ваканро:эйсю :», ок. 1013 г.) и первый список тридцати шести великих поэтов Японии.
В « Кондзяку » стихов Кинто много: талантливому аристократу отведен еще один рассказ, и он по жанру ближе к поэтическим антологиям: здесь собраны стихотворения по разным случаям с короткими пояснениями к ним. Кинто, вероятно, действовал и в несохранившемся рассказе 19‒15, где, судя по заголовку, должно было говориться о том, как поэт принял монашество; может быть, стихи были и там.
Традиция составления поэтических собраний ко времени создания « Кондзяку » насчитывала уже несколько веков: первая, пусть еще не государственная антология, «Собрание мириад листьев» (« Манъё:сю: »), была создана в VIII в. «Поэзия была делом государственным» [11, с. 385], а стихи среди аристократов писали многие, если не все; разумеется, составители « Кон-дзяку » наверняка были знакомы как минимум с государевыми антологиями, а если судить по стихотворениям, встречающимся в рассказах, ‒ далеко не только с ними. Поэтому правомерно сказать, что в « Кондзяку » в формат сэцува встраивается наследие традиции японских поэтических антологий. Но можно предположить и обратное влияние: в поучительных рассказах передавались не только сами произведения, но и подробности биографий, предания и анекдоты о творцах. А в дальнейшем эти истории сами могли стать культурной почвой для новых сюжетов, новых песен и новых отсылок в них.
В рассказе 24–37, тоже напоминающем фрагмент поэтической антологии, стихи слагает Фудзивара-но Санэката (ум. 998). Здесь в серии сэцува , посвященных вака , происходит переход от классических сезонных и любовных тем (звучавших у Нарихиры) к более серьезным (хотя вака про монашество встречались и раньше): поэт говорит о том, как видел во сне своего умершего ребенка, скорбит о смерти друга:
Тот, кто давал обещание Любоваться цветами со мной, Исчез без следа.
Я один – окропляют росой Слезы цветы осенние.
Этот друг, Фудзивара-но Митинобу (972– 994), действует в рассказе 24–38 (см.: [5]). На историю молодого поэта приходится целых двадцать песен ‒ будто маленький личный поэтический сборник помещен внутрь собрания рассказов. Неясно, по какой причине составителям оказалось важно сохранить в таком количестве именно творения Митинобу, а не более известных авторов. Тринадцать из двадцати приведенных стихотворений и в самом деле входят в собрание сочинений поэта, «Ми-тинобу-сю:» (некоторые из них ‒ и в государственные антологии тоже). А семь оставшихся можно найти в «Мотосукэ-сю:» [9, с. 455‒459], личном собрании другого поэта – одного из «тридцати шести бессмертных» по списку Кин-то [11, с. 171], Киёвара-но Мотосукэ (908‒990), чьей дочерью была Сэй Сёнагон, оставившая знаменитые «Записки у изголовья» («Маку-ра-но со:си»).
В серии песен Митинобу тема потери возникает уже в первом стихотворении, а потом продолжается в следующих рассказах. Другие отобранные стихотворения Митинобу сложены по разным случаям. Дальше вака произносит покойный Фудзивара-но Ёситака (954‒974), явившийся другу, сестре и матушке, горюющим по нему (24–39) ‒ это он упоминался выше в связи с китайским тоже посмертным обращением к товарищу; поэты слагают стихи на похоронах государя (24–40); скорбные песни пишут придворные дамы, государыня и министр (24–41, 24–42), Ки-но Цураюки (24–43). Затем помещены рассказы о стихах, посвященных тоске не по человеку, а по родной земле, потом ‒ песни ностальгии по минувшему. А следующие истории показывают, как поэтическое слово помогает улучшить человеческие отношения, причем самые разные. Более того, вака могут стать и молитвой, обращенной к божеству или будде. Так, поэтесса Акадзомэ Эмон прикладывает стихотворение к подношениям- гохэй в святилище бога Сумиёси, прося здоровья для сына:
Отдать свою жизнь
Взамен
Мне не жаль.
Но как горька Была б разлука!
И божество откликается на молитву поэтессы (24–51). В другом случае бедная женщина преподнесла стихотворение как дар Будде (24–49):
Мое подношение
Будде трех миров –
Лишь роса на лепестках Лотоса,
Так я прошу о милости.
Вообще вака оказываются пригодны и для выражения религиозного чувства, а не только «мирских» эмоций. Даже сами почитаемые могут прибегать к поэтическому слову: бодхисаттва Дзидзо, как упоминалось выше, дает наставления в форме японских песен (в 17-м свитке мы находим четыре приписываемых ему вака ), а в предыдущем разделе одно из чудес бодхисаттвы Каннон тоже связано со стихами. Каннон помогает человеку выиграть в жестокой игре: сочинить удачные завершающие строки к песне, начала которой он не знает; в случае проигрыша он, мелкий чиновник, должен будет уступить свою жену начальнику, который и затеял игру (16–18).
В свитке 11-м, где речь идет о самом начале буддизма в Японии, в двух рассказах появляется привычное по поэтическим антологиям взаимодействие двух персонажей с помощью песни и ответной песни. Рассказ 11–7 воспроизводится затем в « Сясэкисю :» и других сборниках сэцува : монах Бодай (Бодхисена, 704– 760) прибывает из Индии в Японию, встречает монаха Гёки (668–749), и оба досточтимых сразу узнают друг в друге воплощения бодхисаттв. Иноземец при этом отвечает на приветствие японского собрата песней вака , что обращает на себя внимание и создает интересную перекличку с рассказом о Дзидзо, где умение бодхисаттвы слагать песни по-японски повествователь называет удивительным. В песнях Бодай и Гёки вспоминают, как когда-то слушали самого Будду, поклялись тогда встретиться вновь в будущих жизнях, и вот встретились. Хотя в этих стихах звучат непривычные для традиции вака индийские слова (имена Будды и бодхисаттвы Манджушри, название индийского города Капилавасту), эти песни включены в государственную антологию «Изборник японских песен» (« Сю:и вака-сю: », 1005– 1007 гг., составитель – Фудзивара-но Кинто). Диалог монахов, с одной стороны, показывает чудо высшего уровня взаимопонимания просветленных, но с другой, возможно, и намекает на универсальность японской песни ‒ на новом уровне.
Другой песенный диалог представлен в рассказе 11‒1 – первом рассказе японской части собрания. Здесь царевич Сётоку-тайси (574–622), которого почитают как основателя буддизма в Японии, встречает нищего на дороге, беседует с ним, укрывает его своей одеждой и слагает песню:
О, как печально! В горах Катаока, Обессилев от голода, Странник лежит. Как жаль его!
Нищий отвечает:
Лишь когда в Икаруга В реке Таби
Прекратится течение – Моего господина Имя забудут!
Вскоре нищий умер, но когда по указанию царевича проверили его гроб, тела там не было, а слышалось благоухание. Это значит, что бродяга был не просто человеком, и Сётоку это понял. Самого же царевича считали воплощением бодхисаттвы Каннон.
Таким образом, рассказы о вака в « Кондзя-ку » показывают, как литература сэцува интегрирует жанровые особенности государственных поэтических антологий, личных сборников песен, песенных повестей; она заимствует не только сюжеты, но и форму, которые затем могут преображаться или дополняться новыми прочтениями, будучи помещенными в новый контекст. Подчеркнутая в « Кондзяку » универсальность вака ‒ песен, годящихся для дворцов и для лачуг нищих, для горя и для радости, ‒ в традиции хорошо осмыслена: в этом контексте обыкновенно вспоминают предисловие Ки-но Цураюки к « Кокин вака-сю: » [8, с. 43]. Но можно считать ее и частью традиции более масштабной: в ней отражается привычное для культуры восприятие поэтического слова как имеющего особенный вес и действенность. Оно имеет силу тронуть сердца людей в самых важных ситуациях: им можно воспользоваться в опыте общения со сверхчеловеческим, а также для решения жизненных проблем, потому поэтическая речь – более, чем «просто» слово. Это понимание было характерно для японской культуры с самой древности, так же, как и для китайской, декларирующей и социальную, и мистическую важность поэтического слова. Уважение же к мастерству поэта, как виду доступного человеку искусства, показывает тот факт, что в «Стародавних повестях» в 24-ом свитке, посвященном мастерам своего дела, больше всего рассказов приходится именно на истории о стихосложении.
Список литературы Поэтическое слово в «Собрании стародавних повестей»
- Александрова Н.В., Русанов М.А., Комиссаров Д.А. Лалитавистара. Сутра о жизни Будды. Рождение. М.: РГГУ, 2017.
- Боронина И.А. Предисловия к «Кокинвакасю» и китайские влияния // Девять ступеней вака. Японские поэты об искусстве поэзии. М.: Наука, 2006. С. 227‒244.
- Девять ступеней вака. Японские поэты об искусстве поэзии. М.: Наука, 2006.
- Исэ моногатари. М.: Наука, 1979.
- Камиока Ю:дзи. Митинобу вака сэцува-но кэйсэй: «Кондзяку моногатари сю:» маки нидзю:ён 38 о тю:син ни (Формирование сэцува о вака Митинобу: по 38-му рассказу 24-го свитка «Собрания стародавних повестей») // Гогаку бунгаку. 1982. № 20. С. 1‒12.
- Камо-но Тёмэй. Записки без названия. Беседы с Сётэцу. СПб.: Гиперион, 2015.
- Кара моногатари. Средневековые японские рассказы о Китае. СПб.: Гиперион, 2021.
- Кокинвакасю. Собрание старых и новых песен Японии. СПб.: Гиперион, 2001.
- Кондзяку моногатари-сю: (Собрание стародавних повестей) // Син Нихон котэн бунгаку тайкэй. Т. 36. Токио: Иванами, 1994.
- Тайсё: синсю: дайдзо:кё: (Большое собрание сутр, заново составленное в годы Тайсё). Т. 1–100. Токио, 1924–1934.
- Торопыгина М.В. Бухта песен. Шесть глав о средневековой японской поэзии. СПб.: Гиперион, 2020.
- Торопыгина М.В. История Ян-гуйфэй в японских текстах XII века: «Тосиёри дзуйно:», «Кондзяку моногатари сю:», «Кара моногатари» // История и культура Японии. Вып. 13. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2021. С. 17–31.
- Трубникова Н.Н. «Главный смысл Закона Будды» у Догэна и его современников // Вопросы философии. 2015. № 7. С. 160‒183.
- Трубникова Н.Н. Традиция «исконной просветленности» в японской философской мысли. М.: РОССПЭН, 2010.
- Трубникова Н.Н. Традиция «Лотосовой сутры» в Японии в «Собрании стародавних повестей» // Религиоведение. 2023. № 1 (в печати)
- Ямато-моногатари. М.: Наука, 1982.