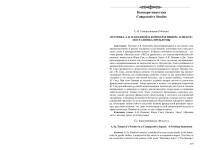Поэтика А.Я. Панаевой в компаративном аспекте: постановка проблемы
Автор: Самородницкая Екатерина Ильинична
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Поэтика А.Я. Панаевой, рассматривающаяся в последние годы преимущественно в рамках гендерных исследований, анализируется в предлагаемой статье в компаративном аспекте. В фокусе внимания исследователя - поэтика романа «Женская доля» (1862) в сравнении с его западноевропейскими образцами, творчеством Жорж Санд и Джордж Элиот. А.Я. Панаева и Дж. Элиот рассматриваются в статье как последователи Ж. Санд, по-своему воспринимающие и перерабатывающие ее творческий метод. Поэтика Дж. Элиот развивается в направлении реализма и дистанцирования от любой идеологии; отталкивание от Ж. Санд проявляется в преодолении идеологизированного письма. Панаева спорит с Ж. Санд, демонстрируя в романе, что женщину воспринимают как предмет домашнего обихода, как необходимое удобство, только не как самостоятельного человека; и это касается как людей отсталых, так и людей идейных, читателей Ж. Санд. При этом Панаева не выходит за рамки манеры письма и стилистики французской писательницы. Автор приходит к выводу, что рецепция творчества Ж. Санд английской и русской писательницами происходит как будто в сходном направлении, в движении в сторону реалистического осмысления и отражения действительности. Однако если Элиот становится признанным классиком реализма, освоив наследие французской писательницы в контексте викторианской литературы, то Панаева, несмотря на близость к реализму, осталась частью жорж-сандовской традиции. Если не ограничиваться объяснениями гендерного характера, объяснение можно найти в масштабе влияния французской романной традиции, настолько весомом, что, даже полемизируя со свой литературной моделью в сфере идеологии, Панаева не уходит от нее в сфере поэтики.
А.я. панаева, жорж санд, джордж элиот, женская доля, женская проза, поэтика романа
Короткий адрес: https://sciup.org/149139277
IDR: 149139277 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_419
Текст научной статьи Поэтика А.Я. Панаевой в компаративном аспекте: постановка проблемы
Творчество А.Я. Панаевой в последние годы привлекает к себе внимание ученых, преимущественно в рамках гендерных исследований [Gheith 2002, Татаркина 2006, Бурмистрова 2012, Бурмистрова 2013, Строганова 2019 a, Vaysman 2021]. При всей естественности и очевидности подобной оптики, на наш взгляд, стоит обратить внимание на собственно литературный контекст панаевской прозы. Выявление актуальных для писательницы жанровых моделей позволит точнее определить ее место в истории русской литературы XIX в.
Рассматривая поэтику романа Н. Станицкого (псевдоним А.Я. Панаевой) «Женская доля» (1862) в компаративном аспекте, прежде всего мы задумываемся о влиянии Жорж Санд как наиболее известной писательницы XIX в. Нет нужды говорить, что ее рецепция в России не является неисследованной темой [Кафанова 1998, Кафанова 2004, Кафанова 2005, Кафанова 2006, Строганова 2019 Ь]. И что можно рассматривать как биографический аспект рецепции (т.н. бытовой «жорж-зандизм»), так и непосредственно поэтический: тема неравного / несчастного брака, специфическая, эмоционально окрашенная стилистика, сосредоточенность на женском персонаже. Собственно говоря, именно Жорж Санд «научила женщин говорить», в том числе и о себе. С этой точки зрения любой текст XIX в., относящийся к женской прозе, можно рассматривать сквозь призму поэтики французской писательницы, в особенности текст, посвященный тяготам несчастного брака. Речь в данном случае идет не столько о каком-то конкретном произведении, сколько о прозе Жорж Санд как о литературной модели. Истории обеих героинь романа «Женская доля» говорят об их авторе как о «последовательной стороннице Жорж Санд» [Строганова

2019 a, 305], которая, кстати, упоминается в романе отрицательным персонажем и в негативном контексте: «Я до сих пор не имела понятия, что могут существовать подобные эмансипированные женщины - эти Жорж Занды!» [Станицкий 1862 с, 223]. Подобные примеры можно множить.
Однако Жорж Санд не только образец, но и точка отталкивания, как для Панаевой, так и, к примеру, для Джордж Элиот. Сопоставление французской и английской писательниц было впервые предпринято П. Томсон. По мнению исследовательницы, для Джордж Элиот актуальны две литературные модели - Жорж Санд и Джейн Остен: в первом случае значимыми оказываются «сочувствие к персонажу, идеализм, желание расширить сферу деятельности женщины», во втором - ирония и комизм (“a sense of the ridiculous”), а также стремление к экономии художественных средств [Thomson 1963, 143-144]. Однако, несмотря на различия в стилистике и манере письма, Элиот и Жорж Санд объединяют сходные мотивы и интерес к одной и той же тематике, к «анатомии брака» [Thomson 1963, 147] (что, заметим, особенно существенно в контексте значения для английского романа XVIII XIX вв. так называемого «брачного сюжета» (“marriage plot” [Parrinder 2006, 202]). Н. Шор сравнивает писательниц в аспекте оппозиции: идеализм - реализм (где Элиот, естественно, реалист); финальное преодоление наследия Санд и победа реализма, по мнению ученого, обусловлены «взаимопроникновением этических и эстетических причин» [Schor 1988, 62-63].
Сходство и различие двух авторов наиболее очевидны при компаративном взгляде на их поэтику. Не ориентироваться на Жорж Санд невозможно; причем, имея в виду необыкновенно сдержанное отношение Дж. Элиот к так называемому «женскому вопросу», можно предположить, что поэтику французской писательницы она рассматривает так же, как и Тургенев - как социально-сентиментальную прозу [Манн 2008, 119-120]. Однако собственно художественный метод Дж. Элиот в большей степени традиционно реалистический [Leavis 1948, 28-125]: менее эмоционально окрашенная стилистика, внимание к социально-политическому контексту, психологизм и философия, акцент на мелочах (“Paint us an angel, if you can, with a floating violet robe, and a face paled by the celestial light; paint us yet oftener a Madonna, turning her mild face upward and opening her arms to welcome the divine glory; but do not impose on us any aesthetic rules which shall banish from the region of Art those old women scraping carrots with their work-worn hands” [Eliot 2015, 289]. И, наконец, максимальное дистанцирование от любой идеологии: всякий герой Элиот, существующий в рамках какой-либо идеологической, заранее данной схемы, либо перерастает ее (Феликс Гольт, Доротея Брук, Даниэль Деронда), либо не обретает счастья (Лидгейт, Гвендолин, наиболее яркий и трагический пример - Мэгги Тал-ливер). «Женский вопрос» в данном случае - тоже заданная схема. Поэтому, продолжая мысль Н. Шор, дело скорее не в преодолении идеализма, а в преодолении идеологизированного письма.
В русской традиции к 1860-м гг. представление о Жорж Санд уже сложилось в определенную литературно-идеологическую модель. Жорж-сандовское представление о «святости любви» и ее приоритете над социальными условностями можно считать своеобразной идеологической платформой писательницы; в целом, ее творчество оказывает наиболее существенное влияние на тех писателей, которые разрабатывают те или иные актуальные для эпохи идеологические сюжеты.
Роман «Женская доля» вряд ли воспринимался современниками как произведение, конгениальное Жорж Санд. В двух известных нам рецензиях, Д. Писарева и В. Поречникова (псевдоним Н. Хвощинской), художественные достоинства романа оценены невысоко, хотя о полном совпадении позиции критиков говорить все же не приходится. По мнению Писарева, «Женская доля» - плохой роман, с плоскими, картонными персонажами и надуманными идеями, максимально далекий от адекватного отображения русской жизни, сам факт публикации которого бесспорно позорен для «Современника».
«никто не может сравниться с г. Н. Станицким, по милости которого почтенный “Современник” так часто нагружается раздирательными романами. <...> Изучение г. Станицкого особенно интересно для нас потому, что этот писатель постоянно работает для “Современника” и постоянно уродует своим фразерством светлые и широкие идеи, которые развивали в этом журнале действительно мыслящие и дельные люди» [Писарев 1864, 2].
«Г. Станицкий усиливается доказать, что виновниками ее [Софьи Григорьевны, героини романа - Е.С.] несчастия были ее отец и ее муж, и весь роман пригоняется, таким образом, к тому заключению, что женщины терпят горькую муку от безнравственности грязных эгоистов, не вразумленных железными кольцами. <...> Что женщины терпят часто горькую муку - это правда; но главная и почти единственная причина их страданий заключается в их собственной неразвитости» [Писарев 1864, 18-19].
Взгляд Хвощинской, при полном, казалось бы, совпадении оценок с Писаревым, все же отличается: «Ни один из них [романов Станицкого -КС.], скажем прямо, не удовлетворяет в художественном отношении; их содержание многосложно, запутано, и автор справляется с ним с большим трудом. <.. .> Но под этой грубой работой - всегда убеждение; это набрасыванье - неизбежное последствие жаркого желания сказать скорее, сказать все; в этих резкостях всегда много житейской правды, поднятой <.. .> с болезненным чувством участия и негодования» [Поречников 1862, 37-38].
Итак, по мнению Хвощинской, Станицкий пишет дурно, его сюжетные ходы натянуты и неправдоподобны, характеры узнаваемы и карикатурны, но пишет искренне: «все эти падшие виноваты только в том, что доверились и любили... И тема даже не новая. Но г. Станицкий и не выдает ее за новость: он говорит от чувства правды и сострадания» [Поречников 1862, 38].
Сходно с Хвощинской мыслит и современная исследовательница
Дж. Гит, которая в своем сравнительно недавно опубликованном исследовании “Women of the 1830s and 1850s: alternative periodizations” называет романы Панаевой, наряду с прочими текстами (Е.А. Ган, Е. Тур и др.) «диагностическими», те. привлекающими внимание читательской аудитории к проблемам, насущным с авторской точки зрения [Gheith 2002, 88]. Неважно, что роман плох с эстетической точки зрения, утверждает ученый, важно, что он сосредоточен на общественно значимых вопросах, таких как «трудности жизни женщин в России, вред от светских сплетен, важность женского образования и пропасть между жизнью, описанной в книгах, и реальной жизнью» [Gheith 2002, 94] и пр.; и плохо, что Панаева не предлагает решения этих вопросов.
В самом ли деле роман Панаевой так плох, как утверждают критики и филологи? (К слову, отечественные исследователи прозы Панаевой, как правило, обходят стороной вопрос ее художественных достоинств) [Татаркина 2006, Бурмистрова 2012, Бурмистрова 2013]. Мне представляется, что одна из наиболее ценных вещей в романе - не сюжет или персонажи (они в самом деле не новы), а пресловутое «цицеронство», так раздражавшее Писарева, рассуждения автора, Станицкого, чья гендерная принадлежность не секрет ни для читателей, ни для критиков, о женской судьбе или доле (о гендерной составляющей повествования Панаевой см. [Vaysman 2021]).
«Позор и наказание - все обрушивается на одну женщину, которую часто так воспитывают, что она не имеет понятия о страшных последствиях любви. И разве девушек не уверяют, что дети родятся в кочне капусты или что их сестру в корзиночке принесли к их мамаше? Вот эта-то тупоумная щепетильность и облегчает развратникам доступ к их жертвам» [Станицкий 1862 а, 50].
«Анна Антоновна, ведя уединенную жизнь, развила в своей дочери идеальный взгляд на вещи и беспредельную веру в слова людей» [Станицкий 1862 а, 53].
Панаева как раз предлагает решение проблемы: правильное воспитание (и в этом смысле нет никакого расхождения с заключением Писарева). В финале романа, в третьей части, встречаются персонажи первых двух, и автор будто заостряет параллель между судьбами Софьи Григорьевны и Анны Васильевны. Последняя, незаконнорожденная героиня, мать которой соблазнили и бросили, воспитанная любящими крестными в труде и в скромности, не принимает ни одного неверного решения: «Вообще она смотрела на жизнь может быть дико, но совершенно противоположно взгляду людей, ее окружавших. Самостоятельность Анны Васильевны развилась в ней с детства, от нерутинного и честного воспитания, от знакомства с мрачными сторонами жизни и от труда, к которому и она готовилась» [Станицкий 1862 Ь, 542]. Софья Григорьевна, воспитанная в неведении и незнании людей, оказывается глубоко несчастной: «Участь Софьи Григорьевны, разумеется, была самая печальная: одиночество, болезни и нищета, потому что Петр Васильевич продал последнее имение, небольшими доходами которого она пользовалась, а Лакотников даже не помышлял дать хоть ничтожные средства ей на воспитание своих детей» [Станицкий 1862 с, 249-250].
Казалось бы, Панаева как человек, принадлежащий к кругу «Современника», должна в своем романе симпатизировать и одному из главных зарубежных авторов журнала, и гипотетическому «новому» человеку как герою, который должен являться носителем наиболее прогрессивных взглядов. Однако ситуация с прогрессивными взглядами в «Женской доле» выглядит неочевидной. Это либо «художнические» натуры, вроде Петра, мужа Софьи Григорьевны: «Петр Васильевич, супруг моей героини, мог смело причислять себя к художническим натурам. <...> Петр Васильевич если и помышлял о деятельности, то в возвышенном смысле» [Станицкий а 1862, 89-90]. Либо «мыслящие» люди, такие как Лакотников, которые говорят очень правильные вещи, но ведут себя гнусно: соблазняют замужнюю женщину, которая им доверятся, рожает детей вне брака и остается ни с чем, одновременно волочатся за другими, более молодыми особами и, наконец, женятся по расчету: «Да и сам Лакотников мог ли тогда так хорошо устроить свою жизнь? Мог ли он посещать так часто Европу, бывать в светских салонах русских бар и в то же время предаваться глубокой и благородной скорби о рабстве чехов и сербов? <...> Когда же досталось Лакотникову в зрелые годы владение душами, то он увидел, как было бы неблагоразумно освобождать эти души, потому что теперь он вполне согласился со многими умными людьми, что крестьяне дети, которым нужен руководитель и защитник» [Станицкий 1862 с, 210-211].
Либо это круг людей, исповедующих «свободные взгляды» на любовь и брак и так или иначе апеллирующих к Жорж Санд, но при этом выглядящих как пародия на нее. «Мы вас все горячо полюбили, вы нам дороги не по узам крови, а как член нашего маленького кружка, который - не есть случайность, а разумное соединение людей с одинаковым образом мыслей, с одинаковыми интересами в жизни», - говорит Надежда Кондратьевна Софье [Станицкий 1862 а, 94]. Друзья Павла Васильевича не принимают Софью, хотя и похотливо на нее поглядывают, она для них чужая, но описывают свое неприятие «идейной» лексикой:
«Мы только покажем ему, что он должен в энергической борьбе искать себе свободы и не поддаваться вредному влиянию.
- В борьбе человек крепнет духом, подхватил Сергей Игнатьевич.
- Да и способен ли ПВ впасть в филистерский кретинизм? задал вопрос Федор Федорович» [Станицкий 1862 а, 97].
Панаева следует за Жорж Санд в подходе к положению женщины в обществе, но одновременно изображает и пародию на бытовой жорж-зандизм: «В самом деле, что это за любовь, которая налагает на людей какие-то нелепые обязанности? То ли дело свобода чувств! Пожили вместе и покойно разошлись... <...> Пора и пора, повторяю я, перестать во имя каких-то ложных обязанностей, посягать на судьбу бедных мужчин и

мешать им - как можно чаще обновлять свои пламенные сердца новыми чувствами. Женщина, лишающая мужчину таких законных прав, достойна всеобщего порицания и поделом наказана, если бывает несчастна в жизни» [Станицкий 1862 а, 100].
Либо, наконец, это люди, якобы пекущиеся об общественных интересах, но при этом бесконечно далекие от русской жизни, в том числе и физически: «мороз придает бодрость тому, кто, целую ночь просидев за ужином, на другое утро встал с отуманенной головой <.. .>. Поверю также, что русская зима имеет приятность для тех, кто, закутавшись в собольи и медвежьи шубы, промчится на рысаках после длинного обеда в оперу. <...> Но крепко сомневаюсь, чтоб мороз придавал бодрость духа и тела ямщику, сидящему на козлах» [Станицкий 1862 Ь, 503-504].
Нет нужды говорить, что никто из этих категорий персонажей не вызывает хоть какую-нибудь авторскую или читательскую симпатию. Положение женщины, которое Панаева последовательно, на протяжении всего романа, сопоставляет с положением крепостных крестьян или негров на плантациях, показывая таким образом, что для нее это явления одного ряда, никак не улучшается от того, идейный человек с ней рядом или безыдейный подлец; в рассуждении женского вопроса между ними нет никакой разницы. (Кстати, статья Писарева может послужить ярким примером). Таким образом, Панаева тоже спорит с Жорж Санд как с идеологом, двигаясь как будто бы в том же направлении, что и Дж. Элиот. Но так ли это?
На первый взгляд, типологическое сопоставление романов Панаевой и Дж. Элиот, центральным персонажем которых является женщина («Женская доля» и, например, «Мельница на Флоссе») вполне оправданно: по структуре сюжета это Bildungsroman, причем именно мотив воспитания играет в произведениях ключевую роль. Счастливая и несчастливая судьба героинь «Женской доли» традиционно детерминистски обусловлена; Мэгги Талливер - героиня, не вписывающаяся в свою социальную среду, сформировавшаяся как личность вопреки среде, что отчасти предопределяет трагический финал романа. Правда, из подобного сопоставления не следует, что роман Панаевой ближе к реалистической поэтике, чем роман Дж. Элиот; в целом композиция «Женской доли» отдает искусственностью и некоторой театральностью, что отмечала в своей рецензии Хвощинская: «Положим, нет на свете такого проклятого угла, где бы судьба свела разом и скупого, жестокого эгоиста-старика, и его наследника - пустого, развратного фата, и даму без поведения, и ее приятелей, развратных фразеров-приживальщиков, и ее сына, сумасшедшего a la Hamlet. <.. .> Он свел своих страдалиц всех в одно место, в одно время - художественная ошибка, пожалуй, непростительная; но не мешает нам, чтоб получше поразмыслить, посмотреть на наших несчастных и падших, на наших miserables разом и в одном месте» [Перечников 1862, 38].
Однако усвоение творчества Жорж Санд как литературной модели в английском и в русском варианте происходило по-разному. Если для Дж. Элиот оно скорее представляло собой точку отталкивания -ив проблема- тике, и в поэтике, и в структуре сюжета, то для Панаевой это бы живой и актуальный объект полемики. Она спорит с Жорж Санд, в известной мере следуя ее манере письма, стилистике и эмоциональной окраске текста.
Традиционно принято рассматривать поэтику Панаевой, как и проблему «Жорж Санд - Дж. Элиот», сквозь призму развития реалистического направления и задаваться вопросом, в какой мере Санд и Панаева могут считаться реалистами (понятно, что касательно Дж. Элиот подобный вопрос не возникает). М. Коэн в своем исследовании французской женской прозы XIX в., констатируя наличие выдающихся образцов женского реалистического романа в английской традиции и отсутствие соответствия им в традиции французской, высказывает гипотезу, что специфику французского женского романа определяет его проблематика: «в фокусе авторского внимания - социальное зло, с которым женщина сталкивается в испорченном обществе» [Cohen 1995, 91]. Идеологическая составляющая текста становится основной проблемой повествования, влияющей и на структуру сюжета, и на специфику персонажей. Основываясь на этой концепции, X. Хоогенбоом анализирует эволюцию поэтики Н. Хвощинской в контексте как женского, так и реалистического романа, подчеркивая при этом, что писательница позиционировала себя как реалиста [Hoogenboom 2002, 142]. Так ее видели и современники, считая достойным и репрезентативным автором (см. письмо И.А. Гончарова от 23 января 1872 г.) [Гончаров 1955, 442-443]. Проблема реализма и типа письма Панаевой рассматривается и в новейшем исследовании М. Вайсман: «Женскую долю» автор считает женским реалистическим социальным романом. «Нехарактерный для русской прозы 1860-х гг, нарратив Панаевой представляется типичным для специфического женского письма. Как и в европейских национальных литературах, он появляется в женском романе, когда дебаты об эстетике реализма сливаются с дискурсом гендерного доминирования и подчинения» [Vaysman 2021, 245]. Не останавливаясь на гендерном подходе к художественному тексту, отметим некоторую неточность в предлагаемом обобщении: характерный жорж-сандовский нарратив не был общеевропейским явлением, что доказывает хотя бы пример Дж. Элиот.
Почему же Панаева, с самых первых своих произведений склонная к «критике действительности», все-таки ориентируется на Жорж Санд? Почему для ее это наиболее актуальная литературная модель? Отчасти этому обстоятельству можно предложить биографическое объяснение. Отношения Некрасова и Панаевой многократно описаны в исследовательской литературе, и их трудно свести только к уважению мужчины к женщине. Для людей, принадлежавших к кругу «Современника», Панаева была частью «тройчатки», «дамой без поведения» (по выражению Хвощинской), «Авдотьей стервой», но никак не личностью и не писателем. (С этой позиции написана рецензия Писарева, о которой речь шла вначале). Для исследователей творчества Некрасова - бесценным, хотя и недалеким свидетелем эпохи; так о ней отзывался К.И. Чуковский:
«Ее простенькую, незамысловатую душу всегда влекло к семейному уюту, к материнству. Она ведь была не мадам де Сталь, не Каролина Шлегель, а просто Авдотья, хорошая, очень хорошая русская женщина, которая случайно очутилась в кругу великих людей. <...> Мудрено ли, что эта элементарная, обывательски незамысловатая женщина запомнила и о Тургеневе, и об Аполлоне Григорьеве, и о Льве Толстом, и о Фете, и о Достоевском, и о Герцене лишь обывательские элементарные вещи, обеднила и упростила их психику. <...> Таково уж было ее воспитание. <...> Шестилетняя, семилетняя девочка (она родилась в марте 1819 г), она уже знала в подробности, кто с кем живет, кто кого содержит, у кого какой обожатель, кто кому наставил рога, и жадно впитывала в себя эту амурную грязь и запомнила ее на семьдесят лет» [Чуковский 2012, 297].
Однако Панаева не просто воспроизводит «амурную грязь»; она видит жизнь с той точки зрения, с которой ее не может увидеть писатель-мужчина. Если это и грязь, то грязь в традициях «неистовой словесности» или изображения «ужасной действительности» натуральной школой. Женщину воспринимают как предмет домашнего обихода, как необходимое удобство, как объект «аттракции» - как угодно, только не как самостоятельного человека; и это касается как людей отсталых, так и людей идейных, читателей Жорж Санд. Роман, написанный и опубликованный в знаковом 1862 г, в одном номере с рецензией М.А. Антоновича на «Отцов и детей», за год до романа «Что делать?», в разгар полемики о «новых людях», не то чтобы устраняется от актуальных дискуссий. Он лишь констатирует, что ничего не изменилось; что между теорией и жизненной практикой пропасть; и что освоение идей Жорж Санд не принесло женщине счастья.
Таким образом, рецепция творчества Ж. Санд Дж. Элиот и Панаевой происходит как будто в сходном направлении - в движении в сторону реалистического осмысления и отражения действительности. Однако если Элиот становится признанным классиком реализма, освоив наследие французской писательницы в контексте викторианской литературы, то Панаева, несмотря на близость к реализму, все же остается частью жорж-сандовской традиции. И если не ограничиваться объяснениями гендерного характера, на наш взгляд, дело в масштабе влияния французской романной традиции - настолько весомом, что, даже полемизируя со свой литературной моделью в сфере идеологии, Панаева не уходит от нее в сфере поэтики.
Список литературы Поэтика А.Я. Панаевой в компаративном аспекте: постановка проблемы
- Бурмистрова С.В. Семантика вещного мира в прозе А.Я. Панаевой // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2012. № 9 (124). С. 127-131.
- Бурмистрова С.В. «Петербургский текст» прозы А.Я. Панаевой // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. № 11 (139). С. 13-22.
- Гончаров И.А. Письмо Хвощинской Н.Д. (Заиончковской), 23 января 1872 г. Петербург // Гончаров И.А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: ГИХЛ, 1952-1955. Т. 8. Статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избранные письма. 1955. С. 442443.
- Кафанова О.Б. Любовный быт «людей сороковых годов» // Вестник Томского государственного университета. 1998. Т. 266. С. 78-87.
- Кафанова О.Б. Русская Жорж Санд: к 200-летию со дня рождения (статья первая) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2004. Вып. 3 (40). Серия: Гуманитарные науки (филология). С. 5-12.
- Кафанова О.Б., Соколова М.В. Жорж Санд в России: библиография русских переводов и критической литературы на русском языке (1832-1900). М.: ИМЛИ РАН, 2005. 589 с.
- Кафанова О.Б. Жорж Санд и начало разрушения патриархального сознания в русской литературе XIX века // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2006. Вып. 8 (59). Серия: Гуманитарные науки (филология). С. 31-37.
- Манн Ю.В. Тургенев - критик и литературовед // Манн Ю.В. Тургенев и другие. М.: РГГУ, 2008. С. 105-136.
- Писарев Д.И. Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби // Русское слово. 1864. № 8. Отд. 2. С. 1-58.
- Поречников В. Провинциальные письма о нашей литературе // Отечественные записки. 1862. Т. 142. № 5. С. 24-52.
- (а) Станицкий Н. Женская доля // Современник. 1862. Т. 92. № 3. С. 41-166.
- (b) Станицкий Н. Женская доля // Современник. 1862. Т. 92. № 4. С. 503561.
- (c) Станицкий Н. Женская доля // Современник. 1862. Т. 93. № 5. С. 207250.
- (а) Строганова Е.Н. Писательница и литературный канон: Жорж Санд в русском литературном сознании 1830-1870-х годов // Строганова Е.Н. Классики и современницы: гендерные реалии в истории русской литературы XIX века. М.: Литфакт, 2019. С. 27-40.
- (b) Строганова Е.Н. «Авдотья стерва»: Лев Толстой и Авдотья Панаева // Строганова Е.Н. Классики и современницы: гендерные реалии в истории русской литературы XIX века. М.: Литфакт, 2019. С. 297-305.
- Татаркина С.В. Творчество А.Я. Панаевой в литературном контексте XIX века: гендерный аспект: автореферат дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Томск, 2006. 26 с.
- Чуковский К.И. Некрасов и Авдотья Панаева // Чуковский К.И. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 8: Литературная критика. 1918-1921 / предисл. Е. Ивановой; коммент. Е. Ивановой и Б. Мельгунова. М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2012. С. 264303.
- Cohen M. In Lieu of a Chapter on Some French Women Realist Novelists // Spectacles of Realism: Gender, Body, Genre, ed. by M. Cohen and C. Prendergast. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995. P. 90-119.
- Eliot G. Adam Bede. Open Road Integrated Media, Inc., 2015. URL: http://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/detail.action?docID= (accessed 6.09.2021).
- Gheith J.M. Women of the 1830s and 1850s: Alternative Periodizations // Barker A.M., Gheith J.M. (Eds.). A History of Women's Writing in Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 85-99.
- Hoogenboom H. "Ya rab deistvitel'nosti": Nadezha Khvoschchinskaia, Realism, and the Detail // Vieldeutiges nicht-zu-ende-sprechen: Thesen und Momentaufnahmen aus der Geschichte russischer Dichterinnen. Fichtenwalde: Göpfert, 2002. P. 129-147.
- Leavis F.R. The Great Tradition. London: Chatto & Windus, 1948. 304 p.
- Parrinder P. Nation and Novel: The English Novel from its Origins to the Present Day. Oxford: Oxford University Press, 2006. 512 p.
- Schor N. Idealism in the Novel: Recanonizing Sand // Yale French Studies. 1988. № 75. The Politics of Tradition: Placing Women in French Literature. P. 56-73.
- Thomson P. The Three Georges // Nineteenth-Century Fiction. Sept. 1963. Vol. 18. № 2. P. 137-150.
- Vaysman M. A Woman's Lot: Realism and Gendered Narration in Russian Women's Writing of the 1860s // The Russian Review. 2021. № 80. P. 229-245.