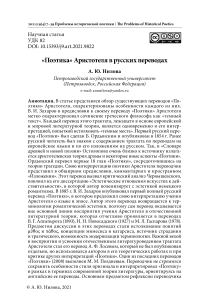"Поэтика" Аристотеля в русских переводах
Автор: Нилова Анна Юрьевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен обзор существующих переводов «Поэтики» Аристотеля, охарактеризованы особенности каждого из них. В. И. Захаров в предисловии к своему переводу «Поэтики» Аристотеля метко охарактеризовал сочинение греческого философа как «темный текст». Каждый перевод этого трактата, лежащего в основе европейской и мировой литературной теории, является одновременно и его интерпретацией, попыткой истолковать «темные места». Первый русский перевод «Поэтики» был сделан Б. Ордынским и опубликован в 1854 г. Ранее русский читатель был знаком с содержанием трактата по переводам на европейские языки и по его изложениям на русском. Так, в «Словаре древней и новой поэзии» Остолопова очень близко к источнику излагается аристотелевская теория драмы и некоторые иные аспекты «Поэтики». Ордынский перевел первые 18 глав «Поэтики», сосредоточившись на теории трагедии. Свою интерпретацию поэтики Аристотеля переводчик представил в обширном предисловии, комментариях и пространном «Изложении». Этот перевод вызвал критический анализ Чернышевского, повлиял на его диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности», в которой автор полемизирует с эстетикой немецкого романтизма. В 1885 г. В. И. Захаров опубликовал первый полный русский перевод «Поэтики», в котором предложил свою интерпретацию учения Аристотеля о языке и эпосе. Автор этого перевода возвращается к терминологии романтической эстетики, поэтому сам перевод оказывается вне основной линии восприятия учения Аристотеля в отечественной литературной теории, которая отчетливо проявляется в переводах В. Г. Аппельрота (1893), Н. Н. Новосадского (1927) и М. Л. Гаспарова (1978). Предметом дискуссии в этих переводах стали истолкование понятий μῦθος и πάθος, концепции мимесиса и катарсиса, источник страдания и трагического, возможность модернизации терминологии. Важной вехой в восприятии и усвоении отечественным литературоведением трактата Аристотеля стал его перевод А. Ф. Лосевым, который не был опубликован отдельно, но использовался автором в его теоретических работах и при критике других интерпретаций «Поэтики». Один из последних переводов «Поэтики» (2008) выполнен М. М. Поздневым. Переводчик не стремился сохранить особенности стиля оригинала и интерпретировал «Поэтику» в рамках и терминах современной теории литературы, ориентируясь на английские ее переводы. Основным предметом рефлексии переводчика являлось понимание Аристотелем сущности и феномена поэтического искусства. Переводы трактата греческого философа отражают историю становления и развития отечественной теории литературы, ее основных тем и терминологического аппарата.
Aristotle, poetics, translation, interpretation, terminology of literary criticism, imitation, purification, tragedy, epic, myth, twists and turns, recognition, pathos, passion
Короткий адрес: https://sciup.org/147236189
IDR: 147236189 | УДК: 82 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9822
Текст научной статьи "Поэтика" Аристотеля в русских переводах
«Поэтика» Аристотеля имеет исключительное значение в теории литературы. Она не только «во многом предопределила тезаурус и круг проблем традиционного литературоведения» [Захаров, 1992: 3], но и «стала истоком всей европейской литературной истории» [Аристотель и античная литература: 3]. Трактат Ареопагита был первой научной поэтикой [Захаров, 1992: 3], в которой ее автор «предложил формулу сущности поэтического жанра» [Миллер: 71] и «стремился определить литературу “в принципе”» [Позднев, 2017: 50]. Автор недавнего перевода «Поэтики» на русский язык, М. М. Позднев, указывает, что «количество ее изданий, переводов и работ о ней необозримо; даже исследования, посвященные исследованиям этого небольшого трактата, с трудом поддаются учету» [Позд-нев, 2017: 47]. Однако все исследователи «Поэтики» сходятся во мнении о ее сложности и даже противоречивости [Новосадский: 7–8], [Der neue Pauly: 1135–1139], [Лосев, 1975]. Так, В. И. Захаров, автор первого полного русского перевода «Поэтики», назвал ее «темным текстом» [Захаровъ, 1885: 29], А. Ф. Лосев, предприняв скрупулезный анализ противоречий в трактате, пришел к выводу о том, что «неточности, неопределенности и небрежность историко-литературных и теоретико-литературных указаний в “Поэтике” трудно обозримы ввиду своего множества» [Лосев, 1975: 463], и указал на «главную беду» изучения и интерпретации «Поэтики», заключающуюся в большом количестве читателей, «которые из уважения к высокому авторитету ее автора смотрели сквозь пальцы на сплошную противоречивость и сборный характер текста трактата, а то большей частью и совсем этого не видели» [Лосев, 1975: 460–461]. М. Л. Гаспаров также отмечает трудность для понимания и перевода эсотерических текстов Аристотеля и прежде всего «Поэтики» и объясняет это их стилистическими и функциональными особенностями: «стиль их — стиль конспекта, записей “для себя”, с приписками, вставками и опущением всего само собой подразумевающегося. Был ли это конспект “лекторский” или конспект “слушательский”, в какой мере принадлежит этот текст Аристотелю, а в какой его ученикам из Ликея, — вопрос, по-видимому, неразрешимый» [Гаспаров: 109]. Неясная история создания трактата, его сложная и драматичная судьба после смерти Аристотеля привели к тому, что комплекс текстологических проблем «Поэтики» по объему и сложности приближается к гомеровскому вопросу [Aristotle: 4–11]. Однако причина трудности понимания сочинения греческого философа, большого количества противоречий и неоднозначных определений кроется, вероятно, не только в неясном генезисе текста и его последующей порче, но и в самой эстетической концепции Аристотеля, который, по утверждению А. Ф. Лосева, воспринимал искусство диалектически, как выражение «становящегося бытия» [Лосев, 1975: 396]: «Дело заключается в том, что в сфере чистого разума мыслится не только чистое бытие, но и внутри-разумное становление, которое, являясь в основе бытием динамическим (потенциальным), переходит в бытие энергийное и завершается выразительной энтелехийной сферой. Аристотель здесь иной раз попросту говорит о сфере искусства как о сфере чистой возможности» [Лосев, 1975: 396]. Этим искусство отличается от науки как отражения «чистого бытия» и ремесла как «слепой и безотчетной деятельности» [Лосев, 1975: 401]. Динамичность и бесконечно становящийся характер жизни, которую миметически отражает искусство, порождает, вероятно, и динамичность и становящийся на протяжении всего текста аристотелевского трактата характер терминов «Поэтики». Как замечает философ, «правильность в поэзии и политике, в поэзии и любом другом виде искусства — вещи разные. <…> …если [поэт] сочиняет невозможное, он делает ошибку; но если [благодаря этому] он достигает вышеназванной цели искусства, то есть делает разительнее эту или иную часть произведения, то он поступает правильно» [Аристотель, 2017: 193]. Эти особенности как самого текста «Поэтики», так и эстетической концепции его автора приводят к тому, что каждый перевод трактата становится на только переводом в собственном смысле слова, но и интерпретацией его концепции искусства и основных категорий этой концепции.
Вопрос о степени знакомства древнерусского читателя с наследием Аристотеля является сложным и дискуссионным [Буланин: 77–80], [Агейкина], [Астапов], [Радциг: 36]. Еще до первого русского перевода фрагмента «Поэтики» на русский язык русские читатели были знакомы с основными положениями и терминами «Поэтики». С 1752 по 1813 гг. были опубликованы 5 переводов «Послания к Пизонам» Горация [Античная поэзия: 303], в котором отразилось учение Аристотеля о подражании и подобающем, целостности художественного произведения, рассуждения о трагедии и критике. Однако, в целом, «Гораций, — по мнению А. Ф. Лосева, — отличается от Аристотеля <…> своим дидактизмом и <…> субъективизмом» [Лосев, 1979: 426]. Также русскому читателю были знакомы трактат Н. Буало «Искусство поэзии», на который повлияли и «Поэтика» Аристотеля, и «Послание к Пизонам», переводы «Поэтики» на европейские языки, а также теоретические работы литераторов и критиков, так или иначе обращавшихся к наследию великого греческого философа. Н. И. Новосадский указывает на заимствования из «Поэтики» в сочинении В. Тредьяковского «Мысли о начале поэзии и стихов вообще» и ссылку на аристотелеву теорию поэзии в трагедии «Деидамия» [Новосадский: 29]. Также, по мнению Новосадского, «понятие о Поэтике Аристотеля русский читатели могли получить из книги Лагарпа “Ликей”, вышедшей в свет в 1810 г.» [Новосадский: 30]. А. Н. Грузинцев использует фрагмент рассуждений Аристотеля в предисловии к своей трагедии «Эдип-Царь» (1812 г.) [Новосадский: 30].
В 1821 г. был опубликован составленный Н. Ф. Остолоповым «Словарь древней и новой поэзии» в 3 частях (цензурное разрешение 9 июля 1820 г.). Автор работал над ним в течение 14 лет, с 1806 г., и неоднократно публиковал фрагменты своего труда в журналах «Санкт-Петербургский вестник» (1812 г.), «Вестник Европы» (1815 г.), «Труды Общества любителей российской словесности» (1817 г.). Несмотря на то, что трактат Аристотеля оказал значительное влияние на содержание словарных статей и общую концепцию словаря, вобравшего в себя материал сочинений европейских теоретиков-классицистов, он обычно не рассматривается в контексте русских переводов «Поэтики», о его генетической связи с трактатом Аристотеля кратко упоминает лишь Н. И. Новосадский в предисловии к своему переводу.
Остолопов определяет поэзию как «вымыселъ, основанный на подражаніи природѣ изящной и выраженный словами, расположенными по извѣстному размѣру — такъ какъ проза или краснорѣчіе есть изображеніе самой природы рѣчью свободною» [Остолоповъ, ч. 2: 400]. Иначе говоря, под поэзией он понимает ту часть словесного творчества, которая использует поэтические размеры и присоединяется к средневековой и классицистической традиции, которая вслед за последователями Аристотеля разделяла риторику как теорию прозы и поэтику (пиитику) как теорию поэзии. У самого Аристотеля такого разделения нет. По его суждению, то искусство, которое подражает словами без метра еще не имеет определения: «Ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνταί τινες ἀπεικάζοντες (οἱ μὲν διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ συνηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς, οὕτω κἀν ταῖς εἰρημέναις τέχναις ἅπασαι μὲν ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμονίᾳ, τούτοις δ᾽ ἢ χωρὶς ἢ μεμιγμένοις οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώμεναι μόνον ἥ τε αὐλητικὴ καὶ ἡ κιθαριστικὴ κἂν εἴ τινες ἕτεραι τυγχάνωσιν οὖσαι τοιαῦται τὴν δύναμιν, οἷον ἡ τῶν συρίγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ [μιμοῦνται] χωρὶς ἁρμονίας ἡ τῶν ὀρχηστῶν (καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις)· Ἡ δὲ [ἐποποιία] μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς καὶ ἡ τοῖς μέτροις
καὶ τούτοις εἴτε μιγνῦσα μετ᾽ ἀλλήλων εἴθ᾽ ἑνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων ἀνώνυμοι τυγχάνουσι μέχρι τοῦ νῦν· οὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγους οὐδὲ εἴ τις διὰ τριμέτρων ἢ ἐλεγείων ἢ τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν μίμησιν» [Aristotle: 165– 166]. Но далее он уточняет, что у Гомера и Эмпедокла, который тоже писал гекзаметрами, нет ничего общего, кроме метра, поэтому одного следует называть поэтом, а второго физиологом: «Πλὴν οἱ ἄνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν ἐλεγειοποιοὺς τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάζουσιν, οὐχ ὡς κατὰ τὴν μίμησιν ποιητὰς ἀλλὰ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προσαγορεύοντες· καὶ γὰρ ἂν ἰατρικὸν ἢ φυσικόν τι διὰ τῶν μέτρων ἐκφέρωσιν, οὕτω καλεῖν εἰώθασιν· οὐδὲν δὲ κοινόν ἐστιν Ὁμήρῳ καὶ Ἐμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον, διὸ τὸν μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν, τὸν δὲ φυσιολόγον μᾶλλον ἢ ποιητήν· ὁμοίως» [Aristotle: 166]. По мысли Аристотеля, не метр является главным отличающим признаком поэзии, а именно подражание при помощи ритма, слова и гармонии. Риторика же, по утверждению философа, не теория прозы (искусство, пользующееся голыми словами без метров, по его замечанию, не имеет названия), а способность говорить соответствующее делу и обстоятельствам «τὸ λέγειν δύνασθαι τὰ ἐνόντα καὶ τὰ ἁρμόττοντα, ὅπερ ἐπὶ τῶν λόγων» [Aristotle: 175]. В этом смысле монологи и состязания в речах персонажей трагедии, описываемой поэтикой, вполне входят в сферу риторики. Ярким примером здесь может служить речь Электры во втором эписодии одноименной драмы Софокла, еще в древности признанная образцом ораторского искусства.
Другим отличием поэзии от прозы, по мысли Остолопова, является противопоставление истины и правдоподобия: «Ораторъ говоритъ только истину съ убѣдительною силою и простотою, а поэтъ изображаетъ правдоподобное съ поразительною прiятностію, которая плѣняетъ и съ тѣмъ вмѣстѣ потрясаетъ душу» [Остолоповъ, ч. 2: 400]. Понимая всю проблематичность такого противопоставления поэзии и прозы и невозможность согласовать с ним наличие романов, которые суть «вымыслы піитическіе, представленные въ простой одеждѣ прозы» [Остолоповъ, ч. 2: 400], и исторических и дидактических поэм, автор словаря использует классификацию итальянского теоретика Maggio, разделившего поэзию на три степени в зависимости от соотношения вымысла и прозаической или поэтической формы [Остолоповъ, ч. 2: 401], и ссылается на немецкого автора Буттверка, утверждавшего, что «каждое изящное произведеніе искусства должно первоначально быть вымысломъ (Gedichte), прекраснымъ произведеніемъ Фантазіи» [Остолоповъ, ч. 2: 401–402]. Тем не менее противопоставление прозы и поэзии на основании истины и правдоподобия имеет образец в рассуждении Аристотеля о превосходстве поэзии над историей на том основании, что поэт говорит не о случившемся, но о том, что могло случиться по вероятности или необходимости («правдоподобном» в терминологии Остолопова): «Φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ὅτι οὐ τὸ τὰ γενόμενα λέγειν, τοῦτο ποιητοῦ ἔργον ἐστίν, ἀλλ᾽ οἷα ἂν γένοιτο καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον. Ὁ γὰρ ἱστορικὸς καὶ ὁ ποιητὴς οὐ τῷ ἢ ἔμμετρα λέγειν ἢ ἄμετρα διαφέρουσιν (εἴη γὰρ ἂν τὰ Ἡροδότου εἰς μέτρα τεθῆναι καὶ οὐδὲν ἧττον ἂν εἴη ἱστορία τις μετὰ μέτρου ἢ ἄνευ μέτρων) ἀλλὰ τούτῳ διαφέρει, τῷ τὸν μὲν τὰ γενόμενα λέγειν, τὸν δὲ οἷα ἂν γένοιτο» [Aristotle: 179]. Далее, ссылаясь на Аристотеля, Остолопов замечает (очень близко к первоисточнику, практически цитируя его), что стихотворная форма не является единственным признаком поэзии: «Аристотель говоритъ, что проза и стихи не отличаютъ историка отъ поэта: хотя бы вы переложили, продолжаетъ сей философъ, всѣ Иродотовы сочиненія въ стихи, не вышло бы изъ нихъ ни одной поэмы» [Остолоповъ, ч. 2: 402]. По его мнению, «сущность поэзіи состоитъ въ вы-мыслѣ или творчествѣ, подражающемъ1 изящной природѣ» [Остолоповъ, ч. 2: 403]. «Изящную природу» он определяет не как «истинное существующее, но истинное могущее существовать, истинное избранное, изящное, и представленное такъ, какъ оно въ самомъ дѣлѣ существовало — со всѣми совершенствами, какія только принять оно можетъ» [Остолоповъ, ч. 2: 404], т. е. не конкретные факты жизни, а ее закономерности. Подражать же изящной природе, по мысли Остолопова, значит представлять предмет «въ такомъ совершенномъ видѣ, въ какомъ только можно его вообразить, не смотря на то, существуетъ ли онъ дѣйствительно, или только можетъ сущестовать» [Остолоповъ, ч. 2: 404]. Остолопов понимает сущность поэзии вслед за Аристотелем, однако считает «составленіе стиховъ» необходимым «для совершеннаго изображенія предметовъ» и на этом основании противопоставляет поэзию и прозу, что не было актуально для времени Аристотеля.
Аристотелевский термин «подражание» Остолопов использует и для описания трагедии и комедии. Трагедию он определяет как подражание действием: «и такъ трагедія есть поэма2, подражающая дѣйствіемъ, или, что равно, представляющая дѣйствіе героическое и несчастное» [Остолоповъ, ч. 3: 279]. Однако, в отличие от античного философа и вслед за классицистической традицией, он указывает в качестве нравственной цели трагедии внушение отвращения «къ великимъ преступ-леніямъ, и любви къ высокимъ добродѣтелямъ» [Остолоповъ, ч. 3: 279]. Он говорит о назидательной функции трагедии, которой не было у Аристотеля. Остолопов не использует термин Аристотеля «катарсис» или какой-либо его перевод, но говорит, ссылаясь на Расина, об удовольствии, которое приносит трагедия, вызванном переживаемой зрителем «горестію». Не используя термин, Остолопов мельком, но все же характеризует его суть — удовольствие от собственного изменения в результате воздействия трагедии. Вслед за Аристотелем он утверждает, что трагедия должна вызывать ужас и сострадание и определяет их, ссылаясь на греческого философа, а также указывает, что успех трагедии зависит от непрерывного нарастания ужаса и вызываемого им сострадания до тех пор, пока они «не достигнутъ высочайшей степени» [Остолоповъ, ч. 3: 284]. Для того чтобы трагедия вызвала ужас и сострадание, она, по мысли автора словаря, должна изображать несчастное происшествие, однако источником сострадания является не происшествие само по себе, а лица (т. е. герои трагедии) и отношения между ними. Так же как и Аристотель [Aristotle: 184], Остолопов утверждает, что ужас и сострадание возникнут только в том случае, если «лице, въ которомъ пріемлемъ сильнѣйшее участіе <…> было, или преступно, но нѣсколько добродѣтельно, или добродѣтельно, но нѣсколько виновно. Оно будет преступнымъ, но совершитъ преступленіе, не имѣя привычки къ злодѣйству: его доведетъ до онаго скоропреходящая злоба, или чрезмѣрность страсти, имѣющей похвальное начало, и потому несчастіе, въ которое оно ввержено, возбудитъ наше состраданіе, не возбуждая ненависти» [Остолоповъ, ч. 3: 286]. Далее снова близко к Аристотелю и ссылаясь на него, Остолопов перечисляет отношения между действующими лицами, которые могут привести к катастрофическому результату. Он утверждает, что сострадание возникнет только в том случает, если убьют или попытаются убить друг друга люди, связанные родством, дружбой или «взаимными выгодами». Автор словаря выделяет две системы трагедии: древнюю и новую, и утверждает, что в древней трагедии несчастья главного героя вызваны внешними причинами: судьбой или гневом богов, поэтому он является «невольником судьбы» [Остолоповъ: 3, 311], в то время как причиной страданий героя новой трагедии являются его собственные страсти. Характеристика героя древней, т. е. античной трагедии как «невольника судьбы» противоречит концепции Аристотеля, который называл причиной трагедии героя не судьбу или рок (в этом случае герой оказывается невинной жертвой этой судьбы и не выполняется главное условие возбуждения ужаса и сострадания: очевидной виновности героя), а собственную ошибку или грех героя (ἁμαρτία): «πρῶτον μὲν δῆλον ὅτι οὔτε τοὺς ἐπιεικεῖς ἄνδρας δεῖ μεταβάλλοντας φαίνεσθαι ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν, οὐ γὰρ φοβερὸν οὐδὲ ἐλεεινὸν τοῦτο ἀλλὰ μιαρόν ἐστιν· οὔτε τοὺς μοχθηροὺς ἐξ ἀτυχίας εἰς εὐτυχίαν, ἀτραγῳδότατον γὰρ τοῦτ᾽ ἐστὶ πάντων, οὐδὲν γὰρ ἔχει ὧν δεῖ, οὔτε γὰρ φιλάνθρωπον οὔτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβερόν ἐστιν οὐδ᾽ αὖ τὸν σφόδρα πονηρὸν ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταπίπτειν· τὸ μὲν γὰρ φιλάνθρωπον ἔχοι ἂν ἡ τοιαύτη σύστασις ἀλλ᾽ οὔτε ἔλεον οὔτε φόβον, ὁ μὲν γὰρ περὶ τὸν ἀνάξιόν ἐστιν δυστυχοῦντα, ὁ δὲ περὶ τὸν ὅμοιον, ἔλεος μὲν περὶ τὸν ἀνάξιον, φόβος δὲ περὶ τὸν ὅμοιον, ὥστε οὔτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβερὸν ἔσται τὸ συμβαῖνον. Ὁ μεταξὺ ἄρα τούτων λοιπός. Ἔστι δὲ τοιοῦτος ὁ μήτε ἀρετῇ διαφέρων καὶ δικαιοσύνῃ μήτε διὰ κακίαν καὶ μοχθηρίαν μεταβάλλων εἰς τὴν δυστυχίαν ἀλλὰ δι᾽ ἁμαρτίαν τινά…» [Aristotle: 184]. Именно ἁμαρτία, по мысли Аристотеля, и является причиной страдания персонажа, которое вызывает сострадание, но не удовлетворение справедливым возмездием или возмущение из-за несправедливого наказания.
Ссылаясь на Аристотеля, Остолопов выделяет четыре вида трагедии: простую, сложную, страстную и нравственную, говорит о таких частях трагедии, как завязка, развязка, эпизод, переворот и узнавание, которые описываются в самостоятельных статьях, поскольку воспринимаются автором словаря как элементы не только трагедии, но и комедии и эпической поэзии.
Комедию Остолопов определяет как «предложенное въ дѣйствіи подражаніе нравовъ, пороковъ, обыкновенiй, странностей, видимыхъ между людьми» [Остолоповъ, ч. 2: 45]. Аристотель утверждал, что смешное — только часть безобразного, никому не причиняющего страдания, точно так же, как комическая маска безобразна, но без страдания: «Ἡ δὲ κωμῳδία ἐστὶν ὥσπερ εἴπομεν μίμησις φαυλοτέρων μέν, οὐ μέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριον. Τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης» [Aristotle: 172]. Остолопов вслед за Аристотелем определяет сферу комического и отграничивает ее от безобразного: «…пороки тогда только принадлежатъ Комедіи, когда они могут заставить смѣяться. Стихотворецъ обязанъ сокрыть все то, что могутъ они имѣть низкаго, презрительнаго, возбуждающаго негодованіе. Въ комедіи никогда не должны мы видѣть человѣка порочнаго въ такомъ положеніи, которое могло бы произвести въ насъ ужасъ или соучастіе» [Остолоповъ, ч. 2: 46]. Говорит Остолопов и о цельности, естественности действия комедии, выделяет узнавание, завязку и развязку как ее обязательные части.
Понимая поэзию как подражание и определяя трагедию и комедию как подражание действием различным сферам действительности, Остолопов характеризует эпическую поэму как «повѣствованіе въ стихахъ о какомъ либо знаменитомъ или достопамятномъ дѣяніи» [Остолоповъ, ч. 1: 454]. Вряд ли здесь можно говорить о неудачном выражении, поскольку ниже автор словаря приводит определение эпической поэмы Торквато Тассо и особо уточняет, что итальянский поэт «нѣсколько рас-пространяетъ сіе опредѣленіе», особо выделяя слово подражение: «Поэма Героическая, говоритъ онъ (Торквато Тассо. — А. Н.), есть подражаніе дѣянія знаменитаго, величественнаго и полнаго <…>, повѣствуемое высокимъ слогомъ, служащее къ потрясенію души чудесностями и услаждающее оную пріятностями» [Остолоповъ, ч. 1: 454]. Определение эпической поэмы собственно Остолопова позволяет сблизить ее с историческим повествованием, которое, даже имя стихотворную форму, не является подражанием изящной природе, поэтому ниже он указывает различия между поэмой и историей: «Исторiя и поэма различны между собою какъ въ предметахъ, такъ и въ формахъ; поэма требуетъ подражанія (NB! требует, но не является таковым. — А. Н.); исторія повѣствованія. Поэмѣ принадлежитъ правдоподобіе, исторіи — настоящая истина» [Остолоповъ, ч. 1: 475]. Описывая специфические особенности эпической поэмы, Остолопов неоднократно возвращается к идеям Аристотеля и иногда прямо ссылается на него, говоря о единстве повествования, цельности, логическом соединении начала, середины и конца, отличиях от трагедии. Здесь же он упоминает о значимом для аристотелева понимания искусства допущении в поэтическом произведении фантастического и чудесного [Aristotle: 210–211], [Остолоповъ, ч. 1: 463], а также вслед за Аристотелем называет гекзаметр наиболее подходящим размером эпической поэмы.
Описывая трагедию, комедию и эпическую поэму, Остолопов всегда говорит об их языке и предлагает описание их развития в истории европейской и русской литературы, а также краткий критический анализ конкретных произведений. Однако он не упоминает о роли личности автора в создании произведения, также он оставляет без внимания вопросы литературной критики, изложенные в XXV главе «Поэтики». В основе понимания Остолоповым поэзии и ее видов, таких как трагедия, комедия и эпическая поэма, лежит концепция Аристотеля, хорошо известная автору словаря и дополненная идеями Горация и европейских классицистов. Частые ссылки автора словаря на греческого философа позволяют сделать вывод, что его литературная теория была в целом известна русскому читателю и пользовалась авторитетом. Остолопов часто сопоставляет точки зрения различных новоевропейских теоретиков, полемизирует с ними, но никогда не оспаривает мнение Стагирита.
Первой попыткой перевести трактат Аристотеля на русский язык стал перевод XXV главы «Поэтики», выполненный А. Г. Глаголевым и опубликованный в Ч. 16 за 1819 г. «Трудов Общества любителей российской словесности при Московском университете» [Глаголевъ, 1819]. Этот перевод, как и интерпретация идей Аристотеля Остолоповым, обычно игнорируется исследователями переводов «Поэтики» и упоминается только в работах Е. В. Орлова и О. С. Егоровой [Орлов: Перечень переводов…], [Егорова]. Переведенная Глаголевым глава посвящена вопросам критики и ее роли в творчестве автора, т. е. тем аспектам, которые не получили освещения в словаре Остолопова. Переводчик обратился к этому фрагменту «Поэтики» в процессе полемики о критике, начатой в «Трудах Общества любителей российской словесности» Л. А. Цветаевым, который в Ч. 5 за 1816 г. опубликовал статью «О нравственных качествах критика» [Цветаевъ]. В статье Цветаев рассуждает о беспристрастности критика и указывает на значимость справедливой критики для просвещения. Тема, поднятая в статье Цветаева, вызвала живой интерес членов Общества и получила свое дальнейшее развитие в опубликованном в Ч. 8 за 1817 г. письме С. Саларева «Некоторые замечания о критике» [Саларевъ]. В этом письме С. Саларев говорит о важности критики в любой сфере деятельности и отмечает, что каждый вид деятельности судится в соответствии с собственными правилами. В суждении о поэзии, замечает он, следует придерживаться пиитики. Он следует концепции нормативной поэтики, что противоречит содержанию «Поэтики» Аристотеля. Основной критерий, которому должна удовлетворять критика, по утверждению С. Саларева, — это соответствие изображаемого истине, жизни и природе, а при суждении о поэтическом произведении критик должен придерживать меры, поскольку как излишняя похвала, так и чрезмерная критика могут равно навредить автору [Саларевъ: 60–63]. Следуя классицистическому пониманию пиитики как свода правил, Саларев соглашается с аристотелевым пониманием поэзии как подражания действительности и горацианским отношением к критике и ее роли в творчестве поэта.
Свой перевод фрагмента трактата Аристотеля Глаголев называет «Изъ Аристотелевой Піитики. О критикѣ и способѣ отвѣчать на нее», присоединяясь к классицистическому пониманию выражения «Περὶ ποιητικῆς». В отличие от всех последующих переводчиков, Глаголев не дает пространного комментария к своему переводу, ограничиваясь краткими замечаниями в сносках. Он указывает, что поводом к переводу послужило «Рассуждение о нравственных качествах критика» Л. А. Цветаева. Имея ввиду известные особенности стиля «Поэтики», Глаголев замечает, что «трактатъ Аристотеля не можетъ принести удовольствiя Любителямъ Словесности; но нельзя сказать, чтобы онъ при всей сухости не былъ занимателенъ» [Глаголевъ, 1819: 160]. Е. В. Орлов разделяет переводы сочинений Аристотеля на два типа. Первый — «для первоначального знакомства с творчеством Аристотеля, т. е. для студентов», эти переводы можно делать правильным литературным языком воспринимающего субъекта. Второй тип — переводы для исследователей, для которых важна собственная интерпретация оригинального текста, эти переводы требуют особого философского языка, позволяющего понимать «смыслы», которые он (философ. — А. Н.) «имеет в виду», «употребляя то или иное слово» [Орлов, 2007: 52–54]. Предлагаемый фрагмент Глаголев воспринимает как пример отношения древних к литературной критике, поэтому основной его целью является не решение терминологических проблем и не интерпретация сложных мест трактата, как это будет позднее, а знакомство читателей с идеями греческого философа. Он стремится передать основное содержание трактата, сделав перевод как можно более понятным. Глаголев компенсирует «темноту» текста Аристотеля за счет отказа от буквального перевода в пользу пересказа основного содержания, пусть и близко к оригиналу, тем более что скептическое отношение к стилю греческого философа позволяет переводчику пренебречь точностью. Отказ от терминологической точности и отсутствие у переводчика в данном случае интереса к деталям аристотелевой концепции проявляется и в том, что Глаголев отождествляет поэзию с «подражанием метрами», игнорируя более острожный подход к этой проблеме в «Словаре» Остолопова. Там, где одного пересказа правильным русским языком не хватает для прояснения содержания фрагмента, Глаголев прибегает к комментариям в сносках. Так, например, он перечисляет в сноске различные предметы подражания, которые невозможно восстановить из текста переводимого фрагмента без обращения к содержанию предыдущих глав [Глаголевъ, 1819: 160–161]. Также в сноске переводчик объясняет различие в понимании сути подражания у Платона и Аристотеля.
Перевод главы «Поэтики» — не единственный случай обращения Глаголева к трактату Аристотеля. Литературно-теоретические взгляды греческого философа становились предметом осмысления критика в таких его работах, как «Умозрительные и опытные основания словесности» в 4 ч. [Глаголевъ, 1834], «Рассуждение о греческой трагедии» [Глаголевъ, 1820], полемических статьях в «Трудах Общества любителей российской словесности».
«Поэтика» Аристотеля стала предметом анализа в сочинении С. Шевырева «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (1836 г.), в котором автор не только анализирует основные положение трактата, но и приводит обширные цитаты на греческом языке и свой перевод некоторых фрагментов [Шевыревъ: 33–57]. Н. И. Новосадский предположил, что «Шевырев изучал Поэтику несомненно в оригинале, а не во французском или немецком переводе. Об этом свидетельствует близость его перевода к тексту и параллельные выписки из текста на греческом языке» [Новосадский: 31]. В 1841 г. была опубликована статья В. Белинского «Разделение поэзии на роды и виды». Непосредственное и опосредованное (через работы западноевропейских и русских теоретиков) влияние трактата Аристотеля на нее очевидно. Особо значимым является то, что Белинский, в отличие от предшественников, не отождествляет поэзию со стихами: предметом описания становятся как поэтические (в смысле «подражания метрами»), так и прозаические произведения [Белинский: 305–350].
В 1854 г. отдельным изданием был опубликован перевод «Поэтики», выполненный Б. Ордынским («О Поэзіи». Сочиненіе Аристотеля. Перевелъ, объяснилъ и изложилъ Б. Ордынскій) [О Поэзiи]. Он стал первым научным и критическим переводом трактата на русский язык. В своей работе переводчик опирался на издания «Поэтики» Беккера, Германа, Грефенгана, Риттера, переводы Вальца и Вейзе, исследования Дюнцера, Гертунга, Е. Миллера, Раумера и Еггера [Ордынскiй, Предисловiе: V]. Кроме того Ордынский указал на свою зависимость от Лессинга и признался, что «мѣстами цѣликомъ выписывалъ слова его» [Ордынскiй, Предисловiе: V]. Целью перевода было «установить текстъ и объяснить прямой смыслъ самой Піитики» [Ордынскiй, Предисловiе: III], а также «возможно точное выраженiе не только мыслей Аристотеля, но и оттѣнковъ ихъ» [Ордынскiй, Предисло-вiе: V–VI]. Именно этим стремлением к точности, а также сложностью и фрагментарностью текста переводчик объяснял особенности своего подхода к переводу трактата: первые 18 глав «Поэтики», которые представлялись связным изложением «свойствъ поэзiи вообще и трагедiи въ особенности» [Ордынскiй, Предисловiе: VI], Ордынский перевел, сопроводив «Предисловием», «Примечаниями» и подробным «Изложением», а оставшиеся 8 пересказал очень близко к тексту, перемежая комментированный пересказ переводами фрагментов глав. В «Предисловии» Ордынский кратко охарактеризовал текстологические проблемы, отметил невозможность точной передачи важнейших терминов ввиду отсутствия в русском языке эквивалентов, поэтому он поместил в скобки основные термины на греческом языке, предвосхищая ставший популярным в XX в. «метод “квадратных скобок”» [Орлов, 2007: 51], [Васильева: 152].
В «Изложении» Ордынский уделяет особое внимание проблеме перевода названия трактата и связанной с ней проблеме интерпретации термина ἡ ποιτκή, который он передает как творчество, творческое искусство [Ордынскiй, Изложеніе: 43], и утверждает, что во всех случаях, где это слово встречается, оно «можетъ быть замѣнено словомъ ποίησιϛ» [Ордынскiй, Изложенiе: 43]. Эта возможность замены отразилась и в тексте перевода, когда он объясняет слово поэт словом творец [Ордынскiй, Изложенiе: 41]. Такое понимание термина ἡ ποιτκή позволяет Ордынскому оспорить традиционный перевод названия трактата «Περὶ ποιητικῆϛ» как «Пiитика» и предложить перевод «искусство творить», «творчество» [Ордынскiй, Изложеніе: 41]. Это, по мысли переводчика, решило бы проблему понимания трактата Аристотеля как описания исключительно поэзии в стихотворной форме, что ко времени публикации перевода воспринималось как анахронизм, но не находило решения. Из прочих терминов особое внимание Ордынский уделяет тем, которые до сих пор представляют наибольшую сложность для интерпретаторов: μίμησις, μῦθοϛ, κάθαρσις. Μίμησις он называет основой поэзии, поскольку в греческом языке это слово обозначает не только подражание, но и вообще образное мышление, воображение, что находит отражение еще у Платона
[Ордынскiй, Изложеніе: 57]. Ордынский указывает, что под термином μῦθοϛ принято понимать содержание или сюжет, но предлагает переводить этот термин Аристотеля как «вымысел»: «Вымысломъ, μῦθοϛ, называетъ Аристотель то, что мы называемъ 1) содержанiемъ и 2) сюжетомъ. Послѣднее слово едва ли замѣнимо русскимъ словомъ; не менѣе насъ затруднялся въ этомъ отношеніи и Аристотель. Онъ по всей вѣроятности первый усвоилъ слову μῦθοϛ то значеніе, которое имѣетъ оно въ разбираемомъ нами сочиненіи и которое я рѣшился придать нашему слову: вымыселъ ; оно, мнѣ кажется, точнѣе и опредѣленѣе басни, фабулы » [Ордынскiй, Изложеніе: 77]. Κάθαρσις переводчик однозначно понимает как очищение страстей [О Поэзіи: 8], и в объяснении этого термина придерживается теории Лессинга, что, по наблюдению М. М. Позднева, к моменту публикации перевода являлось очевидным анахронизмом [Позднев, 2010: 482]. Ордынский не уделяет внимание понятию рока и судьбы, не использует он и тезаурус немецкой романтической эстетики, избегая определений «мрачное», «безобразное», «блаженное», присутствующих также и в трудах Остолопова и Белинского, не указывает на любовь и чувства как причину трагической катастрофы.
Перевод Ордынского вызвал полемическую статью Н. Г. Чернышевского, затем последовала их дискуссия на страницах журнала «Москвитянин». Свободно владевший латинским и древнегреческим языками Чернышевский, безусловно, был знаком с трактатом Аристотеля на латинском и греческом языках, без посредства европейских переводчиков — «Поэтика» нашла отражение в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», в частности, в рамках полемики с немецкой эстетикой по поводу роли рока в трагедии [Чернышевский, 1950b]. Не возражая Ордынскому по поводу содержания перевода и интепретации основных терминов — возражение критика вызывает только перевод названия трактата [Чернышевский, 1950a: 317] — Чернышевский упрекает переводчика в тяжеловесности и темноте слога и тенденциозности комментариев: «Перевод г. Ордынского очень тяжел и темен, а комментарий написан почти только в доказательство личных мнений переводчика, утверждающего, что аристотелева книга «О поэтическом искусстве» дошла до нас вполне, а не в отрывочном извлечении, как думают обыкновенно3, и что текст этого сочинения, или извлечения, не испорчен и не нуждается в исправлении» [Чернышевский, 1950a: 328]. Критик продолжает: «Не отступая от подлинника далее, нежели отступает г. Ордынский, можно было дать перевод ясный и удобочитаемый» [Чернышевский, 1950a: 333]. Эти, на первый взгляд, субъективные замечания Чернышевского поставили очень серьезную проблему, которая остается нерешенной и в настоящее время: как переводить философские сочинения Аристотеля, где граница необходимого буквализма передачи стиля оригинала и допустимой вольности интерпретации, как разграничить теорию философа и ее рецепцию переводчиком? Перевод Ордынского стал первой попыткой создания философского языка для перевода «Поэтики» на русский язык.
В 1885 г. в Варшаве был опубликован первый полный русский перевод «Поэтики», выполненный В. И. Захаровым. В отличие от Ордынского, переводчик не указывает источник своего перевода, однако ссылается в основном на французские издания трактата и греческих трагедий и даже немецкого исследователя и переводчика Раумера цитирует по французскому переводу, симптоматично замечая, что не имел немецкого подлинника [Захаровъ, 1885: 20]. Автор перевода использует название, ставшее впоследствии традиционным — «Поэтика», а также обращается к форме издания перевода, которую использовал Б. Ордынский: тексту переводу трактата предшествует обширное «Вступление», затем следует сам перевод, после которого автор предлагает пространные «Примечания». «Вступление» содержит подробное изложение истории текстов Аристотеля и их рецепции в европейской традиции, объяснение содержание трактата, его интерпретацию переводчиком. Особое внимание здесь он уделяет термину «очищение» и приводит наиболее важные, с его точки зрения, интерпретации этого термина в европейской традиции. В «Примечаниях» комментируются конкретные выражения, термины, реалии и фрагменты текстов, которые использует Аристотель. Захаров учитывает замечания, высказанные Чернышевским в адрес перевода Ордынского: его перевод выполнен правильным языком и местами далеко отходит от стиля оригинала, но, как и его предшественник, В. И. Захаров использует греческие термины, которые позволяют ему сохранить общее единство терминологии, поскольку для самого перевода и комментариев характерна терминологическая нестабильность, которая иногда приводит к абсурду. Так в XV главе он употребляет термины «нравы» и «характеры» как синонимичные и передает мысль Аристотеля о проявлении характера в действиях и решениях следующей фразой: «Нравы вообще возникаютъ, когда дѣйствующее лицо словомъ или дѣломъ объявляетъ свой нравственный принципъ» [Поэтика Аристотеля: 75]. В «Примечаниях» Захаров использует термин «характер». Как синонимы он употребляет и термины «фабула» и «миф», игнорируя аргументы Ордынского и присоединяясь к общей тенденции передачи термина Аристотеля. Также двояко Захаров передает термин μίμησις — как подражение и как воспроизведение. Термины ποίησις или Περὶ ποιητικῆς не представляют для Захарова такой проблемы, как для Ордынского или Остолопова, более того, в начале XXVI главы он говорит не о поэзии, а о литературе вообще: «Слѣдующее разсужденіе намъ уяснитъ, сколько трудныхъ вопросовъ воздвигаетъ литтературѣ критика, какого они свойства и какъ должно приступать къ ихъ рѣшенію» [Поэтика Аристотеля: 93].
Перевод В. И. Захарова вызвал несколько отзывов, опубликованных в «Журнале Министерства Народного Просвещения», в том числе и крайне негативную рецензию А. Карнеева [Карнеевъ], в которой критик представил скрупулезный разбор перевода. Кроме указания на множество мелких неточностей и неудачных оборотов Карнеев отмечает, что значительная часть вступления заимствована из статьи Шустера «Поэтика Аристотеля» [Шустеръ], а также обращает внимание на неудачный, с точки зрения критика, перевод аристотелева определения трагедии. В. И. Захаров переводит фразу Аристотеля «δι’ έλέου και φόβου περαίνουσα των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν» [Aristotle: 173] следующим образом: «имѣющее конечною цѣлію возбужденіемъ въ зрителяхъ страха и жалости даровать имъ чистое эстетическое наслажденіе» [Поэтика Аристотеля: 61]. Такой перевод дает повод критику обвинить переводчика в непонимании текста Аристотеля, незнании современных теорий катарсиса и пуститься в пространное рассуждение на эту тему. Как отметил М. М. Позднев, обзор теорий катарсиса, предпринятый Карнеевым, грешит еще большими ошибками, чем их выборочный анализ у Захарова
[Позднев, 2010: 513]. Более того, критик не заметил, что в предисловии Захаров дает близкий к тексту и более традиционный перевод этого фрагмента: «Трагедію Аристотель опредѣляетъ такимъ образомъ: “трагедія есть воспроизведеніе событія важнаго, полнаго, достаточно продолжительнаго, въ словѣ пронизанномъ чарами изящнаго, выступающими раздѣльно въ ея частяхъ, воспроизведеніе событія не въ разсказѣ, а въ дѣйствіи, имѣющимъ конечною цѣлію возбужденіемъ въ зрителяхъ страха и сострада-нія даровать имъ чистое эстетическое наслажденіе”. Дословно “возбужденіемъ страха и состраданія очищать эти и имъ подобные аффекты”» [Захаровъ, 1885: 19]. Отход от общепринятого варианта перевода продиктован гедонистической теорией катарсиса, которой придерживается переводчик [Позднев, 2010: 513], [Лосев, Шестаков: 94]. Автор перевода возвращается к терминологии романтической эстетики и представляет собой скорее «парафразу» (определение Карнеева [Карнеевъ]) или интерпретацию, чем собственно перевод. Этот перевод находится вне основной линии восприятия наследия Аристотеля отечественным литературоведением.
Несоответствие перевода В. И. Захарова подлиннику было отмечено В. Аппельротом, который в 1893 г. опубликовал свой перевод «Поэтики». Этот перевод, по словам автора, адресован студентам-филологам и гимназистам [Аппельротъ: III] и предназначен для первичного знакомства с идеями и терминами Аристотеля. Он выполнен правильным литературным языком, но близок к оригиналу. В первом издании русский текст сопровождался греческим «чтобы всякій желающій могъ ознакомиться и съ подлинными выраженіями той или другой мысли у великаго Стагирита» [Аппельротъ: III]. Также Аппельрот впервые использует в своем переводе нумерацию Беккера, позволяющую сопоставлять переведенные фрагменты с первоисточником и другими переводами. Издание имеет традиционную структуру: «Предисловие», сам перевод и «Объяснения». Поскольку переводчик преследовал, в первую очередь, дидактические цели, то «Предисловие» и «Объяснения» предельно краткие. В «Предисловии» переводчик указывает на источники своего перевода (лейпцигские издания «Поэтики» 1882, 1885 и 1874 гг.) и объясняет его цель. В «Объясненіях»
дает в основном реальный и исторический комментарий. В. Аппельрот подробно останавливается только на термине κάθαρσις и предлагает обзор других его упоминаний в сочинениях Аристотеля и интерпретаций в европейской традиции. Дидактические цели первичного знакомства с содержанием трактата требуют от переводчика согласования перевода с существующей литературной теорией, поэтому он использует ставшие традиционными для отечественного литературоведения конца XIX в. термины «очищение», «фабула», «подражание», «перипетия», «узнавания» и др. А. Ф. Лосев отмечает некоторое упрощение терминологии в переводе Аппельрота: он указывает, что переводчик очень традиционно использует термин «подражание», не учитывая все аспекты этого «очень сложного и загадочного термина» [Лосев, 1975: 403] и неточно использует термин «узнавать», рекомендуя вместо этого «изучать при помощи созерцания» [Лосев, 1975: 406] и др. М. Позднев же, напротив, отмечает «ультрасовременный» и испытывающий влияние Шопенгауэра характер перевода и комментария, которые Аппельрот предлагает для термина «катарсис» [Позднев, 2010: 520]. Первое замечание А. Ф. Лосева отчасти снимается предложенным Аппельротом переводом названия трактата, которое не получило еще необходимого комментария. Здесь Аппельрот, которого, повторим, Лосев упрекает в некритичной традиционности, отходит от традиции и использует описательный перевод, очень точно отражающий и суть названия Аристотеля, и понимание Стагиритом поэзии в интерпретации самого Лосева. Вместо ставшего традиционным перевода выражения Περὶ ποιητικῆς как «Поэтика» Аппельрот использует выражение «Об искусстве поэзии». Такой перевод отсылает к аристотелеву пониманию искусства как творческого подражания со всем многообразием смыслов этого термина и апеллирует к аристотелеву же пониманию термина поэзия (ποίησις) как начала действующего и активного [Ханин: 88–164], в противоположность пассивному восприятию или созерцанию [Лосев, 1975: 424]. Перевод Аппельрота подводит итог изучению интерпретации «Поэтики» Аристотеля в отечественном литературоведении XIX в. и дает возможность познакомиться с содержанием трактата без опосредующего комментария переводчика, инкорпорированного в текст перевода. Н. И. Новосадский назвал его лучшим из переводов на русский язык [Новосадский: 33], однако отметил в нем ряд неточностей и ошибок [Новосадский: 33] и в 1927 г. опубликовал свой перевод трактата.
Н. И. Новосадский обращается к тому же типу перевода, что и Аппельрот: его перевод выполнен правильным литературным языком с устранением лексических лакун и грамматических нарушений текста оригинала и, в отличие от предшествующих, не содержит греческих терминов и цитат Аристотеля из поэтических фрагментов на языке оригинала. Он использует устоявшуюся терминологию: подражание, изображение, очищение, фабула, перипетия, узнавание и т. п. Единственным исключением является слово λέξις [Aristotle: 173], которое Ордынский и Гаспаров переводят как «речь» [О Поэзіи: 9], [Аристотель, 1978: 120–121], Аппельрот — как «словесное выражение» [Аристотель, 1893: 13]. Новосадский переводит его как «текст», но не дает этому никакого объяснения.
Однако при этой терминологической традиционности переводчик обращает внимание на специфическое понимание Аристотелем поэтического произведения — и произведения искусства в целом — как живого организма и актуализирует «объективистские тезисы» Аристотеля [Позднев, 2010: 62]. Наиболее явно «объективистский подход» Новосадского к «Поэтике» проявляется в его комментарии аристотелева определения трагедии. Он первый из переводчиков останавливается на термин αὐξάνειν (расти): «Нельзя не обратить внимание, что он (Аристотель. — А. Н .) смотрит на создания словесного творчества как на живые организмы. Трагедия, по выражению Аристотеля, “выросла” из песен, исполнявшихся запевалами дифирамба. Он употребляет здесь слово “расти” (αὐξάνειν), то слово, которое в греческом языке обозначает органическое развитие всякого живого существа. Трагедия живет своей особой жизнью. Деятельность поэтов и развитие трагедии — это две различные, хотя и связанные между собою области. Поэты развивали то, что “рождалось” в трагедии» [Новосадский: 12]. В дальнейшем это наблюдение переводчика получило развитие в работах А. Ф. Лосева.
Самым подробным комментарием в «Предисловии» сопровождается термин «очищение». Новосадский отмечает, что
Платон придавал термину κάθαρσις «моральное значение, Аристотель — биологическое» [Новосадский: 10]. В предисловии читаем: «Наиболее правильным, по моему мнению, представляется тот взгляд, что трагедия, по Аристотелю, успокаивает душу созерцанием тяжких страданий, доводя чувства сострадания и страха за героя трагедии до крайней степени, после чего наступает реакция, успокоение. Успокоению от созерцания трагедии Аристотель придает большое значение. Поэт должен своим произведением вызывать удовольствие, вытекающее из сострадания и страха, говорит он» [Новосадский: 19–20]. Важное для понимания катарсиса выражение «παθημάτων κάθαρσιν» Новосадский переводит по сравнению c другими переводчиками нейтрально: «очищение подобных чувств» [Аристотель, 1927: 47]. У Аппельрота читаем: «страстей». Вряд ли здесь можно говорить о неточности более раннего перевода, вероятно, здесь также имеет место увлечение Новосадского «объективизмом» Аристотеля.
Если перевод В. Аппельрота был ознакомительный и дидактический, то перевод Н. И. Новосадского — ознакомительный академический, его автор пытается передать более тонкие аспекты мысли греческого философа, стремясь, тем не менее, не помещать между текстом Аристотеля и читателем свою интерпретацию.
Перевод Аппельрота, выдержавший несколько исправленных изданий, и перевод Новосадского компенсировали потребность в «ознакомительных» переводах. Во второй половине XX в. появились переводы иного типа. В 1978 г. в качестве иллюстрации к очерку «Аристотель и античная литературная теория» был опубликован перевод «Поэтики» М. Л. Гаспарова. По утверждению редакторов издания, этот перевод должен выполнить ту же функцию, что в свое время выполнил перевод XXV главы Глаголева: показать, в данном случае «каким образом элементы этой (литературной. — А. Н.) теории были переосмыслены и систематизированы Аристотелем» [Аристотель и античная литература: 4]. Автор перевода стремится сохранить особенности текста «Поэтики», поэтому он передает фрагментарность текста, все термины сопровождаются греческими эквивалентами, восстанавливаемые лакуны текста помещаются в квадратные скобки — перевод использует «метод квадратных скобок», который критикует Т. В. Васильева [Васильева: 152]. Здесь необходимо заметить, что критика Т. В. Василевой «метода квадратных скобок», впервые использованного Лосевым, вызвана злоупотреблением этим методом в последнее время и не распространяется на анализируемый период. Гаспаров изменяет терминологическую систему, принятую в переводах «Поэтики» Аппельрота и Новосадского: использует термины «очищение», «узнавание», «перелом», «подражание» (без уточнения, что вызвало критику Лосева в отношении перевода Аппельрота), но отказывается, вероятно, под влиянием работы Веселовского [Веселовский] и дискуссии 1960–1970-х гг. [Кожинов: 408–485], [Поспелов: 150], [Тимофеев: 163] от термина фабула в пользу термина сказание, которое, однако, тоже не передает всех оттенков греческого слова μῦθος. Определение трагедии он переводит следующим образом: «трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему <определенный> объем, <производимое> речью, услащенной (курсив наш. — А. Н.) по-разному в различных ее частях, <производимое> в действии, а не в повествовании, и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей (δι’ έλέου και φόβου περαίνουσα των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν)» [Аристотель, 1978: 120]. От переводов Аппельрота и Новосадского вариант Гаспарова отличается лишь в характеристике речи — услащенной, а не украшенной (ср. перевод Butcher: language embellished) [The Poetics of Aristotle]. Подобный перевод выражения Λέγω δὲ ἡδυσμένον, нейтральный сам по себе, при сопоставлении с идеей об удовольствии, доставляемом трагедией, может стать основой для размышлений о понимании Гаспаровым термина «катарсис».
Редакция перевода Гаспарова, опубликованная в 1983 г. в четырехтомном собрании сочинений Аристотеля, несколько отличалась от редакции 1978 г. Часть изменений носила формальный характер: греческие термины были переданы латиницей, опущены некоторые пояснения или восстанавливаемые лакуны. Также была внесена некоторая стилистическая правка. Так, в редакции 1978 г. читаем: «…например, как в Аргосе статуя Мития упала и убила виновника смерти этого Мития, когда тот смотрел на нее; такие события кажутся не случайными»
[Аристотель, 1978: 127], а в редакции 1983 г. этот же фрагмент передается следующим образом: «…как, например, в Аргосе статуя Мития упала и убила виновника смерти этого самого Мития, когда тот смотрел на нее; такие события кажутся не случайными» [Аристотель, 1983: 656]. Однако есть и более существенные отличия. В редакции 1978 г. выражение «πλὴν οἱ ἄνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ µέτρῳ τὸποιεῖν ἐλεγειοποιοὺς τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνοµάζουσιν» [Aristotle: 166] передается как «это только люди, связывающие понятие поэт со стихами , называют одних элегиками, других эпиками» [Аристотель, 1978: 113], а в редакции 1983 г. читаем «это только люди, связывающие понятие “поэт” с метрической формой , называют одних элегиками, других эпиками» [Аристотель, 1983: 647]. Поздний вариант представляется более точным, он устраняет возможную неоднозначность толкования фразы из-за полисемии, свойственной русским словам «стихи», «стих», а также учитывает сложившуюся традицию перевода этого фрагмента. Ср. у Новосадского: «Только соединяя с названием метра слово “творить”, называют одних творцами элегий, других творцами эпоса» [Новосадский: 42] и у Аппельрота: «…только люди, связывающіе понятіе “творить” съ размѣромъ, называютъ однихъ — элегиками, другихъ эпиками» [Аристотель, 1893: 3].
Перевод М. Л. Гаспарова, ставший попыткой создать базовый, некомментированный и незаслоненный личностью переводчика эквивалент текста Аристотеля, при очевидном его достоинстве — передачи структуры исходного текста — показывает и слабые стороны подобного типа переводов: чем ближе создаваемый текст к оригиналу, тем в более мелких деталях проступает тенденция переводчика.
Перевод «Поэтики» А. Ф. Лосева является уникальным для отечественного литературоведения. Он никогда не был самостоятельным отдельным текстом и тем не менее он существует. Все свои работы об Аристотеле Лосев сопровождал своими собственными переводами фрагментов «Поэтики», которые вместе дают практически полный перевод трактата. Но этот перевод является противоположным по целям и задачам переводу Гаспарова. Если М. Л. Гаспаров опубликовал свой перевод как иллюстрацию к рассуждениям о месте идей Аристотеля в античной теории литературы, то перевод А. Ф. Лосева является частью интерпретации переводчиком теории Аристотеля. Поэтому имеет смысл говорить не о переводе Лосевым «Поэтики», а о его интерпретации аристотелевых понятий «поэзия», «подражание», «трагедия», «миф», «катарсис» и т. д., о его интерпретации самой теории поэзии Аристотеля. И эта интерпретация диалектична и диалогична, изменчива во времени, как сама теория Аристотеля. Так, рассуждая в работе 1975 г. «Аристотель и поздняя классика» о мифе в понимании Аристотеля [Лосев, 1975: 441], Лосев оспаривает собственное понимание и интерпретацию этого термина в работе 1930 г. «Очерки античного символизма и мифологии» [Лосев, 1930], (подробнее см.: [Сызранов]).
Перевод «Поэтики», опубликованный в 2008 г. М. М. Поздневым, автором обширной монографии «Психология искусства. Учение Аристотеля» [Позднев, 2010], аккумулирует в себе опыт отечественных и зарубежных переводов и интерпретаций трактата. Система эквивалентов для передачи терминов Аристотеля (жанр, сюжет, отображение, очищение эмоций) связан с современной зарубежной и, в первую очередь, английской традицией и открывает новые направления изучения трактата. Как отмечает сам переводчик, «Аристотель стремился определить литературу “в принципе”» [Позднев, 2017: 50]. Такое понимание «Поэтики» позволяет переводчику отойти от дискуссии о конкретной передаче на русский (или другой язык) того или иного слова [Щедрина], т. е. выйти из того тупика частностей, в котором оказались переводчики «Поэтики» к середине XX в., и сосредоточиться на интерпретации трактата на прагматическом (термин А. Д. Швейцера [Швейцер: 86]) уровне. М. М. Позднев рассматривает трактат древнегреческого философа не как сакральный текст, а как активный компонент современного теоретико-литературного процесса, который, в силу своего научного характера, ориентированности на сущность, а не форму поэзии, не связан с конкретной историко-культурной ситуацией.
«Поэтика» Аристотеля усваивалась отечественной литературно-теоретической мыслью на протяжении всего ее развития. Переводы трактата греческого философа отражают историю становления и развития отечественной теории литературы, ее основных тем и терминологического аппарата.
Список литературы "Поэтика" Аристотеля в русских переводах
- Агейкина С. В. Проблема усвоения наследия Аристотеля в древнерусской культуре // Общество: философия, история, культура. 2020. № 9 (77). С. 31-34.
- Античная поэзия в русских переводах. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. 399 с.
- Аппельротъ В. Предисловiе // Аристотель. Объ искусстве поэзш. Греческш текстъ съ переводомъ и объяснешями Владимiра Аппельрота. М.: Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа, 1893. С. III-IV.
- Аристотель и античная литература. М.: Наука, 1978. 230 с.
- Аристотель. Объ искусстве поэзш. Греческш текстъ съ переводомъ и объяснешями Владимiра Аппельрота. М.: Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа, 1893. 85 с.
- Аристотель. Поэтика / пер. Н. И. Новосадского. Л.: Academia, 1927. 120 с.
- Аристотель. Поэтика. / пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель и античная литература. М.: Наука, 1978. С. 111-163.
- Аристотель. Поэтика. / пер. М. Л. Гаспарова //Аристотель. Сочинения: в 4-х т. М.: Мысль, 1983. Т. 4.С. 645-680.
- Аристотель. Поэтика / пер. М. М. Позднева // Аристотель. Поэтика. М.: Рипол классик, 2017. С. 67-138.
- Астапов С. Н. Образ Аристотеля в древнерусской культуре // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 3 (89). С. 23-29.
- Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. М.: Худож. лит., 1978. Т. 3. С. 294-351.
- Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI-XVI вв. München: Verlag Otto Sagner, 1991. 470 с.
- Васильева Т. В. Предисловие к публикации // Вопросы философии. 2002. № 1. С. 151-157.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л.: Худож. лит., 1940. 649 с.
- Гаспаров М. Л. Предисловие к переводам // Аристотель и античная литература. М.: Наука, 1978. С. 109-110.
- Глаголевъ А. Г. Изъ Аристотелевой пштики // Труды Общества любителей россшской словесности при Императорскомъ Московскомъ университета. М.: Въ Унив. Тип., 1819. Ч. 16. С. 160-170.
- Глаголевъ А. Г. Разсуждеше о греческой трагедш. М.: Унив. тип., 1820. 37 с.
- Глаголевъ А. Г. Умозрительныя и опытныя основашя словесности: в 4 ч. СПб.: Тип. Имп. Рос. акад., 1834.
- Егорова О. С. История переводов Аристотеля на русский язык (2-я половина XVIII — 1-я половина XX века) // Сибирский философский журнал. 2019. Т. 17. № 1. С. 185-203.
- Захаровъ В. И. Предислов1е // Поэтика Аристотеля. В. И. Захарова. Варшава: Въ тип. М. Земкевича, 1885. С. 3-51.
- Захаров В. Н. Историческая поэтика и ее категории // Проблемы исторической поэтики. 1992. № 2. С. 3-9 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica. pro/journal/article.php?id=2355 (01.07.2021). DOI: 10.15393/j9.art.1992.2355
- Карнеевъ А. Къ вопросу объ истолкованш «Поэтики» Аристотеля // Журналъ Министерства народнаго просвЪщешя. 1887. № 3. С. 90-132.
- Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы. М.: Наука, 1964. С. 408-485.
- Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. 908 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. 775 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М.: Искусство, 1979. 815 с.
- Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М.: Искусство, 1963. 436 с.
- Миллер Т. А. «Поэтика» Аристотеля // Аристотель и античная литература. М.: Наука, 1978. С. 65-106.
- Новосадский Н. И. Введение // Аристотель. Поэтика / Пер. Н. И. Новосад-ского. Л.: Academia, 1927. С. 7-37.
- О Поэзш, сочинеше Аристотеля. Перевелъ, изложилъ и объснилъ Б. Ордынскш. М., 1854. 135 с.
- Ордынскш Б. Предисловiе // О Поэзш, гачинеше Аристотеля. Перевелъ, изложилъ и объснилъ Б. Ордынскш. М., 1854. С. I-VI.
- Ордынскш Б. Изложеше // О Поэзш, гачинеше Аристотеля. Перевелъ, изложилъ и объяснилъ Б. Ордынскш. М., 1854. С. 41-134.
- Орлов Е. В. О русских переводах Аристотеля // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 2 (98). С. 51-59.
- Орлов Е. В. Перечень переводов Аристотеля на русский язык [Электронный ресурс]. URL: http:// www.mgl.ru/sites/default/files/corpus_aristotelicum. pdf (01.07.2021).
- Остолоповъ Н. Словарь древней и новой поэзш: въ 3 ч. СПб.: Тип. Имп. Рос. акад., 1821.
- Позднев М. М. Психология искусства. Учение Аристотеля. М.; СПб.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. 816 с.
- Позднев М. М. Чем полезен Аристотель современной литературной теории? // Аристотель. Поэтика. М.: Рипол классик, 2017. С. 47-64.
- Поспелов Г. Н. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1978. 350 с.
- Поэтика Аристотеля. В. И. Захарова. Варшава: Въ тип. М. Земкевича, 1885. 157 с.
- Радциг С. И. Античное влияние в древнерусской культуре // Филологи-классики и славистика. М.: Лабиринт, 2009. С. 6-63.
- Саларевъ С. НЪкоторыя замЪчашя о критик^ // Труды Общества любителей россшской словесности при Императорскомъ Московскомъ университет^. М.: Въ Унив. Тип., 1817. Ч. 8. С. 58-66.
- Сызранов С. В. Концепция трагического мифа в работах А. Ф. Лосева и ее значение для литературоведения // Философ и его время: к 125-летию со дня рождения А. Ф. Лосева. XVI Лосевские чтения. М.: МАКС Пресс, 2019. С. 635-645.
- Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М.: Просвещение, 1976. 448 с.
- Ханин Д. М. Искусство как деятельность в эстетике Аристотеля. М.: Наука, 1986. 173 с.
- Цветаевъ Л. А. О нравственныхъ качествахъ критика // Труды Общества любителей россшской словесности при Императорскомъ Московскомъ университет^. М.: Въ Унив. Тип., 1816. Ч. 5. С. 68-81.
- Чернышевский Н. Г. «О поэзии». Сочинение Аристотеля // Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения в 3 т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1950. С. 300-333. (а)
- Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности (диссертация) // Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения: в 3 т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1950. С. 53-166. (b)
- Швейцер А. Д. Теория перевода. М.: Наука, 1988. 217 с.
- Шевыревъ С. Теорiя поэзш въ историческомъ развитш у древнихъ и новыхъ народовъ. СПб.: Тип. имп. Акад. наук, 1887. 271 с.
- Шустеръ П. «Поэтика» Аристотеля // Журналъ Министерства народнаго просвЪщешя. 1875. № 7. С. 37-68.
- Щедрина Т. Г. Перевод как культурно-историческая проблема (отечественные дискуссии 1930-1950-х годов и современность) // Вопросы философии. 2010. № 12. С. 25-35.
- Aristotle. Poetics. Lieden, Boston: Brill, 2012. 538 p.
- Der neue Pauly: Enzyklopädie der Antike: in 16 bd. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 1996. Band 1. 1154 s.
- The Poetics of Aristotle / ed. and trans. Butcher S. H. London: Macmillan, 1902. 111 p.