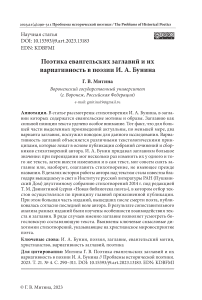Поэтика евангельских заглавий и их вариативность в поэзии И. А. Бунина
Автор: Митина Г.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены стихотворения И. А. Бунина, в заглавии которых содержатся евангельские мотивы и образы. Заглавию как сильной позиции текста уделено особое внимание. Тот факт, что для большей части выделенных произведений актуальны, по меньшей мере, два варианта заглавия, послужил поводом для данного исследования. Вариативность заглавий объясняется различными текстологическими принципами, которые лежат в основе публикации собраний сочинений и сборников стихотворений автора. И. А. Бунин придавал заглавиям большое значение: при переиздании мог несколько раз изменять их у одного и того же текста, затем внести изменения и в сам текст, мог совсем снять заглавие или, наоборот, озаглавить стихотворение, не имеющее прежде названия. В деталях история работы автора над текстом стала известна благодаря вышедшему в свет в Институте русской литературы РАН (Пушкинский Дом) двухтомному собранию стихотворений 2014 г. под редакцией Т. М. Двинятиной (серия «Новая библиотека поэта»), в котором отбор текстов осуществлялся по принципу главной прижизненной публикации. При этом большая часть изданий, вышедших после смерти поэта, публиковалась согласно последней воле автора. В результате сопоставительного анализа разных изданий были изучены особенности взаимодействия текста и заглавия. В ряде случаев именно заглавие позволяет усмотреть богословскую составляющую текста. Выявлены ключевые смысловые дихотомии стихотворений, указывающие на христианское мировосприятие поэта. Ключевые слова: И. А. Бунин, поэзия, заг
И. а. бунин, поэзия, заглавие, евангельский мотив, христианство, вариативность заглавий, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/147242337
IDR: 147242337 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13183
Текст научной статьи Поэтика евангельских заглавий и их вариативность в поэзии И. А. Бунина
Г лубина художественной мысли и широта мировоззренческого диапазона И. А. Бунина вызывает у исследователей неоднозначные оценки его религиозной позиции. На этот счет существуют научные мнения, которые противоречат друг другу. Одни исследователи отмечают христианский вектор в творчестве великого художника (см.: [Пронин], [Карпенко], [Кошемчук], [Бердникова], [Смоленцев], [Пращерук]). Другие видят в Бунине приверженца буддизма (см.: [Marullo], [Спивак], [Курляндская], [Смольянинова]). Третьи предполагают, что на миропонимание автора в большей степени повлиял ислам (см.: [Саяпова, Каримириаби]). Ю. Мальцев считал, что И. А. Бунин, подобно Л. Н. Толстому, создал собственное вероучение [Мальцев: 34], а И. А. Ильин заявлял об отсутствии религиозности у автора [Ильин: 72].
Цель нашей работы — рассмотреть образы и мотивы, составляющие евангельский сюжет стихотворений Бунина и подтверждающие наличие православной составляющей в авторской картине мира.
Исследовательский интерес к поэтическому творчеству Бунина возрос с появлением академического собрания стихотворений в двух томах, вышедшего под редакцией Т. М. Двинятиной в 2014 г.1 Отбор текстов для данного издания производился на основе «главной прижизненной публикации» ( Бунин 2014 : т. 1, 393), которая определялась путем тщательной сверки всех доступных на сегодняшний день авторских изданий, учитывая те, что хранятся не только в российских, но и в зарубежных архивах.
При этом следует обратить внимание на то, что составителями собрания сочинений Бунина, опубликованного на родине поэта уже после его смерти2, был выбран иной текстологический принцип — последняя воля автора. Собрание сочинений в девяти томах 1965–1967 гг. послужило базой для последующих собраний и до сих пор остается одним из самых цитируемых (стихотворения поэта вошли в 1-й и 8-й тома). Этот же принцип сохраняется и во всех последующих изданиях.
Однако заявленный в 9-томном собрании сочинений Бунина принцип публикации текстов согласно последней воле автора не был применен в равной степени ко всем произведениям, за что впоследствии издание было подвергнуто критике. Кроме того, принцип последнего волеизъявления в отношении Бунина осложняется тем, что он одновременно мог редактировать разные экземпляры одного и того же тома и при этом делал разные пометки и исправления в одних и тех же текстах. По этим и другим причинам, подробно описанным Т. М. Двинятиной в текстологической статье к собранию стихотворений в двух томах, принцип отбора текстов для указанного издания по главной прижизненной публикации можно считать полностью обоснованным ( Бунин 2014 : т. 1, 374–395).
Так, для большинства стихотворений существуют, по меньшей мере, два варианта текста, каждый из которых имеет право на существование, поскольку оба варианта функционируют в научной и читательской рецепции.
Благодаря комментариям в собрании стихотворений 2014 г. стало возможным проследить стратегию авторской работы над текстом, значение для него заглавия. Поэт мог несколько раз изменить заглавие стихотворения, а затем вернуться к предыдущему, дать нескольким текстам одинаковые названия или оставить стихотворения неозаглавленными. Вопрос о заголовочном комплексе произведений Бунина-поэта поднимался в ряде современных статей (см.: [Бердникова], [Двинятина, 2020], [Нестерова], [Бородина], [Шурупова]). Для нашей работы важно определение заглавия, наряду с началом и концом произведения, как смысловых доминант, сильных позиций художественного текста, выражающих авторскую интенцию (см. о сильных позициях текста: [Арнольд]).
В стихотворении Бунина « Вознесение Христово » (1895), в заглавии которого содержится прямое именование одного из главных христианских праздников, поэт изображает Вознесение Господа при помощи «восходящих» природных реалий:
озеро, «как зеркало», «дыхание» «свежести лесной», «дым» «светлой росы», открывающий путь к Небу. Затем с помощью природных явлений передается основной смысл праздника:
«Господь вознесся в небеса!
Он был, как утро, безмятежен,
Он над цветущею землею
Растаял в солнечных лучах…»
( Бунин 2014 : т. 2, 218).
В финальной части лирического повествования поэт снова дублирует начало, как бы возвращаясь к «лугам» и «полям зеленым», на которых остается Святой Дух, ниспосланный на апостолов перед Вознесением. Так, через гармонию видимого и невидимого, передается суть праздника.
Сохранившийся в Орловском музее Бунина автограф данного стихотворения свидетельствует о том, что поэт возвращался к данному тексту и изменил заглавие на «Праздник Вознесения». И, хотя этот вариант остался лишь в архивном экземпляре, он существенно уточняет логику автора.
Бунин желал уделить особое внимание радости православного праздника, которую наилучшим образом передает мотив света. Этот мотив, представленный такими эпитетами, как «утренняя заря», «светлый праздник», «светлая роса», «солнечные лучи», означает божественное присутствие, как и во многих других стихотворениях автора. При гипотетической смене заглавия усиливается звуковое восприятие, сопровождающее насыщенные визуальные образы. Читатель «слышит», как «льются песни из селений», — это радостный звон колоколов, который возвещает людям о церковном празднике.
И всё же поэт принимает решение больше не публиковать стихотворение. Причина, скорее всего, кроется в преобладании типичных поэтических образов, художественные аналогии с которыми можно обнаружить у других авторов.
Еще более значительную роль играет заглавие в стихотворении « Смерть » (1907). Из всех рассмотренных нами посмертных изданий только в собрании стихотворений 2014 г. оно озаглавлено таким образом, в остальных же публикуется под названием «Воскресение».
Заголовок здесь является определяющим фактором в декодировании сюжета. Первые после заглавия смысловые доминанты приходятся на зачин стихотворения, тематически растянувшийся на четыре строки. Их функция — обозначить художественное пространство текста, созданное автором под влиянием недавних поездок по святым местам Ближнего Востока и ранее — в европейские страны. «Жаркий полдень», «кремнистая дорогая», упоминание «синего южного моря», вероятно, передают впечатления от Италии (путешествие 1903–1904 гг.). Цветущий весенний макромир вступает в резкий диссонанс с мотивом смерти, заявленным в заглавии. За счет смысловой коллизии обостряется настороженность читателя, возникает потребность в глубоком проникновении в текст, который приводит к разгадке лишь в последней строке. Так, эмпирическая составляющая произведения завершается обобщением, которое «основной своей энергией и значительностью обращено к концовке стихотворения» [Сильман: 17]:
«Тогда монах сорвал с ограды розу, Швырнул во двор — и с недовольным видом Пошел назад. А роза за оградой
Рассыпалась на мрамор черным пеплом» ( Бунин 2014 : т. 2, 54).
Финал является сильной позицией художественного текста, поскольку «переворачивает» весь текст. Описание розы в «черном пепле» символизирует траур и возвращает к заглавию. Становится очевидным, что под видом «высокого Францисканца» скрывается смерть. Монаху, за которым она пришла, удается ее избежать, поскольку «он нынче занят — пишет Воскресенье». При помощи экфрасиса поэт отсылает к европейской живописной традиции, когда картины на религиозную тему писались католиками-монахами. Такие работы нередко становились мировыми шедеврами, не подвластными времени («Воскресение Христа и жены у гроба» (1440–1441) Фра Анжелико, «Положение во гроб» (1516) Фра Бартоломео и др.).
Но преодоление смерти как историко-культурный феномен в искусстве, вероятно, интересует поэта в меньшей степени, чем богословская трактовка. Провозглашение Воскресения победой над смертью есть не что иное, как составляющее основу православной веры пасхальное утверждение того, что Христос «смертию смерть поправ».
С богословской точки зрения важно то, что францисканец целенаправленно выбирает «Брата Габриэля», то есть возникает легко узнаваемая аллюзия на Архангела Гавриила. Дьявол пытается не допустить распространения благой вести о воскресении Христа, а имя Гавриил несет еще и мотив вести о грядущем рождении Христа, создавая насыщенную «эмблематику смысла»3. Таким образом, злые силы стремятся перекрыть человеку путь к спасению. Но, бессильный против силы Воскресения, посланец зла в ярости уходит — смерть проходит мимо, что соотносится с этимологией слова «Пасха»: как известно, на древнееврейском оно звучит как «пейсах» и переводится «проходить мимо».
Так, определение сильных позиций, заглавия и финала данного стихотворения, позволяет выявить значимую для авторского сознания дихотомию: «смерть / Воскресение». Заглавие является «путеводителем» в пространстве текста и помогает интерпретировать сюжет как утверждение пасхального догмата о сокрушении смерти Христовым Воскресением. По сути, это стихотворение можно истолковать как пасхальный текст. Мотив смерти, заявленный в заглавии, создает напряжение, побуждая читателя искать смерть. На таком эмоционально трагическом фоне мотив воскресения звучит весьма убедительно и наглядно.
Сглаживая резонанс между заглавием и основным текстом, поэт открыто подчеркивает пасхальную тему стихотворения. Под заглавием «Воскресение» стихотворение стало известно широкому кругу читателей после его публикации в 1965 г. в первом томе собрания сочинений в девяти томах, и до сих пор этот вариант названия является приоритетным в читательском восприятии.
Стихотворение «Мать» («На пути из Назарета»), написанное 31 июля 1912 г., но опубликованное под данным заглавием только в издании 2014 г.4, вмещает две сюжетных линии: странствие лирического героя и возвращение Святого семейства в Назарет. Их пути пересекаются во время «встречи», которую лирический герой описывает во всех красках, уделяя особое внимание «Святой деве».
Эта встреча заставляет лирического героя переосмыслить свою жизнь, о которой он размышляет как о долгом и нелегком путешествии. Главные воспоминания связаны с различными образами «Матери Бога», которую он везде «встречал с восторгом тайным». Искренний монолог лирического героя, выдержанный высоким слогом («О, Мария…»), представляет собой «дивный гимн Богородице» как образцу матери (см. об этом: [Кошемчук: 16]). Эта мысль подкрепляется Буниным на уровне заглавия: образ матери, вынесенный над текстом, воспринимается как недостижимый идеал. Заглавию вторит последнее слово финальной строфы — «Мать», написанное с прописной буквы и сохраняющее полноту звучания славословия вплоть до самого конца стихотворения:
«Содрогался я от счастья У святых его преддверий: О, Мария, сладко сердцу Вспоминать и поминать5, — Что, блуждая, все мы ищем Преклониться пред любовью, Галилейской нищетою
И сладчайшим словом: Мать» ( Бунин 2014 : т. 2, 87).
Архивные материалы с правкой Бунина открывают нам историю создания нового измененного варианта данного стихотворения, который был опубликован в большинстве собраний сочинений, вышедших после смерти поэта6. Во всех четырех автор ских экземплярах издательства «Петрополис»
(последнем прижизненном собрании сочинений) Бунин дает стихотворению заглавие «На пути из Назарета» и зачеркивает тринадцатую строфу, приведенную выше. В двух из четырех экземплярах он, кроме того, убирает четвертую строфу, а в трех из четырех — вычеркивает одиннадцатую. С учетом всех исправлений, которые совпадают в двух экземплярах, текст становится короче на три строфы, чем версия, опубликованная в двухтомном собрании 2014 г. Бунин устраняет строфы, напрямую посвященные «Галилейской Жене», а в новый финал привносит восклицательную интонацию7:
«Человечество, венчая Властью божеской тиранов, Обагряя руки кровью В жажде злата и раба, И само еще не знает, Что оно иного жаждет, Что еще раз к Назарету Приведет его судьба!» ( Бунин 1965 – 1967 : т. 1, 344–346).
Финальные строки, содержащие призыв не только ко всему человечеству в целом, но и к каждому человеку в отдельности, образуют с зачином концептуальное целое. Кольцевая композиция усиливает заявленный в заглавии мотив пути, начальной и конечной точками которого является Назарет — город, где родилась Богородица, но известный благодаря Хр исту.
БунинИ. А. Собр. соч.: в 8 т. М.: Моск. рабочий, 1993. Т. 1: Стихотворения, 1888–1952. 539 с.;
Бунин И. А. Собр. соч.: в 6 т. М.: Терра, 1996–1997. Т. 1: Стихотворения, 1888–1917 гг.; 349 с. Т. 5: Жизнь Арсеньева. Проза 1930 г. Стихотворения 1918–1952 гг. 558 с.;
Бунин И. А. Полн. собр. соч.: в 2 т. Калининград: Янтарный сказ, 2001. Т. 1. 1000 с.
Бунин И. А. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Воскресенье, 2005. Т. 1.: Стихотворения, 1888–1911. 561 с. Т. 2: Стихотворения, 1912–1952. Повести, рассказы, 1902–1910. 558 с.
Далее ссылки на эти издания приводятся в тексте статьи с использованием сокращений Бунин 1965–1967 , Бунин 1987–1988 , Бунин 1993 , Бунин 1996–1997 , Бунин 2001 , Бунин 2005 соответственно, указанием тома и страницы в круглых скобках.
7 Восклицательный знак также относится к тем изменениям, которые внесены поэтом в правках.
Происходит сдвиг смысловой доминанты: в фокусе читателя оказывается не архетип матери, а образ Спасителя, за которым следует лирический герой, повторяющий маршрут Святого семейства.
Стихотворение « На пути из Египта », написанное 24 марта 1914 г.8, сохранило это заглавие только в газете «Русское слово», где было впервые опубликовано в подборке пасхальных материалов. Оно образует с предыдущим стихотворением, написанным двумя годами раньше, своего рода тематический диптих. Но если в стихотворении «На пути из Назарета» мотив пути отражает духовный поиск человека, то здесь он является метафорическим указанием на историю взаимоотношений Бога и человека от древних времен до прихода в мир Спасителя. Направление маршрута «из Египта», заявленное в заглавии, содержит аллюзию на преодоление человечеством ветхозаветного языческого рабства.
Бóльшая часть стихотворения обрамлена в кавычки и представляет собой обращение Бога к Иосифу, а вместе с тем ко всему человечеству. Через указание главе Святого семейства на путь в Назарет, Бог заключает с человеком Новый завет:
«Иосиф! Я расторг с жестокими завет.
Исполни в радости Господнее веленье: Встань, возвратись в Мой тихий Назарет — И всей земле яви Мое благоволенье»
( Бунин 2014 : т. 2, 105).
Эти строки приобретают больший смысловой акцент после замены заглавия на «Новый завет», под которым Бунин печатает стихотворение во всех последующих изданиях. Выстроенный в соответствии с христианской хронологией текст стремится к кульминационному финалу. Подпадающая под ударную позицию фраза «всей земле» несет богословскую нагрузку, открывая перспективу на спасение не только богоизбранному народу, но и всем людям.
Стихотворения Бунина за 1916 г. представляют, по словам Б. Зайцева, «самые сильные, мрачные и полновесные пьесы», которые написаны накануне гибели России9. К ним относится текст «Бегство в Египет» (1 января 1916 г.), который продолжает серию евангельских путевых сюжетов, связанных с передвижением Иосифа, Богородицы и Богомладенца Христа. В отличие от библейского повествования, которое указывает на то, что Иосиф «встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет» (Мф. 2:14), Бунин убирает главу Святого семейства из лирического сюжета. Оставляя Богородицу одну на руках с Младенцем, поэт делает героев более беззащитными, а сюжет максимально драматичным:
«По лесам бежала Божья Мать, Куньей шубкой запахнув Младенца. Стлалось в небе Божье Полотенце, Чтобы Ей не сбиться, не плутать»
( Бунин 2014 : т. 2, 121).
Заявленные в начале стихотворения герои больше не фигурируют в тексте, что не мешает читателю внимательно следить за их передвижением. Этому способствует заполнение художественного пространства легко узнаваемыми русскими реалиями, что для изображения сцены из Евангелия весьма непривычно. Уже из первой строки мы неожиданно для себя узнаем, что Богородица бежит по лесам. Во второй строфе становится ясно, что действие происходит ночью в мороз. Такое путешествие-преодоление напоминает русскую сказку, где, как и в стихотворении, встречаются «дремучие заросли», дикие звери и творятся «дивы дивьи».
Другие проявления родной культуры содержат емкие фольклорные образы («кунья шубка», «Божье полотенце») и стилизацию под простую речь («плутать», «впотьмах»). Характерная для сказки борьба добра и зла заключена в противопоставлении сверкающих «волчьих очей» и дрожащих «зверей с бородами и в рогах», которые как будто хотят согреть маленького Христа, как это было в Его Светлое Рождество. Страшное и трогательное соседствуют бок о бок, указывая на перевес то одних, то других сил. В схватке двух седых медведиц «на дыбах», напоминающих два созвездия, которые отражаются ночью на снегу, можно усмотреть противостояние между землей, заселенной злом «без числа», и Небесным Покровом, позволяющим героям продолжать свое «бегство». Вовлеченность Неба в сюжет содержится еще в первой строке, где «Божье Полотенце» предстает третьим действующим лицом, помимо Богородицы и Христа. Зачину вторит последняя строфа, указывающая на небесного ангела с мечом, который летит, чтобы «главу на Ироде отсечь».
Финал хоть и восстанавливает справедливость, но не снимает напряжение до конца. Новозаветная история проецируется автором на события в России, а именно на войну, которая в 1916 г. шла полным ходом. Обновленный сюжет, представленный в стихотворении, дает читателю возможность посмотреть на происходящее глазами матери, которая старается спасти сына. Добавление евангельскому повествованию русского колорита делает сюжет более близким и родным, а значит, заслуживающим особого внимания.
Так, между известным евангельским сюжетом, заявленным в заглавии, и авторским повествованием обнаруживается резкое расхождение. Заглавие остается отдельным текстом, сопоставление с которым рождает дополнительные смыслы.
В 1916 г. Бунин создает еще одно стихотворение, в котором ощущается предчувствие надвигающейся катастрофы — «Плащаница» (27–28 июня 1916 г.; 1919 г.)10. Заглавие отсылает к самому скорбному дню православного календаря — Страстной Пятнице, когда совершается вынос плащаницы. В этот день не положено совершать литургию, которая, как известно, обычно отличается особой торжественностью. Служба Великого Пятка полностью посвящена отпеванию Христа. Атмосфера скорби передается через траурные краски — «черные попы» стоят «во тьме» — и унывный напев, открывающий и закрывающий текст. Форма «большого кольца», которая традиционно характеризуется «тематическим развитием на протяжении всего стихотворения», в данном тексте, напротив, купирует движение сюжета (см. об этом: [Жирмунский: 64–67]). Замкнутость композиции указывает на безысходность события.
Лирический герой, наблюдающий за происходящим в храме, показывает предметно-земное восприятие. Для него плащаница — это гроб с «зеленеющим телом», в котором едва можно узнать Спасителя. Смерть показана не как временное явление, а как победа злых сил. Не случайно, слово «Дьявол» написано с прописной буквы, что противоречит правилам кириллицы, но вполне вписывается в «правила» культуры Серебряного века, где такое написание было распространено. Поэт намеренно останавливается на Страстной Пятнице, акцентируя самое трагическое состояние мира, потерявшего надежду на спасение. Тотальное ощущение смерти нарушает авторскую сюжетную дихотомию, которая утратила вторую составляющую — «Воскресенье». Это и стало, по всей видимости, поводом для снятия стихотворения из авторских изданий.
Заглавие стихотворения « Вход в Иерусалим » (29 июля 1922 г. или 29 августа 1922 г.) указывает на поворотный момент в жизни Христа и на христианский праздник, напоминающий об этом событии. Однако после прочтения стихотворения вместо чувства радости появляется горький осадок. По мнению Антония Сурожского, это «один из самых трагических праздников церковного года»11. Поэт по-настоящему осознает эту трагедию, раскрывая ее суть через противопоставление торжественной встречи Христа с истинным посылом приветствовавших Его людей. Для большинства израильтян в Иерусалим входил не Бог, а царь, от которого они ожидали разрешения наболевших проблем и победы над римскими завоевателями. Не получив того, что хотели, люди очень скоро разочаровались в Том, Кого считали царем, так и не услышав Его слов: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:33). О нежелании расслышать главное и увидеть во Христе Бога заявляет авторское заглавие. Из общепринятого «Вход Господень в Иерусалим», поэт убирает и мя Бога, намекая на Его «ненужность».
Текст стихотворения начинается с «озвучивания» события: ликующая толпа сливается в одном многоголосии «Осанна!», ставшем со временем частью молитвы на литургии. Как бы всматриваясь в толпу, приветствующую Спасителя, авторский взор выделяет одного из встречающих — это «щербатый» хриплый калека с «гнойными глазами». Признаки болезни указывают на сходство с прокаженным, исцеленным Христом, о чем повествуется на страницах Евангелия. По силе прошения этот герой близок другому участнику новозаветных событий — выздоровевшему расслабленному, который по одной из версий впоследствии оказался среди тех, кто кричал: «Распни!». Собирательный образ калеки, вобравший в себя разные евангельские истории отречения от Христа, в большей степени иллюстрирует состояние всей «обманувшейся черни». Поэт наглядно изображает, как накопившаяся злость и одержимость местью делает человека выходцем из ада:
«И с яростным хрипом в груди, С огнем преисподней
В сверкающих гнойных глазах, Вздувая все жилы на шее, Вопя все грознее, Калека кидается в прах На колени…»
( Бунин 2014 : т. 2, 121).
Динамика сюжета отражает неконтролируемую ненависть больного. Его обращение к Богу, обрамленное в тексте знаками тире, играет роль кульминационного сообщения. Оно заполняет тот же звуковой фон события, что и первое славословие, но не имеет ничего общего с молитвой. Произнесенная в пене просьба, исполненная мечтой о «пире кровавом», из «мольбы о мщении» угнетателям «перерастает» в проклятие Христу.
После символически емкого тире художественный ракурс изображения переключается на Христа, который всё видит, слышит и не оказывает сопротивления. Разнесенные в тексте глаголы в разных наклонениях «гряди» / «грядешь» передают требование толпы и реакцию Христа. Автор подчеркивает Его готовность вступить «на позор» голосом человека, того одного из всей толпы, который ждал Христа, для которого Он и пришел. В его обращении, открывающемся словами «И Ты, Всеблагой, Свете тихий вечерний…», нет просьбы, а лишь устремленность к Богу. Трижды повторенное местоимение «Ты» может служить подтверждением того, что этот один признает в Христе Бога — одного из лиц Святой Троицы. Молитва «Свете тихий вечерний», которая в православных храмах читается на вечернем богослужении, указывает на состоявшуюся встречу со Христом на авторском уровне.
Все три возгласа — первое приветствие, хриплый вопль калеки и молитва автореферентного героя — адресованы Христу и передают неоднозначность восприятия происходящего. Полярные мнения в авторском тексте образуют одно пространство, объединенное неожиданным союзом «и». Противоречащие друг другу точки зрения пересекаются в одном моменте евангельской истории, запечатленном в заглавии, и создают мажорно-минорную полифонию данного события. Последняя строка, выдержанная в одном пунктуационном регистре с первой, замыкает круг событий, позволяя проследить путь Христа от торжественного «Входа в Иерусалим» до восхождения на Голгофу. Финальное восклицание служит интонационной «точкой невозврата», на которой завершается трагический сюжет. Так, Бунин соединяет в одном тексте малое и большое время, отобразив в отступлении от Бога отдельного народа трагедию человечества.
Важная для Бунина тема возмездия выходит на новый уровень в стихотворении « О, слез невыплаканных яд …» (22 августа 1922 г.), написанном практически в одно время со «Входом в Иерусалим». В собрании стихотворений 2014 г. оно озаглавлено по первой строке. Если не брать во внимание прижизненные сборники Бунина, а учитывать только те, что вышли после смерти автора, то можно с большой вероятностью утверждать, что в таком виде оно представлено впервые. В ряде публикаций, в том числе в собраниях сочинений, оно имеет заголовок «России» ( Бунин 1993 , Бунин Летопись 12, Бунин ОЛМА 13,
Бунин 2001 ). В других изданиях собраний сочинений оно отсутствует ( Бунин 2014 , Бунин 1987 – 1988 , Бунин 1996 – 1997 , Бунин 2005 ). Явные мотивные связи со стихотворением «Вход в Иерусалим» дают нам основания для привлечения его к рассмотрению в обозначенном нами ракурсе. По единодушному признанию ряда ученых ([Саблина], [Бердникова], [Двинятина, 2020]), оно является художественным переложением 136-го псалма.
Общий мотив псалма — покаянный плач по родине — звучит особенно пронзительно из уст поэта, находящегося в момент написания стихотворения в вынужденной эмиграции. Под разрушенным Иерусалимом понимается измученная Россия, а в потерянном Сионе читается утрата православной веры. Зачин первоисточника «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали…»14 в стихотворении видоизменяется в первой строке, которая принимает роль сильной позиции в отсутствие заглавия. «Невыплаканные слезы» можно трактовать как неспособность русского человека осознать свои ошибки даже после свалившихся на его долю бед. За эту духовную несостоятельность русский народ, по мнению поэта, заслуживает «Господнего святого мщенья».
Общим для обоих стихотворений также является изображение «обманувшихся» людей или «новых чад», отступивших от Бога. В отношении к России имеются в виду «новые воины», вовлеченные в революцию и гражданскую войну (см. об этом: [Бердникова: 325]). Если в стихотворении «Вход в Иерусалим» за «обманувшейся чернью» остается последнее слово «Проклятье!», то здесь дается неизбежное последствие — «новые чада» обречены на гнев Божий.
Этими двумя текстами поэт словно восстанавливает духовное равновесие. По мнению автора, Бог — единственный, кто может «воздать воздаяние». Сильное желание отомстить, которое роднит лирическое «я» с калекой из стихотворения «Вход в Иерусалим», уступает место доверию «Силе Божьей, которая распространилась по всей земле»15. Озаглавленное по первой строке стихотворение несет метафизический смысл и представляет собой «напоминание о иерархической сущности мироздания, нарушение которой грозит сокрушительными и необратимыми последствиями» [Двинятина, 2015: 202].
Личное отношение Бунина к «новым воинам» России иллюстрирует поэтический набросок от 24 августа 1922 г., который почти совпадает по времени написания с двумя предыдущими стихотворениями.
«Голгофа не всегда свята:
И воры ведь распяты были, Но ни Голгофы, ни Креста Они ничуть не освятили» ( Бунин 2014 : т. 2, 276).
Текст опубликован впервые в академическом собрании стихотворений 2014 г. в разделе «Неоконченное». Но однажды поэт уже озвучил это четверостишье. Это произошло в эмиграции на одном из поэтических вечеров — предположительно, в 1933 г. в Италии, когда представители новой власти в России, сидевшие в первом ряду, попросили посвятить им стихи. После прочтения поэтом этих строк «люди в сапогах направились к выходу»16.
Христианские образы и понятия вносят ясность в затуманенное сознание «обманувшейся черни», а обличительный тон призван «встряхнуть» общество от духовного забвения. Аллюзия на евангельский эпизод распятия Христа имплицитно указывает на необходимость выбора: остаться «вором» или стать «благоразумным разбойником» — раскаяться и пойти за Христом. Поэт прибегает к евангельскому сравнению в поисках незыблемых основ, позволяющих увидеть истинную суть вещей.
Итак, во всех рассмотренных поэтических текстах Бунин описывает ключевые моменты новозаветной истории, отношение к которым подтверждает православную доминанту его творчества. Обращение к «Книге Книг» в кризисные для страны годы обусловлено стремлением поэта найти духовное прибежище и озвучить ис тинные предпосылки русской беды.
В более поздней лирике отмечается повышенная экспрессивность и большая авторская свобода в переложении исходного сюжета. Авторская интерпретация сюжетов Священного Писания указывает на концептуально значимые для поэта аспекты. При этом, обновляя сюжет при помощи национальных реалий, Бунин пробуждает в читателе личное переживание евангельской истории, а также недавних событий в России и одновременно «высвечивает» глубинные смыслы первоисточника. Евангельские сюжеты и мотивы позволяют существенно уточнить основные дихотомии поэзии Бунина: смерть и Воскресение, человеческое мщение и божественное Возмездие, Голгофа и надежда на Спасение.
Список литературы Поэтика евангельских заглавий и их вариативность в поэзии И. А. Бунина
- Арнольд И. В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста // Иностранные языки в школе. 1978. № 4. С. 24–27.
- Бердникова О. А. Реминисценции, цитаты и мотивы псалтири в творчестве И. А. Бунина // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. Вып. 10. С. 315–327 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1458029841.pdf (18.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2012.362
- Бородина Н. А. Фольклорный образ Бабы-Яги и его художественная интерпретация И. А. Буниным (на материале стихотворений «БабаЯга» и «Русская сказка») // 80-летие елецкой филологии: мат-лы Междунар. науч. конф. Елец, 2019. С. 60–63.
- Двинятина Т. М. Поэзия И. А. Бунина: эволюция. Поэтика. Текстология: дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2015. 441 с.
- Двинятина Т. М. «За стенами разрушенного и поруганного Сиона»: И. А. Бунин в 1917–1921 годах // Русская литература. 2020. № 3. С. 117–129 [Электронный ресурс]. URL: https://pushkinskijdom.ru/remizov/content/remizoved/person/obatnina/albomcenzura2020.PDF (18.04.2023).
- Жирмунский В. М. Композиция лирических стихотворений. Пб.: ОПОЯЗ, 1921. 107 с.
- Ильин И. А. О тьме и просветлении: книга художественной критики: Бунин — Ремизов — Шмелев. Мюнхен, 1959. 196 с.
- Карпенко Г. Ю. Творчество И. А. Бунина и религиозно-философская культура рубежа веков. Самара: Изд-во Самарской гуманитарной академии, 1998. 113 c.
- Кошемчук Т. А. О новозаветной перспективе ветхозаветной темы в историософии И. А. Бунина // Орловский текст российской словесности: творческое наследие И. А. Бунина: мат-лы Всерос. науч. конф. (28–29 сент. 2010 г.). Орел: Изд-во Орловского ун-та, 2010. Вып. 2. С. 11–18.
- Курляндская Г. Б. Тургенев и Бунин. Воспроизведение действительности и ее преобразование — проблема авторства // Тургеневский ежегодник. Орел: Орлик, 2006. С. 5–9.
- Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. Франкфурт-на-Майне; М.: Посев, 1994. 432 c.
- Нестерова Е. В. «Парные тексты» в поэзии И. А. Бунина (к проблеме заголовочного комплекса) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2016. № 1. С. 39–42 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/ phylolog/2016/01/2016-01-09.pdf (18.04.2023).
- Пращерук Н. В. Духовное измерение жизни человека: репутация Бунина-художника и реальность текста // Филологический класс. 2019. № 2 (56). С. 73–77 [Электронный ресурс]. URL: https://filclass.ru/images/JOURNAL/56/9.pdf (18.04.2023). DOI: 10.26170/FK19-02-09
- Пронин А. А. Судьба цитат из христианских источников в книге И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева. Юность» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 505–514 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2554 (18.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2554
- Саблина Н. П. «Не слышатели забытливы слова, но твроцы». Органичное православие русской поэзии // Христианство и русская литература. СПб.: Наука, 1999. Сб. 3. С. 3–25 [Электронный ресурс]. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=u4W_m8fyiMc%3d&tabid=10626 (18.04.2023).
- Саяпова А. М., Каримириаби Э. Иранская мифология в художественном мире И. А. Бунина // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. Т. 156. Кн. 2. С. 115–120 [Электронный ресурс]. URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F1332721910/156_2_gum_12.pdf (18.04.2023).
- Сильман Т. Заметки о лирике. Л.: Сов. писатель, 1977. 224 с.
- Смоленцев А. И. Неуловимый свет // Метафизика И. А. Бунина: межвуз. сб. науч. тр. Воронеж, 2014. Вып. 3. С. 29–33.
- Смольянинова Е. Б. Буддийский Восток в лирике И. А. Бунина: автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2007. 27 с.
- Спивак Р. С. Русская философская лирика. 1910-е годы: И. Бунин. А. Блок. В. Маяковский. М.: Флинта: Наука, 2003. 408 с.
- Шурупова О. С. Фольклорные мотивы в лирике И. А. Бунина // Россия Ивана Бунина и культура русского подстепья (к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина): мат-лы Всеросс. науч. конф. Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2020. С. 91–97.
- Marullo T. G. “If You See the Buddha”. Studies of Ivan Bunin. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1998. 208 p.