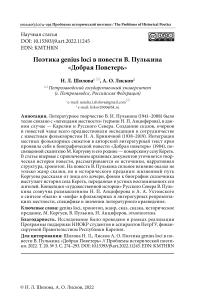Поэтика genius loci в повести В. Пулькина "Добрая Поветерь"
Автор: Шилова Наталья Леонидовна, Лисков Арсений Олегович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Литературное творчество В. И. Пулькина (1941-2008) было тесно связано с «легендами местности» (термин Н. П. Анциферова), в данном случае - Карелии и Русского Севера. Созданию сказов, очерков и повестей чаще всего предшествовали экспедиции в сотрудничестве с известным фольклористом Н. А. Криничной (1938-2019). Интеграция местных фольклорных сюжетов в авторский литературный текст ярко проявила себя в биографической повести «Добрая поветерь» (1984), посвященной сказителю М. Коргуеву и его родине - поморскому селу Кереть. В статье впервые с привлечением архивных документов уточняется творческая история повести, рассматриваются ее источники, нарративная структура, хронотоп. На повесть В. Пулькина сильное влияние оказал не только жанр сказки, но и исторического предания: жизненный путь Коргуева рассказан от лица его дочери, фоном к биографии сказочника выступает история села Кереть, переданная в устных воспоминаниях его жителей. Концепция «художественной истории» Русского Севера В. Пулькина созвучна размышлениям Н. П. Анциферова и А. А. Ухтомского о синтезе «были» и «мифа» в фольклорных и литературных репрезентациях местности, специфике и значении литературного краеведения.
Genius loci, хронотоп, жанр, сказ, сказка, историческое предание, м. коргуев, в. пулькин, н. анциферов, этнопоэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/147238874
IDR: 147238874 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11245
Текст научной статьи Поэтика genius loci в повести В. Пулькина "Добрая Поветерь"
П онятие genius loci в последние десятилетия стало одним из частотных в исследованиях локальных текстов. Для нас в первую очередь важно его исходное значение «духа места» как метафоры сложных отношений между пространственным (материальным) и творческим (духовным), между местностью и ее культурными репрезентациями. Именно в таком значении оборот возник и стал употребляться в античности: «Культ гения места был частью более широкой системы архаичных религиозных и мифологических представлений, в рамках которых одушевлялись и обожествлялись различные географические локусы (водные источники, реки, горные вершины и перевалы, горы в целом, перекрестки дорог, священные рощи), часто становившиеся культовыми местами » [Замятин: 155]. В основу концепции легло представление о том, что «место формировало свою эстетику, влияя на проживающих в нем; место во взаимоотношениях с человеком могло быть благотворным или губительным; место диктовало определенный кодекс поведения и т. д. В литературе и искусстве место может быть вымышленным или совпадать с реальным географическим топосом — однако во всех случаях оно провоцирует развитие литературного сюжета» [Genius loci в литературе, искусстве, культуре: 6].
В известной работе Н. П. Анциферова «Душа Петербурга», закрепившей этот термин в отечественной гуманитаристике, genius loci соотносится и с особенной атмосферой места в целом («воплощение божества местности — это “сам город, сама местность, как она есть в действительности”» [Анциферов, 1922: 19–20]), и с его отдельными символическими атрибутами (ср. «Медный Всадник — это genius loci Петербурга» [Анциферов, 1922: 27]). Со временем, трансформируясь в научный термин, понятие genius loci, переведенное как «гений места», пережило семантический сдвиг: слово genius стало соотноситься с творцами мифа или текста о местности — с писателями, художниками, музыкантами и проч., сформировавшими своими произведениями узнаваемый образ той или иной территории, прославившими ее. Именно в таком значении оборот закрепился в популярной культуре — травелогах, путеводителях, эссеистике, документальных сериалах о путешествиях и т. п. (см., напр.: [Вайль]).
В случае с предметом нашего исследования — повестью Виктора Пулькина «Добрая поветерь» — продуктивными оказываются оба толкования понятия genius loci. В равной степени значимы здесь и образ места действия, старинное поморское село Кереть, и главный герой, широко прославивший в первой половине XX в. свою малую родину — легендарный сказочник Матвей Михайлович Коргуев (1883–1943).
Деревня Кереть, не однажды отмеченная в карельской этнографии и фольклористике, обнаруживает богатую историю, насчитывающую более шестисот лет. Будучи важнейшим торговым узлом на пути из Швеции в Поморье, Кереть упоминается в ряде исторических источников — например, в «Записках о Московии» Генриха фон Штадена (сер. XVI в.), памятнике древнерусской литературы — «Житии Варлаама Керетского», сложенном во второй половине XVII в., позднейших экспедиционных отчетах петербургских академиков Луи Делиля де ла Кройера (1730-е гг.), Ивана Ивановича Лепёхина (1772). Кроме того, в начале XIX столетия Кереть посетил финский писатель, фольклорист и собиратель рун карелофинского эпоса «Калевала» Элиас Лённрот, зафиксировавший записи о своем визите в путевых заметках. В настоящее время Кереть оставлена жителями и числится «упраздненной». Процесс «умирания» деревни стал очевидным уже в эпоху «застоя» и в годы перестройки, когда керетский колхоз переживал упадок, рыболовный промысел понемногу сошел на нет, масштабный лесозавод прекратил работу.
Биографическая повесть В. И. Пулькина о Коргуеве была опубликована в 1983 г. в журнальном варианте. В 1984 г. полный текст вошел в сборник В. И. Пулькина «Подаренье», включивший, кроме повести о Коргуеве, авторские очерки и пересказы северных преданий1. Когда-то Юрий Казаков в знаменитом очерке о Паустовском «Поедемте в Лопшеньгу» писал:
«…страсть к литературному труду всю жизнь боролась в нем со страстью к путешествиям»2.
Такой же страстью и той же пространственной писательской оптикой обладал и Виктор Пулькин — в «Подареньи», например, все тексты так или иначе связаны с локациями Русского Севера: Кижами, Соловками, Керетью. Топонимы («Шижня», «Шуерецкое», «Сумпосад» и т. д.) в серии очерков «Море — наше поле» даже вынесены в подзаголовки, формируя пространственный тип не только внутренней, но и внешней композиции текста.
Известно, что многие сюжеты книг Пулькина складывались на основе личных впечатлений, полученных в многочисленных путешествиях. Один из первых исследователей прозы В. Пуль-кина Ю. И. Дюжев отмечал, что «предания, записанные им совместно с фольклористкой Н. Криничной в экспедициях» 1969–1985 гг., а также материалы иных собирателей составили «основное содержание» многих книг писателя [Дюжев: 206]. Фольклорные экспедиции как источник некоторых своих сюжетов называл и сам Виктор Пулькин. Например, в авторском предисловии к циклу очерков о поморах «Море — наше поле»:
«По берегу Белого моря от Кеми до Нюхчи (этот берег издавна называется Поморским — в отличие от Летнего, Онежского, Карельского, Терского, Мурманского, Зимнего) мы шли от села к селу, от дома к дому в поисках преданий — памятников художественной истории Поморья» (53).
Сам текст очерков при этом повторяет публикацию дневников беломорской экспедиции Н. А. Криничной и В. И. Пулькина, вышедшую в 1977 г. в журнале «Север» [Криничная, Пулькин]. Отдельные черты взаимодействия собранных фольклорных сюжетов и их авторской обработки рассматривались ранее в научных публикациях о прозе Пулькина, но не специально, а в контексте исследования иных тем, фрагментарно (см.: [Петров], [Шилова]). Концепция «художественной истории» Русского Севера, реализованная писателем в его книгах, еще ждет своих исследователей. Интересна она может быть в том числе с точки зрения этнопоэтики как дисциплины, устанавливающей и описывающей «в категориях поэтики то специфическое, что делает национальную литературу национальной» [Захаров: 7]. В настоящей статье мы рассмотрим особенности хронотопа, жанровой природы и нарративной структуры повести «Добрая поветерь», обращая внимание на тот образ Ке-рети, который возникает в авторском повествовании, а также на сюжетообразующую роль пространственных мотивов.
В начале «Доброй поветери» автор сообщает:
«Работая над повестью, я встречался с людьми, лично знавшими М. М. Коргуева. Известные ученые, писатели, художники, старые поморы вспоминали славного сказочника — и возрождалось тепло, некогда вложенное в души людей тружеником и поэтом моря. <…> С дочерней нежностью и искренностью поведала мне об отце младшая дочь сказочника — Анна Матвеевна Тютюник-Коргуева» (148).
О личном посещении писателем Керети в опубликованном тексте повести ничего не сказано. Возможно, поэтому исследователь и издатель сказок Коргуева фольклорист КарНЦ РАН Татьяна Сенькина отметила, что в основу «Доброй поветери» «легла переписка писателя с младшей дочерью М. М. Коргуева Анной Матвеевной Тютюник-Коргуевой» [Сенькина: 83]. Переписка такая, вероятно, действительно, велась, хотя сегодня этих писем нет в известных нам научных и частных архивах.
Комментарий Т. Сенькиной к творческой истории «Доброй поветери» следует уточнить. Документальную основу повествования в «Доброй поветери» составили работа с архивными документами, общение с дочерью Коргуева Анной Матвеевной и личные впечатления от поездки в Кереть. О работе с архивными материалами свидетельствует хранящееся в личном деле писателя ходатайство Председателя правления Союза писателей КАССР Н. Гиппиева с просьбой предоставить В. И. Пулькину допуск к документам Центрального архива КАССР «по теме: “Литературное движение в Карелии 30–40 лет” в связи с подготовкой к 100-летнему юбилею Коргуева и работой “над повестью об этом известном сказителе”»3. О личных контактах с Анной Тютюник-Коргуевой также сохранились свидетельства. Внук Матвея Коргуева, Сергей Владимирович Тютюник, живущий сейчас в Чупе, подтвердил в личной беседе, что В. И. Пулькин приезжал в Чупу и общался там с Анной Матвеевной, дочерью сказителя, неоднократно — и в 1970-х, и в начале 1980-х гг. (ориентировочно 1982–1983 гг.). В 1980-х гг. Анна Матвеевна не раз бывала в Петрозаводске, где беседы продолжились. Участницей этих бесед была, по всей видимости, и Неонила Артемовна Криничная. Ср. в ее предисловии к сборнику сказок «Серебряный корабль»:
«Дочь Матвея Михайловича, Анна Матвеевна, вспоминает в беседе с нами …» (курсив наш. — Н. Ш ., А. Л. )4.
В качестве информанта Анна Матвеевна упомянута и в фольклорном исследовании Н. Криничной «Крестьянин и природная среда в свете мифологии». Запись от нее была сделана 2 ноября 1989 г. в Петрозаводске [Криничная, 2011: 483].
О том, что во время написания повести Виктор Пулькин лично побывал в Керети, свидетельствует авторское указание в финале машинописи из архива редакции журнала «Север»: «Кереть, Петрозаводск, Ленинград, Бухара. 1983 год»5. Рассказ о путешествии Виктора Пулькина в Чупу и Кереть опущен в «Доброй поветери», но есть в другом его тексте — «поморском сказании» «Лазоревы дельнички» (2004), вошедшем в позднейший цикл сказов «Северная Фиваида». История святого Варлаама Керетского предваряется в нем следующей преамбулой:
«Бродят по травянистому угору наезжие из недальней Чупы промысловые и гораздые рыбаки-старики. Они и приютили меня в прибрежной “тоневой” избушке, срубленной наскоро в рубиновых по осени рябинушках. Указали, где ближний родничок сладкой воды: “Но утром, когда гимн по радио играют, на ключ не ходи! Аккурат об эту пору туда приходит медведица с медвежатами. Московские новости передадут — иди, тогда безопасно!”. Выслушав жизнерадостного московского диктора, беру коромысло с ведрами, пробираюсь меж рябин. В колоннаде сосен — погост, на пирамидках с крестами и звездами — имена. Одно из встреченных на погосте имен — Матвей Михайлович Коргуев (1883–1943), всемирно известный сказочник»6.
Керетский ландшафт в этом фрагменте воспроизведен с документальной точностью — керетчане и сегодня берут воду из родника, находящегося недалеко от кладбища «на бору».
В то же время в «Доброй поветери», как и в других книгах В. Пулькина, ярко выражено авторское начало, творчески осложняющее и балансирующее документальность. Художественная ткань «Доброй поветери» с точки зрения соотношения достоверной фактографии, личных впечатлений автора, опоры на «чужое слово» и литературного вымысла интересна, поскольку близка к тому, что А. А. Ухтомский и Н. П. Анциферов называли «легендой» или «идеей» местности, имея в виду сложный синтез «мифа» и «были» в культурном освоении пространства [Федоров: 66–67]. Этот синтез ярко проявил себя в хронотопе «Доброй поветери». Это и легенды в самом прямом жанровом смысле слова — например, упоминание легенды о святом Варлааме Керетском, а также легенда о том, что во время блокады Ленинграда Матвей Коргуев чудесным образом помогал ленинградцам (236–237), и местный фольклор, и устные рассказы местных жителей о старой Керети.
Место и время событий наделены здесь исключительным значением. Образное ядро «повести о сказочнике» закономерно составляет фигура Матвея Коргуева. Но его путь представлен в необычном ракурсе, дан глазами младшего поколения — его детей. С обращения к братьям и сестрам начинается рассказанная Анной история:
«…Если бы ко мне обратились раньше! А теперь прошло столько лет. Может, сестра Александра лучше раскажет о нашем отце? <…> Может, брат Андрей расскажет об отце подробнее?» (148–149).
О его жизни повествуется нелинейно, воспоминаниям об отце сопутствуют сказочные сюжеты, подчас тесно, до неразличения, сливаясь с историческими реалиями и фактами биогра- фии сказителя: жизнь и сказка в сознании рассказчицы неотчуждаемы одна от другой. Этот принцип «слияния воедино сказки и жизни, сказителя и его творчества», по словам Е. М. Неёлова, «является центральным в повести, он определяет собой все повествование» [Неёлов: 14].
Слово Матвея Коргуева входит в текст повести главным образом через систему цитат из его сказок. Главное место среди них отдано сказке «Виноград Виноградович». Она многократно процитирована, ее мотивы вынесены в качестве параллели в рассказ о судьбе Коргуева (первая глава, рассказывающая о жизни поморов, названа, как один из персонажей сказки «Виноград Виноградович», — «Посол из моря»). Цитация сказки в повести не совпадает полностью ни с оригинальным записанным от Коргуева текстом7, ни с позднейшим литературным пересказом в сборнике «Серебряный корабль»8, представляя собой, таким образом, самостоятельный свободный пересказ сюжета. В этой вариативности В. Пулькин как бы наследует самому герою своей повести — Матвею Коргуе-ву, фольклорное творчество которого было по определению вариативно, как и всякий устный рассказ. Главенствует же в повествовании слово Анны Матвеевны, и событиям ее жизни уделено значительное внимание. В этом проявилась своего рода «фольклористская» писательская манера Виктора Пуль-кина — фиксация слова собеседника в максимальной для литературного текста полноте. Такая писательская стратегия близка к той модели, которую Н. П. Анциферов считал продуктивной в литературном краеведении: «Характеризуя определенный край, описывая его жителей, часто приводя их имена, автор, хотя бы и беллетрист, должен взять на себя определенные обязательства: подчинить свое творчество научной правдивости» [Анциферов, 2013: 91].
«Добрую поветерь» можно рассматривать как своего рода мост между поколениями. С одной стороны, это поколение ровесников Коргуева — сам сказочник, фольклористы первой половины XX в., записавшие и сохранившие его слово (Александр Николаевич Нечаев), литераторы, с которыми Коргуев встречался в Ленинграде (Алексей Толстой, Александр Прокофьев) и т. д., с другой — следующее поколение, к которому принадлежат сам автор повести, дети Коргуева и новое поколение фольклористов, приезжающих в Кереть. Так, о беседах с Н. Ф. Онегиной рассказывает в начале повести Анна Матвеевна:
«Приезжала к нам женщина из Петрозаводска, Нина Федоровна. “Матвей Михайлович был сказочник, всему миру известный, — говорит. — Он и русские былины пел, и карельские руны. А какие песни любил — не записали мы, фольклористы. Вспомните, Анна Матвевна”. И я спела несколько отцовских песен» (148–149).
Мост этот переброшен и дальше, к будущим поколениям, для которых автор и совершает свою работу, записывая слово Анны Матвеевны об отце. Цель ее — сохранить и передать память о том прошлом, которое создали предки.
Память — категория, которая связывает воедино несколько нарративных линий повести — историю, рассказанную Анной Матвеевной, встроенные в нее сказки Коргуева и другие фольклорные элементы. Не случайно, один из первых исследователей, откликнувшихся на появление «Доброй поветери», Е. М. Неёлов определил ее как «воспоминание о сказке»: «Вот он, этот точно найденный писателем угол зрения: речь пойдет даже не о самом Коргуеве и его сказках, а о том, что запомнилось, что сохранилось навсегда в памяти маленькой Анюты, завороженно слушавшей некогда сказки отца» [Неелов: 14].
Опора на мотив памяти как на сюжетообразующий находит свое обоснование в самой биографии Коргуева. Как и другие сказители, он был неграмотным, но славился необычно развитой памятью. А. Нечаев так рассказывал о Коргуеве:
«Память у Матвея Михайловича прямо таки изумительная. Записав от него одну из лубочных сказок, кажется о Францель-Венциане, я был поражен близостью варианта к книжному тексту.
Зная, что Коргуев неграмотен, спрашиваю его:
— Сколько раз и давно ли ты слышал эту сказку, и кто ее тебе читал?
— Слышал эту сказку на работах по подвеске телеграфного провода. Читали один раз вслух. Было это в 1904 году, в мае месяце. Помню, дождик шел с утра, не работали. Небольшая книжка с картинкой, — кажется, сто восемь листиков всего…»9.
История жизни сказочника вписана в историю Керети, где тот родился, жил, где был похоронен, и в историю семьи, рода. В этом смысле повесть наследует жанру исторического предания об основании населенного пункта. Наиболее удачно сформулировала жанровую дефиницию преданий Н. А. Криничная: «Предания — это устные прозаические произведения, которые своей исторической основой и реалиями связаны с социально-общественной жизнью и историей определенной, локально и социально ограниченной общности (род, соседская община, деревня, город, профессиональное объединение), представленной на той или иной стадии общественного развития, а по своей структуре соотносятся с мифом о тотемном предке, давшем в процессе эволюции многочисленные “разветвления”, “отпочкования”, модификации и производные от них образования» [Криничная, 1991: 3]. Характерная особенность, отличающая жанр исторического предания («неисторических» преданий не существует) от других жанров исторической прозы, заключается в локальности событий: «…объектом изображения в предании оказываются события местной истории (курсив наш. — Н. Ш ., А. Л. ). Первоначально предания призваны были сохранить историю конкретного рода, затем — соседской общины, впоследствии — историю определенного селения, местности» [Криничная, 1987: 10]. Предание всегда конкретно локализовано, привязано к однажды определенной и константной местности: «“Локальная замкнутость” преданий особенно очевидна при сопоставлении с былинами или историческими песнями, которые изображают события обще русской значи мости и имеют широкое распространение»10.
Уже в первой части повести зачин рассказа Анны Тютюник-Коргуевой о родном селе выполнен в привычной для предания форме:
«А теперь я расскажу вам про Кереть!
Село наше старинное. Говорят, пришли сюда наши прадеды еще до времен Марфы Посадницы. Не семьсот ли лет тому? Старики керетски помнили: наш далекий прадедам прадед звался Прокопий Борисов, пришел из Новгорода, тут распосе-лился. Пошли у него дочки да сыночки, стали быть да слыть — Коргуевы. В Керети, почитай, полсела Коргуевых» (157).
Ср. аналогичные зачины предания Беломорско-Обонежского региона:
«Расскажу я про нашу деревню Алмозеро. Была, значит, маленькая деревнюшечка. Она распоселилась…»11; «На тех местах, где находится наша деревня, в былые времена, лет триста тому назад, жили в своих землянках лапландцы, они невод запускали в воду, рыбу на Верхнем озере ловили, где ряпушки было очень много»12; «Наша деревня населена приймаками. Предки мои были не знаю каки… может, хохлы какие-нибудь: не хотели в солдаты идти, ушли от Петра, шведа забоялись. Взяли свои топоры, пилами опоясались — да и…»13.
Рассказ Анны о заселения края лапидарен и конкретен. Заселение Керетского кряжа происходило, судя по всему, в начале XVI в.:
«Вот пришли они сюда, вольные новгородцы. А зимы в те веки случались лютые, с тех пор таких и не упомнят. Им, преждебыв-шим старикам, дико и непривычно: здесь ведь тогда только дикая лопь жила, рыбу ловила, била зверя. А хлеб не ростили… На моря глянешь — а из волны зверь на тебя зрит, ой!» (158).
Кереть при этом в повести изображена как пространство, максимально открытое миру:
«А как построили в нашей Керети большие казенные хлебные амбары, стало наше село славно далеко — и у карел в залесьи, и еще дальше в северной Финляндии: оттуда в старину приезжали за хлебом. А провозили хлебушко в Кереть на шхунах из Архангельска» (158).
С этнографической точностью Пулькин воспроизводит в повести быт Керети, не связанный прямо с биографией Матвея Коргуева, но дающий детальную картину Керети начала XX в.:
«Вот, бывало, вспоминала соседка наша, Нина Яковлевна Федотова: “Меня из карельского суземья мама в берестяном кошеле принесла; я у нее за спиной в маленьких сапожках сидела. Принесли и у порожка поставили. Гляжу — дом порато чист, и — двери стеклянные! Краска на полу такая желтая, яркая. Я на четвереньки пала, пол языком-то и лизнула!” Это она дом Сергея Ивановича Коргуева вспоминала, нашего однофамильца. Он, бывало, и в будни чай с лимоном пил из синего норвежского чайника!» (159).
Норвежский чайник — неслучайная деталь. С древности Кереть, как и другие поморские селения, была перекрестком культур.
От глобальной картины повествование при этом регулярно возвращается назад к точным местным зарисовкам. Так, подробно воспроизводится в «Доброй поветери» топография Керети и ее окрестностей:
«Все деревни нашего села — и Низовье, и Верховье — тесовыми мостками вымощены» (159); «Отстоялись они от нас далеко, на Шараповском маяке, — это сорок километров от Кере-ти» (161); «Пошли вдоль Прямого берега. Здесь у всякой луды — по промысловой избенке, вплоть до Кривого берега, что излучьем идет к Умбе» (179) и т. д.
Как было сказано ранее, события, изложенные в предании, изображаются в конкретных бытовом, историческом и локальном планах. Так, стояние английской флотилии на беломорском рейде (факт, установленный соответственно историческим реалиям) сопровождается бдениями керетских поморов, схоронивших под карбасами пулеметы — орудия борьбы с внешним врагом.
В исторических преданиях северного края события Крымской кампании, а именно — нападения англичан, разоряющих приморские поселения и дающих залпы по укреплениям Соловецкого монастыря, — нашли свое отражение («Чайки Соловки от англичанки спасли. Они англичанку-ту заср<…>»; «Английские корабли к Соловкам подходили — их чайки прогнали:
закапустили и паруса, и палубу, вот как опозорили!»14). Приведенные фрагменты текстов преданий записаны автором повести В. И. Пулькиным в 1971 г. Мотив нападения английских кораблей на крепости Соловецкого монастыря, усвоенный в позднейшем пласту народной несказочной прозы, стал традиционным.
Легший в основу сюжета преданий и пересказанный автором «Доброй поветери» действительный эпизод имел место в 1854 г. Память стариков сохранила сведения о Крымской кампании, а историческая ситуация (события иностранной интервенции 1917–1922 гг.) послужила поводом к реминисценции. Морские птицы, напуганные грохотом боевых залпов, «все аглицки корабли сверху будто известкой полили. Ува-лились тогда англичана за окоем, их долго не было с пушками…» (161). Причем указанный эпизод повести носит очевидно анекдотический характер.
Из местного фольклорного материала в повествование вошли, кроме сказок Коргуева и исторических преданий, песни, присловья и поговорки. Важно, что все отмеченное среди местного материала: быт, ландшафт, язык, легенды местности, фольклор, топография, история — в контексте повести воспринимается как способ фиксации и передачи определенной системы ценностей. Ее воплощением в повести Пулькина становятся Матвей Коргу-ев и его семья. Например, слово «добрый» — одно из самых частотных в повести. Доброта как главное личное качество Коргу-ева много раз подчеркнута в повествовании дочери об отце. Лейтмотив повести о поморском селе — «добрая поветерь», вынесенный помимо прочего в заглавие и означающий буквально попутный, нужный ветер, в этом контексте реэтимологизируется, возвращается к значению эпитета «добрый» как «хороший, не злой, ласковый». Лексема «добро» вынесена в сильные позиции текста — заглавие и финал. Заканчивается повесть дочерней эпитафией на могиле Коргуева в Керети: «Отцу за доброту, за ласку, за волшебную сказку» (238). Интересно, что в повести надпись передана не совсем точно, точный текст эпитафии: «Вечная память отцу за добро да за ласку, за волшебную сказку». Сложно сказать, была ли трансформация более широкой в своих значениях лексе мы «добро» в с вязанную с личными человеческими качествами
«доброту» сознательным приемом автора. Здесь могла иметь место ошибка памяти. Но это внимание к личным качествам героя в итоге стало для повести концептуальным, поскольку последовательно прослеживается от начала и до конца повествования.
Genius loci у Пулькина — это голос самого места, фиксирующий его уникальность, его особенную топографию и историю. Уникальность Керети в повести важной и различимой становится не сама по себе, а в общей широкой картине Русского Севера. Хронотоп повести не локализован исключительно во времени и месте жизни Коргуева, а широко развернут как в своих пространственных координатах (от Мурмана до Ленинграда и Москвы), так и во временных — от «досюльных» времен поморских и карельских предков Кор-гуева до появления его ленинградских правнуков. «Дух места» здесь обладает достаточной силой, чтобы не потеряться на фоне мощных влияний. Сами эти влияния осваиваются и усваиваются, формируя баланс глобального и локального. При этом ядро повествования остается очень четким — это Русский Север и жизнь нескольких поколений, память о которых сохранялась в период написания повести. Ср. у Анциферова: «… только в сочетании постоянных наблюдений местного жителя с впечатлениями приезжего можно вскрыть целокуп-ный образ своего края. При этом в основе его построения должны лежать продуманные и проверенные итоги местных людей, сросшихся со своим краем » [Анциферов, 2013: 76].
Помимо нарративной формы исторического предания, повесть В. И. Пулькина составляют фрагменты, как нам кажется, изоморфные традиционной форме сказа. В классификаторе В. Я. Проппа сказом назван род «рассказов “о необычайных встречах или необычайных событиях”» [Пропп: 52]. Рассуждая о составе фольклорных жанров, их дифференцирующих признаках и характерных составляющих, В. Я. Пропп в числе прочего назвал присущий сказу «признак художественности» (вместе с тем сказы невариативны, в отличие от некоторых других фольклорных жанров, и широко не распространяются в народном хождении), а также ценность сказов как источников фактического материала [Пропп: 52]. Быть может, особой мелодической интонации писатель достигает как раз посредством стилистического уподобления сказовой манере повествования, имитируя устный былинный, сказочный рассказ. На уровне лексики сказовая специфика эксплицируется в употреблении архаичных и просторечных форм:
« По тихой воде, по прозрачному воздуху несет нашу песню далеко-далеко …» (152); « Наша Кереть в море смотрит — не насмотрится ; от каждого дома под горку тропка, что ручей» (159); «В старину-то, сказывают, мазали деды-прадеды мачты на карбасах, елах, шняках коровьим маслом: старопрежние люди!.. <…> Станут на воду хлеб спускать, усердно, просительно вы-свистывать-свистеть, просить у Севера поветери — доброго спопутного ветра …» (152); « Едем по лесу, едем морем. Снеги горят! Стало солнышко укладываться к карелам в суземье-залесье, а мы все катим ему вослед по зимнику. <…> Вечерняя зоря красным-красна, и снеги красные, неоглядные, и ленты на дугах алые, и флаг…» (204–205) (курсив наш. — Н. Ш ., А. Л. ).
Таким образом, «Добрая поветерь» Виктора Пулькина это своего рода художественное исследование духа местности Керети, проявившего себя в уникальном таланте Матвея Коргуева. И одновременно — авторская интерпретация этого таланта: Виктор Пулькин изучает и фиксирует легенды местности, воспоминания местных жителей, но он же вносит изменения, пересказывает по-своему даже то, что известно и зафиксировано (тексты сказок Коргуева, надпись на могиле сказочника). Создавая картину жизни сказителя, Пулькин вводит в текст историю (большую — как историю страны, и малую — семейную), язык, топографию. В образе Коргуева подчеркнуты его уникальные творческие способности, личные качества. Но подлинным центром повествования становятся надличностные ценности традиционной севернорусской культуры, из которых рождаются личные качества лучших из северян — чувство собственного достоинства, стоицизм, юмор, доброта, желание помогать.
Принадлежа к следующему поколению, Виктор Пулькин уже не запоминал, он записывал рассказы своих героев, оформляя впоследствии полевые записи литературно, но стараясь при этом сохранить стиль и интонацию живой речи. Лучше всего к этой авторской стратегии приложимы слова Н. Я. Берковского из его лекции о творческом наследии братьев Гримм: «Это подлинные сказки, сделанные по подлинным записям. Гриммы усердно собирали, записывали их. Но это не есть сказки в сыром виде. Они обработаны. И все чудо в том, как они обработаны. Это сделано необычайно деликатно, очень близко к духу, стилю, складу подлинника. В обработках нет никакой отсебятины. Это соединение науки и художественности» [Берковский: 64]. В этом его манера, по справедливому утверждению Ю. И. Дюжева, близка к творческим поискам Бориса Шергина, Степана Писахова, Павла Бажова, совершивших каждый по своему шаг от фольклора к литературе, искавших единения начала коллективного, фольклорного и личного, авторского [Дюжев: 211]. Для Карелии, как кажется, литературное наследие Виктора Пулькина близко к тому значению, которое имеет литературное наследие Бажова для Урала, Шерги-на и Писахова — для Архангельской области. Не случайно именно Бажова в качестве genius loci Урала Пулькин вспоминает в предисловии к «Подаренью», раскрывая концепцию собственной книги как исследование своей малой родины и ее уникальности на фоне многообразного большого мира и попутно очерчивая масштабы своих странствий:
«Будучи на Урале на думной и Азов-горе, помнящих Павла Бажова, на берегу Братского моря, переступая порог башни, где некогда пылал неукротимый дух протопопа Аввакума, в ненецком чуме или в тени баньяна, сидя в кругу вьетнамских друзей, — всегда были со мной родные края, везде слышал раскат санных полозьев по льду и слова идущего от сердца напутствия» (7).
Поэтика «Доброй поветери» органически родственна фольклорной словесной традиции, знатоком, собирателем и сохранителем которой был В. И. Пулькин. Авторское начало в повести реализуется в отборе художественного материала, композиционном решении, в самой организации нарратива. Интенция памяти, лежащая в основании как предания, так и сказа, легенды роднит жанры народной несказочной прозы, долженствующие не только разъяснить, но, прежде всего, сохранить, передать сведения о временах «досюльных», о были времен минувших. Она же — интенция памяти — определяет пафос повести В. И. Пулькина, синкретически сочетающей жанровые черты сказа, предания и волшебной сказки.
Список литературы Поэтика genius loci в повести В. Пулькина "Добрая Поветерь"
- Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1922. 228 с.
- Анциферов Н. П. Беллетристы-краеведы (Вопрос о связи краеведения с художественной литературой) // М. И. Смирнов и М. М. Пришвин в Переславле-Залесском (1925-1926). Сергиев Посад: Все для Вас Сергиев Посад, 2013. С. 72-93.
- Берковский Н. Статьи и лекции по зарубежной литературе. СПб.: Азбука-классика, 2002. 480 с.
- Вайль П. Гений места. М.: Изд-во «Независимая газета», 1999. 484 с.
- Дюжев Ю. И. На грани литературы и фольклора (о прозе В. И. Пулькина) // Межкультурные взаимодействия в полиэтничном пространстве пограничного региона: сб. мат-лов Междунар. научн. конф. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2005. C. 206-211.
- Замятин Д. Н. Гений и место: ускользающая со-в-местность // Общественные науки и современность. 2013. № 5. С. 154-165.
- Захаров В. Н. Идея этнопоэтики в современных исследованиях // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 3. С. 7-19 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1593805089.pdf (20.04.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8382
- Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: вопросы генезиса и структуры. Л.: Наука, 1987. 227 с.
- [Криничная Н. А.] Предания Русского Севера: [исслед. и тексты] / АН СССР, Карел. фил., Ин-т яз., лит. и истории. СПб.: Наука, 1991. 328 с.
- Криничная Н. А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии: бы-лички, бывальщины и поверья Русского Севера. М.: Университет Дмитрия Пожарского: Русский фонд содействия образованию и науке, 2011. 623 с.
- Криничная Н., Пулькин В. Слова преданий — летопись живая // Север. 1977. № 8. С. 86-94.
- Неёлов Е. М. Сказка. Фантастика. Современность. Петрозаводск: Карелия, 1987. 126 с.
- Петров А. М. Фольклорно-литературные связи в творчестве Виктора Пулькина (на материале рассказа «Лазоревый камзол») // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42. № 5. C. 100-107.
- Пропп В. Я. Фольклор и действительность: избр. ст. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976. 326 с.
- Сенькина Т. И. Забытые и неизвестные страницы истории фольклористики Карелии: очерки и материалы. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012. 218 с.
- Федоров М. Л. «Легенда» в трудах А. А. Ухтомского и Н. П. Анциферова: к содержанию понятия // Мир русского слова. 2015. № 3. С. 63-67.
- Шилова Н. Л. Фольклорная фантастика в «Кижских рассказах» Виктора Пулькина // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 2016. Вып. 4. С. 247-261 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/ redaktor_pdf/1482760511.pdf (20.04.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2016.3581
- Genius loci в литературе, искусстве, культуре: сб. науч. ст. СПб.: Свое издательство, 2018. 240 с.