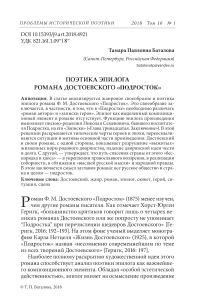Поэтика эпилога романа Достоевского "Подросток"
Автор: Баталова Тамара Павловна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.16, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется жанровое своеобразие и поэтика эпилога романа Ф. М. Достоевского «Подросток». Это своеобразие заключается, в частности, в том, что в «Подростке» необходимо различать «роман автора» и «записки героя». Эпилог как выделенный композиционный элемент в романе отсутствует. Функцию эпилога произведения выполняет письмо-рецензия Николая Семеновича, бывшего воспитателя Подростка, на его «Записки» («Глава тринадцатая. Заключение»). В этой рецензии раскрываются типические черты героев и эпохи, переосмысливаются ситуации и мотивы основной части произведения. Достоевский в своем романе, с одной стороны, показывает разрушение «выжитых» жизненных норм родового дворянства, падение дворянской идеи чести и долга. С другой, - утверждает, что путь спасения страны от этого «беспорядка и хаоса» - в укреплении православного воззрения, в реализации соборности, в сближении «высшей русской мысли» и народной правды. В этом заключается смысл заглавия романа: все русское общество и страна в целом - подросток.
Достоевский, жанр, роман, эпилог, сюжет, герой, ситуация, сцена
Короткий адрес: https://sciup.org/14749046
IDR: 14749046 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2018.4921
Текст научной статьи Поэтика эпилога романа Достоевского "Подросток"
Р оман Ф. М. Достоевского «Подросток» (1875) менее изучен, чем другие романы писателя. Как отмечает Хорст-Юрген Геригк, «большинство критиков говорит лишь о четырех великих романах Достоевского или же попросту не упоминает “ Подростка ” при перечислении шедевров Достоевского» [Геригк, 2016: 192–193]. На этом фоне ученый выделяет монографию Карла Нетцеля «Жизнь Достоевского» (1925), в которой «Подросток» назван «несомненно современнейшим по теме из всех творений Достоевского» [Геригк, 2016: 197].
Наиболее полному раскрытию художественной идеи этого романа способствует анализ поэтики эпилога как важнейшего композиционного элемента. Обладая «особой эстетической действенностью», эпилог влияет на осмысление произведение в целом [Краснов: 128–129]. Эпилог определяется жанровыми особенностями произведения, характером повествования и сюжета.
Достоевскому в «Подростке» «удалось вместить две формы повествования — от автора и от лица героя. <…> Герой не только рассказывает о себе, он еще и “как бы” автор, описывает и то, что было “до него и без него”» [Захаров, 2015: 566], т. е. прошедшее время сочетается с предпрошедшим [Геригк, 2003: 9].
Рассказы не от лица Аркадия Долгорукого, а от лица других персонажей также можно считать авторским повествованием.
Следовательно, в «Подростке» «важно различать роман автора и записки героя : роман сочинил автор, записки написаны от лица героя. В своих записках Подросток решал творческие задачи: что и как писать» [Захаров, 2013: 387]. Для жанра записок характерно удвоение сюжета [Викторович: 23]. Как отмечает В. М. Димитриев, «…устанавливается двойственная природа рецепции вспоминаемых событий: одновременно участное переживание и суд над собой» [Димитриев: 82]. Таким образом, сочетание в «Подростке» романа автора и записок героя проявляется в оригинальном сюжете произведения, который не только удваивается, но и утраивается.
Утверждение В. Л. Комаровича, который полагает, что органическое единство «Подростка» создается посредством «динамической» взаимосвязи «обособленных, взаимно непроницаемых» сюжетных линий [Комарович: 45], может считаться справедливым по отношению к роману автора.
Сюжет романа автора проявляется композиционно, отражая общественную иерархию действующих лиц: в первой части показана разночинная молодежь, во второй — великосветские герои, в третьей — представители высшего культурного слоя России. Каждая часть и ее сюжетные линии завершаются кризисной ситуацией. Возникает необходимость их осмысления, т. е. — эпилога.
Выделенного композиционного элемента «Эпилог» в «Подростке» нет. Последняя глава романа — «Глава тринадцатая. Заключение» — оканчивается письмом-рецензией Николая Семеновича, бывшего воспитателя Подростка, Аркадия Долгорукого, на его «Записки». Это письмо и выполняет функцию эпилога произведения. Два фрагмента рецензии комментируют поведение и «идею» Подростка, завершая «Записки» Аркадия Долгорукого. Николай Семенович определяет их только как «материал» «для будущаго художественнаго произведенiя, для будущей картины безпорядочной, но уже прошедшей эпохи»1. Какую же роль этой рецензии в композиции романа придает Достоевский? На что он обращает внимание читателей и критики? Ответ на этот вопрос дает рассмотрение функции рецензии как эпилога.
Характеризуя метод будущего художника, не желающего «писать лишь въ одномъ историческомъ родѣ», «одержимаго тоской по текущему», и типы героев, рецензент приходит к выводу о том, что это «работа неблагодарная» и «типы эти, во всякомъ случаѣ — еще дѣло текущее, а потому и не могутъ быть художественно-законченными. Возможны важныя ошибки, возможны преувеличенiя, недосмотры» (564–565). Писатель должен многое «угадывать» и допускать возможность «ошибаться» в поисках «прекрасных форм» «для изображенiя минувшаго безпорядка и хаоса».
По признанию самого Достоевского, «целое» у него «всегда выходило в виде героя »2. В романе автора яркие образы созданы несколькими характерными, точными штрихами. Это своеобразие сообщает героям символичность, которая и раскрывается рецензентом.
Главные герои романа — представители древних дворянских родов. Рецензент рассуждает о родовом дворянстве русской национальной культуры:
«…лишь въ одномъ этомъ типѣ культурныхъ русскихъ людей возможенъ хоть видъ красиваго порядка <…> тут, напримѣръ, уже были законченныя формы чести и долга…» (562).
Но теперь, на его взгляд, идет процесс разрушения этого типа людей, показанный через психологию персонажей.
Князь Сергей Петрович Сокольский реализует «право на бесчестие». Автор сопоставляет Сергея Сокольского и Андрея Версилова. Их характеризует один и тот же персонаж — Васин. На его взгляд, Сергей Петрович «полонъ честныхъ наклонностей и впечатлителенъ, но не обладаетъ ни разсудкомъ, ни силою воли, чтобы достаточно управлять своими желанiями» (169). В отличие от него, по словам Васина, Версилов «спосо-бенъ задать себѣ огромныя требованiя и можетъ быть, ихъ выполнить, — но отчету никому не отдающiй»; «это — очень гордый человѣкъ»; «изъ нихъ выходятъ чрезвычайно горячо вѣрующiе» (62).
Эта противоположность героев реализуется в их поступках. Оклеветав дочь командира полка и корнета Степанова, князь Сергей вынужден оставить полк (169). Версилов напоминает ему о дворянской чести и долге. Именно он великодушно берет под свою опеку незаконнорожденного ребенка князя Сергея и Лидии Ахмаковой. При этом Сергей Петрович унизительно соглашается никогда не видеть эту девочку (460).
Андрей Петрович отказывается от уже присужденного ему по закону наследства в пользу князей Сокольских. Сергей Петрович вместо половины (что было бы естественно) обещает ему треть, но и это обещание осталось им невыполненным. Мечтая с Лизой Долгорукой о своем нравственном перерождении, князь думал о женитьбе на Ахмаковой. Узнав о предполагаемом ее замужестве с Бьюрингом, он ездил с предложением о браке к дочери Версилова, Анне Андреевне. В игорном доме «отрекся» от Аркадия Долгорукого, когда того оклеветали в воровстве (329). В результате такой «широкости» характера Сергей Петрович оказался вовлеченным в компанию ростовщика и фальшивомонетчика Стебелькова (301–307).
Безвыходное положение князя Сергея после проигрыша вынуждает его сознаться в совершенных им проступках: он «написалъ письмо въ прежнiй полкъ къ прежнимъ товари-щамъ», оправдал оскорбленных им, признался Лизе в своих изменах ей (345–346). Несмотря на это, в тюрьме из ревности он донес на Васина (416). Оба героя — князь Сергей и Версилов — намеревались жениться на девушках из низшего сословия. Но их взаимоотношения с избранницами различны. Князь Сергей стал причиной бесконечных страданий Лизы: «…без-выходное, безконечное горе безъ разсвѣта легло навѣкъ надъ всей судьбой этой… добровольной искательницы мученiй!» (416). Само имя героини — Лиза — символизирует здесь, как и в других романах Достоевского (например, невинная жертва
Раскольникова Лиза из «Преступления и наказания», Лиза Хохлакова из «Братьев Карамазовых»), «разрушение идиллии» (cм.: [Кунильский: 283]).
В картине разрушения «красивого типа» не менее ярки и женские образы представительниц высшего света.
В образе Катерины Николаевны Ахмаковой писатель переосмыслил литературный тип коварной красавицы. Эта героиня неоднозначна. Она привлекательна, но, вместе с тем, — «притворщица и иезуитка» (476). О ее «нравственных достоинствах» говорит «документ» — ее письмо, в котором она, беспокоясь о целостности своего предполагаемого наследства, ищет «возможно ли будетъ, по законамъ, объявить князя <ее отца> въ опекѣ или въ родѣ неправоспособнаго» (71). Чтобы добыть это пропавшее, компроментирующее ее, письмо, она «не устыдилась» (318) играть в любовь не только с Версиловым, но и с Подростком.
Следует отметить, что по сюжету романа она большую часть времени находится за границей. Уже отмечалось, что романные хронотопы у Достоевского «условны, и в их условности очевидны символические значения» [Захаров, 2012: 134]. В этом свете пространственная «граница» воспринимается в произведении как противопоставление идеала реальности.
Таким образом, и этот персонаж «разрушает» высший принцип дворянства — «честь и долг», — т. е. вносит «беспорядок», драматизируя жизнь окружающих.
«Искусство» Ахмаковой, вероятно, по-своему вдохновило и дочь Версилова Анну Андреевну действовать в том же, теперь общем для высшего света, направлении. Стремясь завладеть наследством старого князя Николая Ивановича Сокольского, она сама себя предлагает ему в жены. В письме-рецензии (эпилоге романа), Николай Семенович отдает должное ее характеру, сравнивая с реальной исторической личностью, осужденной в 1874 году: «…и чѣмъ же не съ характеромъ дѣвица? Лицо въ размѣрахъ матушки-игуменьи Митрофанiи» (564).
Рецензент обобщает образы, нарисованные автором романа, выделяет его главную мысль:
«Нынѣ, съ недавняго времени, <…> отъ красиваго типа отрываются, съ веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются въ одну кучу съ безпорядствующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники быв-шихъ культурныхъ семействъ смѣются уже надъ тѣмъ, во чтò можетъ быть еще хотѣли бы вѣрить ихъ дѣти. Мало того, съ увлеченiемъ не скрываютъ отъ дѣтей своихъ свою алчную радость о внезапномъ правѣ на безчестье, которое они вдругъ изъ чего-то вывели цѣлою массой» (563).
К этим отрывающимся от «красивого типа» «кускам» пристает и такой «сор» из «беспорядствующих и завидующих» как купец и «публичная дама», жестоко оскорбившие Олю, аферист и фальшивомонетчик Стебельков и бандит-шантажист Ламберт.
Особое место в романе занимает молодежь, «ищущая беспорядка» — «дергачевцы». Рецензент осмысливает и их деятельность. Исторический опыт подсказывает ему, что подобные явления — следствие того же «хаоса», создаваемого «отрывающимися» «кусками и комками». «Желание беспорядка» у юношей, на его взгляд, происходит от «затаенной жажды порядка и “благообразiя”» в порывах «искания истины» (561). Рецензент замечает, что прежде эти юноши «почти всегда кончали тѣмъ, что съ успѣхомъ примыкали, впослѣдствiи, къ нашему высшему культурному слою и сливались съ нимъ въ одно цѣлое». Трагедия в том, что «нынѣ <…> примкнуть почти не къ чему» (562). «Беспорядок» приводит к безысходости, к трагедии — самоубийству — Олю, Андреева и др. «Нынче всѣ вѣшаются», — обобщает Тришатов (436). Следствием этого «беспорядка и хаоса» становятся мысли о «второстепенности» России и о бессмысленности для русского человека жить, высказанные Крафтом (165).
Особое место и в романе, и в рецензии занимает образ Версилова. Он один из «тысячи» «русских европейцев», которые хранят «высшую русскую мысль». С «дворянской тоской», «разженившись» с Софьей Андреевной, он скитается по распадающейся Европе как русский европеец.
Идею о «золотом веке» Версилов переосмысливает как «последний день Европы»:
«…это заходящее солнце перваго дня европейскаго человѣчества, которое я видѣлъ во снѣ моемъ, обратилось для меня тотчасъ, какъ я проснулся, на яву, въ заходящее солнце послѣдняго дня европейскаго человѣчества! Тогда особенно слышался надъ Европой какъ бы звонъ похороннаго колокола» (466).
Образ заходящего солнца «является здесь у Достоевского всемирно-историческим символом»: «то, что будет с европейским человечеством, <…> будет эпохой косых лучей» — «эпохой заката» [Дурылин: 188–189]3.
Развалу Европы противостоит «высшая русская мысль» — «всепримирение идей». Версилов связывает ее с русским дворянством:
«У насъ создался вѣками какой-то еще нигдѣ не виданный высшiй культурный типъ, котораго нѣтъ въ цѣломъ мiрѣ — типъ всемiрнаго болѣнiя за всѣхъ. Это — типъ русскiй, но такъ какъ онъ взятъ въ высшемъ культурномъ слоѣ народа русскаго, то, стало быть, я имѣю честь принадлежать къ нему. Онъ хранитъ въ себѣ будущее Россiи» (467).
Рецензент отмечает в характере Версилова черты, типичные для представителей высшего культурного слоя России того времени — отрыв их высших идей от реальной жизни, что также выражает «беспорядок»:
«Это — дворянинъ древнѣйшаго рода и, въ тоже время, парижскiй коммунаръ. Онъ, истинный поэтъ и любитъ Россiю, но зато и отрицаетъ ее вполнѣ. Онъ безъ всякой религiи, но готовъ почти умереть за что-то неопредѣленное, чего и назвать не умѣетъ, но во чтò страстно вѣруетъ по примѣру множества русскихъ европейскихъ цивилизаторовъ петербургскаго перiода русской исторiи» (564).
Таким образом, рассмотренные выше образы героев символичны и являются отражением характера своей эпохи. Рецензия, раскрывая типические черты героев и эпохи, является обобщением и завершением романа, т. е. — эпилогом.
Вместе с тем изображаемая картина художественно «не завершена». Сюжетные линии в ней взаимно обособлены, взаимно непроницаемы. Динамические композиционные взаимосвязи рецензент или не замечает, или не считает их сюжетообразующими.
Ту же «хаотичность и случайность» рецензент находит и в рукописи Подростка. Поэтому она — не роман, а только «материал для будущего художественного произведения».
Впрочем, рецензент односторонен. Рассмотренные герои — не только социальные типы, а характеры и личности. Так, верно указанные противоречивые черты характера и убеждений абсолютизированы в рецензии. Вне внимания рецензента оказались личностные качества героя, перспективные для представителей высшего культурного слоя России. Они проявляются на неосмысленном рецензентом уровне произведения.
Сюжетная линия Версилова связывает все сюжетные линии в единое целое — роман автора. Сюжет основной его части обрывается неожиданно:
«Въ это мгновенiе съ крикомъ ворвалась Татьяна Павловна; но онъ <Версилов> уже лежалъ на коврѣ безъ чувствъ, рядомъ съ Ламбертомъ» (552).
Возникает необходимость осмысления этой сцены и всех предшествующих событий, т. е. — эпилога. Эту роль выполняет «Заключение»:
«Теперь этой сценѣ минуло почти уже полгода, и многое утекло съ тѣхъ поръ, многое совсѣмъ измѣнилось…» (552); «Теперь, когда я пишу эти строки — на дворѣ вѣсна, половина мая <…>. Мама сидитъ около него <Версилова>; онъ гладитъ рукой ея щеки и волосы и съ умиленiемъ засматриваетъ ей въ глаза. О, это — только половина прежняго Версилова; отъ мамы онъ уже не отходитъ и ужь никогда не отойдетъ болѣе. <…> Весь умъ его и весь нравственный складъ его остались при немъ, хотя все, чтò было въ немъ идеальнаго, еще сильнѣе выступило впередъ. Я прямо скажу, что никогда столько не любилъ его, какъ теперь…» (553–554); «О Катеринѣ Николаевнѣ онъ какъ будто совершенно забылъ и имени ея ни разу не упомянулъ. О бракѣ съ мамой тоже еще ничего у насъ не сказано» (554).
Эта сцена показывает иные, по сравнению с предшествующими, взаимоотношения героев, их душевное состояние. Она способствует осмыслению происшедшего, о чем говорит то, что это происходит полгода спустя после окончания основных событий романа. Кроме того, у рассказчика здесь другое мироощущение.
Рассматриваемая сцена обобщает и завершает роман автора. Об этом свидетельствует то, что она «рифмуется» (термин И. М. Мейера) [Мейер: 600] с ситуациями основной части произведения, которые выражают развитие основного конфликта романа автора — душевной драмы Версилова: одновременного переживания несовместимых между собой чувств к Софье Андреевне и Ахмаковой.
Версилов любит и «красоту» Софьи Андреевны, и ее сердце:
«…она болѣе, чѣмъ кто нибудь, способна понимать мои недостатки, да и въ жизни моей я не встрѣчалъ съ такимъ тонкимъ и догадливымъ сердцемъ женщины» (473).
В разговоре с Аркадием он вспоминает, что, «разженившись» с Софьей Андреевной, скитаясь по Европе, осознал глубину своего чувства к ней:
«…я вдругъ началъ понимать всю степень моей, таившейся во мнѣ, любви къ твоей матери» (473); «я съ судорожнымъ нетерпѣ-нiемъ мечталъ объ цѣлой новой программѣ жизни…» (475).
Этому женскому образу противопоставлена Катерина Николаевна Ахмакова, коварство которой понятно Версилову:
«— Нѣтъ, вы не смѣшны, а вы — только развратная, свѣтская женщина! поблѣднѣлъ онъ ужасно» (514); «съ первой встрѣчи она поразила его, какъ бы заколдовала чѣмъ-то. Это былъ фа-тумъ. <…> Онъ не захотѣлъ его, “не захотѣлъ любить”. <…> не пожелалъ этого рабства страсти. <…> Она скоро проникла тогда въ его тайну <…> и кокетничала съ нимъ нарочно…» (475–476).
Драма Версилова углубляется двойственностью его положения. С одной стороны, он испытывает страсть к Ахмако-вой — безнравственной кокетке, с другой — продолжает любить Софью Андреевну, молча страдающую, знающую о чувствах к другой, но бесконечно его любящую. Душевные мучения Версилова, вызванные этой развоенностью, говорят о зарождении в нем стремления понять душу Софьи Андреевны:
«Пуще всего меня мучило воспоминанiе о ея вѣчной приниженности передо мной и о томъ, что она вѣчно считала себя безмѣрно ниже меня во всѣхъ отношенiяхъ…» (473).
Страдая от страсти к Катерине Николаевне, Версилов знал, что она его не понимает:
«— Я воображаю васъ, когда я одинъ, всегда. Я только и дѣлаю, что съ вами разговариваю. <…> Но вы всегда смѣетесь надо мною, какъ и теперь… онъ проговорилъ это какъ бы внѣ себя…» (515); «мнѣ жаль только, что я полюбилъ такую, какъ вы…» (516).
Преодолевая «рабство страсти», Версилов стремится обрести сына, а с ним — и семью. Аркадий вспоминает встречу с Версиловым, когда они говорили «как два друга в высшем и полном смысле слова»:
«Милый мой, я давно тебя ждалъ сюда. Я давно мечталъ, кàкъ мы здѣсь сойдемся; знаешь ли, какъ давно? — уже два года мечталъ. <…> Садись къ самовару. Я буду воображать, что мы вѣчно съ тобой такъ жили и каждый вечеръ сходились, не разлучаясь. Дай мнѣ посмотрѣть на тебя <…> Кàкъ я его люблю, твое лицо!» (461).
Теперь в борьбе с раздвоением своих чувств к Софье Андреевне и Ахмаковой наступает кульминация — решимость Версилова покончить с «фатумом»:
«Вдругъ онъ <…> стремительно вскочилъ, мгновенно выхватилъ образъ изъ рукъ Татьяны (Татьяны Павловны Прутковой. — Т. Б. ) и, свирѣпо размахнувшись, изо всѣхъ силъ ударилъ его объ уголъ изразцовой печки. Образъ раскололся ровно на два куска…» (507).
Здесь обыгрывается каламбур — «расколоть раскольничий» образ. Этот поступок отрицает русский раскол, но в форме отрицания старой допетровской России.
И в то же время Версилов, преодолевая страсть, стремится к чистому, «ангельскому»: «А все-таки къ тебѣ <Софье Андреевне> вернусь, къ послѣднему ангелу!» (508).
Эту сцену как бы продолжает и завершает заключительная сцена романа, в которой «нѣкоторая злорадная аллегорiя, нѣкоторая какъ бы ненависть къ ожиданiямъ этихъ женщинъ, нѣкоторая злоба къ ихъ правамъ и къ ихъ суду» (553) реализуется. Она нужна Достоевскому не только для мелодраматического заострения сюжета. Главная роль в этой сцене отводится сыну. Аркадий спас Версилова от убийства Ахмаковой и от самоубийства:
«Вдругъ онъ <Версилов> замахнулся на нее револьверомъ, но, какъ бы догадавшись, обернулъ револьверъ и навелъ его ей въ лицо. Я мгновенно, изо всей силы, схватилъ его за руку и за-кричалъ Тришатову. Помню: мы оба боролись съ нимъ, но онъ успѣлъ вырвать свою руку и выстрѣлить въ себя. Онъ хотѣлъ застрѣлить ее, а потомъ себя. Но, когда мы не дали ея, то уткнулъ револьверъ себѣ прямо въ сердце, но я успѣлъ оттолкнуть его руку кверху и пуля попала ему въ плечо. Въ это мгновенiе съ крикомъ ворвалась Татьяна Павловна; но онъ уже лежалъ на коврѣ безъ чувствъ, рядомъ съ Ламбертомъ» (552).
Сцена из «Заключения» («Теперь, когда я пишу эти строки…»), подытоживая развитие рассмотренных выше отрицающих друг друга ситуаций, обобщает и завершает их. На смену душевной драме героев пришла взаимная любовь, собирающая их в единую семью, основанную не на «выжитых» «красивых» нормах дворянских родов, а на принципах соборности, которая «означает коммюнитарность, не знающую внешнего над собой авторитета, но не знающую и индивидуалистического уединения и замкнутости» [Есаулов: 25]. В сюжетных линиях Версилова, Софьи Андреевны, Аркадия проявлялось (как бы заложенное в них) стремление к такой коммюнитарности.
Однако семейная идиллия еще не достигнута. Аркадий замечает:
«О Катеринѣ Николаевнѣ онъ <Версилов> какъ будто совершенно забылъ и имени ея ни разу не упомянулъ. О бракѣ съ мамой тоже еще ничего у насъ не сказано» (554).
Следовательно, автор намечает перспективу в развитии героев и их взаимоотношений. А. Л. Стожкова высказала суждение, что «Достоевский через третий персонаж <Подростка> выходит за рамки двойственной оппозиции, “размыкает” ее изнутри, реализуя мысль о невозможности прямого взаимоперехода предельной цельности и крайнего интеллектуализма — мысль, которая предчувствовалась и Лермонтовым, и Тургеневым, и Толстым» [Стожкова: 101]. Между тем «третий персонаж» не «размыкает изнутри» «двойственную оппозицию» и не реализует «мысль о невозможности прямого взаимоперехода предельной цельности и крайнего интеллектуализма» — напротив: «В финале романа Аркадий расстается с духовным сиротством. Он встает на истинный путь: произошло соприкосновение его идеи с идеалом Версилова и правдой Макара Долгорукого» [Захаров, 2015: 572]. Сопоставляя в «Подростке» два эпилога (эпилог «Записок» и эпилог произведения — «материал для художественного произведения» и «роман»), Достоевский показывает путь спасения разрушающейся, как и Европа, России, которая должна выйти из «хаоса и беспорядка» реализацией в обществе принципов соборности. Этот смысл писатель вкладывает и в заглавие романа, которое подчеркивает устремление России в будущее («Подросток»). Если это роман воспитания, то не одного Аркадия Долгорукого, а всего русского общества.
Дата поступления в редакцию: 12.02.2018
THE POETICS OF THE EPILOGUE
IN DOSTOEVSKY’S NOVEL “A RAW YOUTH”
Received: February 12, 2018 Date of publication: March 31, 2018
Список литературы Поэтика эпилога романа Достоевского "Подросток"
- Викторович В. А. Жанр записок у Толстого и Достоевского//Лев Толстой и русская литература. -Горький, 1981. -С. 18-25.
- Геригк Х.-Ю. Литературное мастерство Достоевского в развитии. От «Записок из Мертвого дома» до «Братьев Карамазовых». -СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; Нестор-История, 2016. -320 с.
- Геригк Х-Ю. Роман «Подросток» в историко-литературной перспективе//Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: возможности прочтения: сб. ст. -Коломна, 2003. -С. 9-16.
- Гроссман Л. П. Достоевский. -М.: Молодая гвардия, 1963. -544 с. (Жизнь замечательных людей) . -URL: http://www.informaxinc.ru/lib/zhzl/dost_grossman/#CO2 (09.02.2018).
- Димитриев В. М. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: от «текущей действительности» к памяти (Достоевский и Бергсон)//Достоевский и современность. -Великий Новгород, 2015. -С. 78-90.
- Дурылин С. Н. Об одном символе у Достоевского//Достоевский: Труды Государственной Академии Художественных наук. Литературная секция. Вып. 3. -М.: ГАХН, 1928. -С. 163-198.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. -288 с.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского. Типология и поэтика. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. -209 с.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. -М.: Индрик, 2012. -262 с.
- Захаров В. Н. Имя автора -Достоевский. Очерк творчества. -М.: Индрик, 2013. -456 с.
- Захаров В. Н. Творчество как обретение Слова//Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты. Т. ХI. Подросток. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. -С. 566-576.
- Комарович В. Л. Роман Достоевского «Подросток» как художественное единство//Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2./под ред. А. С. Долинина. -Л.; М.: Мысль, 1924. -С. 31-70.
- Краснов Г. В. Сюжеты русской классической литературы. -Коломна, 2001. -141 с.
- Кунильский А. Е. «Лик земной и вечная истина». О восприятии мира и изображении героя в произведениях Ф. М. Достоевского. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. -302 с.
- Мейер И. М. Рифма ситуаций в одном романе Достоевского//IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. -М., 1962. -Т. 1. -С. 600-601.
- Стожкова А. Л. Роман «Подросток» в свете литературной оппозиции цельного и рефлектирующего сознания//Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: возможности прочтения: сб. ст. -Коломна, 2003. -С. 99-109.