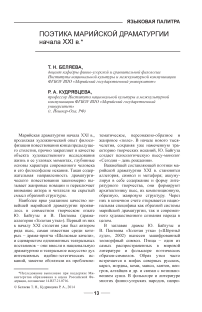Поэтика марийской драматургии начала XXI в
Автор: Беляева Татьяна Николаевна, Кудрявцева Раисия Алексеевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
Выявляются особенности поэтики марийской драматургии начала XXI в. на основе анализа ее жанровой и образной структуры.
Поэтика, марийская драматургия, жанровая и образная природа
Короткий адрес: https://sciup.org/14723047
IDR: 14723047
Текст научной статьи Поэтика марийской драматургии начала XXI в
Р. А. КУДРЯВЦЕВА, профессор Института национальной культуры и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»
(г. Йошкар-Ола, РФ)
Марийская драматургия начала XXI в., продолжая художнический опыт филосо-физации повествования конца предыдущего столетия, прочно закрепляет в качестве объекта художественного исследования жизнь в ее узловых моментах, глубинные основы характера современного человека и его философские искания. Такая содержательная направленность драматургического повествования закономерно вызывает жанровые новации и переключает внимание автора и читателя на скрытый смысл образной структуры.
Наиболее ярко указанное качество новейшей марийской драматургии проявилось в совместном творческом опыте Ю. Байгузы и В. Пектеева (драма-аллегория «Золотая утка»). Первый из них к началу ХХI столетия уже был автором ряда пьес, самая известная среди которых – драма-притча «Шелковые качели», и сценаристом одноименных театральных постановок – они внесли в национальную драматургию и театральное искусство дух интенсивных идейно-эстетических исканий, заметно обогатили их проблемно- тематическое, персонажно-образное и жанровое «поле». В начале нового тысячелетия, сохраняя уже намеченную траекторию творческих исканий, Ю. Байгуза создает психологическую пьесу-монолог «Сегодня – день рождения».
Важнейшей составляющей поэтики марийской драматургии XXI в. становятся аллегория, символ и метафора; аккумулируя в себе содержание и форму литературного творчества, они формируют архитектонику пьес, их композиционную, образную, жанровую структуру. Через них в конечном счете открывается национальная специфика как образной системы марийской драматургии, так и современного художественного сознания народа в целом.
В заглавие драмы Ю. Байгузы и В. Пектеева «Золотая утка» («Шöртньö лудо», 2002) вынесен зашифрованный зооморфный символ. Птица – один из самых распространенных в мировой литературе и фольклоре поэтических образов-символов. Образ утки часто встречается в мифах северных русских, карел, мордвы, коми, манси, хантов, венгров, алтайцев и др. и связан с возникновением суши. В фольклоре и литературе многих финно-угорских народов, напри-
®
Финно – угорский мир. 2014. № 1 мер в прибалтийско-финской народнопоэтической символике, «образы водоплавающих птиц (не только лебедя, но и утки-морянки и утки-чернеди) являются повторяющимися элементами» [3, 24 ].
Марийцы утку приносили в жертву в священных рощах во время родовых, семейных молений, чтобы задобрить злой нрав Керемета. Образ утки, заявленный в драме, изначально, казалось бы, выполнял именно эту роль, но по ходу развертывания сюжета функциональная нагрузка его существенно меняется. Постепенно становится понятно, что пьеса затрагивает извечный философский вопрос: «В деньгах ли счастье?»
Авторы исследуют современную жизнь, народное сознание и поведение в эпоху «нулевых», что весьма характерно для многих марийских драматургов начала XXI в. («Катастрофа» и «Большая свадьба на маленькой улице» Вяч. Абукаева-Эмгака, «Пупкин женится» и «Опять стучатся в дверь» В. Петрова, «Марпа» В. Матвеева и др.). Действие пьесы происходит в наши дни, в обычной деревенской семье, что подчеркивается рядом бытовых деталей: «Дома в очаге горит огонь. Старик с ножом и с топором в руках стоит возле огня. Гремит гром» [2, 90 ]. Архетипический образ огня в очаге, внесенный в текст с помощью авторской ремарки, осмыслен как символ сохранения исконной веры народа. Издавна богиня огня (Тул ава) считалась у марийцев защитницей не только от хищных зверей и птиц, от пожара, но и от нечистой силы и болезней. «Большую роль отводили огню как очищающему средству. Особым почитанием пользовался огонь домашнего очага, являвшийся главной святыней: полагали, что в нем как бы воплощается покровитель семейного счастья, любви, согласия, изобилия, плодородия и всякого благополучия человека. Согласно верованиям марийцев, огонь изгонял злых духов» [4, 105–106 ].
«Золотая лихорадка» заразила почти всех жителей деревни. Многие поубивали своих уток, гусей, птиц, а «новые русские» хотели даже скупить земельный участок у стариков, мечтая наладить там добычу золота. Лишь хозяин не перестает удивляться: «Неужели этот кусок так взбудоражил ваши головы, отнял рассудок?» [2, 110 ]. Ему чужда погоня за золотом; главное для него – вера и равновесие, а не богатство, которое отнимает покой. Старик предлагает отнести злополучный слиток в рощу, отдать его в жертву Великому Светлому Богу и попросить счастливую жизнь, здоровье, а также то, что очень нужно им всем, – силу веры.
В процессе повествования внимание авторов перемещается от мифологической семантики образа утки (в финно-угорской мифологии утка олицетворяет начальную историю человеческого, земного мира) в сторону эпитета «золотая», сопровождающего знакомый словообраз. Контраст между изначально позитивным (утка как символ рождения мира) и опасным (золото как символ соблазнов и искушения) помогает раскрыть главную авторскую идею произведения, искусно зашифрованную в вопросе старика о том, приносит ли обладание золотом счастье, покой, силу и богатство. Образ золотой утки в пьесе аллегорически связан с «идеалами» современного общества. Ю. Байгуза и В. Пекте-ев доказывают, что в погоне за богатством человек скудеет интеллектуально и нравственно, размышляют о возможностях духовного возрождения человечества через веру.
Старики, к которым попало сокровище, устойчивы к соблазнам, они не теряют рассудок при виде его. Им не надо золота, утверждают авторы, ибо золото они сами: у них золотое сердце, незапятнанная, чистая душа. Только таких людей оберегает, хранит и спасает Великий Светлый Бог – вот вывод, к которому приводит финал пьесы. Лишь такие люди пройдут все испытания не только судьбы, но и природы. Концовка произведения тоже символична: при наводнении дом стариков остается над водой, в то время как все вокруг оказывается затопленным. Тем самым авторы утверждают мысль о возможности духовного возрождения всего человечества через нравственную устойчивость и веру.
Творчество Ю. Байгузы, несомненно, обогатило жанровую палитру марийской драматургии, что стало следствием, во-первых, философской доминанты его творчества, во-вторых, нравственно-этической углубленности художника в современную действительность и современного человека. Драма «Сегодня – день рождения» («Таче – шочмо кече», 2002) по стилевой направленности – психологическая драма, первая в марийской драматургии. Она построена в форме монолога центрального персонажа Майки, составленного из ее размышлений и воспоминаний. В поток речи героини «вплетаются» чужие голоса, ассоциативно вызываемые объектом ее мысли и чувств: дворовых друзей сына (пришли позвать его в кино), мужа (через строчки его прощального письма), старухи Элпай.
Майка – одинокая женщина, потерявшая мужа, в одиночку воспитывающая сына. Драматург рисует ее в переломный момент жизни: она собирается выйти замуж за мужчину, от которого ждет ребенка. Психологически насыщенный разговор героини с самой собой, ее воспоминания – это своего рода подведение итогов прожитого. Одновременно в них скрыта глубокая философия, которая прочитывается читателем прежде всего через символическую образность.
Существенную символико-философскую нагрузку в пьесе несут предметы вещного мира: сундук, рубашка, зеркало, хлеб, настенные часы и др.
«Неожиданно замирает на месте. Пауза. Подходит к сундуку, открывает его, вытаскивает из мешка новую рубашку. Длинная пауза… <…> Оставив рубашку на сундуке, она медленно приближается к портрету» [1, 153 ]. Сундук с памятной для героини вещью в этом ремарочном описании символически выражает внутреннее состояние женщины, мир ее душевных волнений и потаенных мыслей. У многих народов, например у древних греков и иудеев, как отмечает Дж. Трес-сидер, «сундуки считались вместилищами тайн, открываемых немногим избранным, посвященным» [5, 363 ]. Так относится к своему сундуку и героиня Ю. Байгузы. Хранящаяся в нем новая рубашка, которую она хотела подарить мужу в день рождения, теперь стала мифическим образом покойного, бередящим душу, напоминающим о ценности человека и о важности понимания этого при его жизни.
Открытие сундука, извлечение одежды умершего супруга (вызывает ассоциацию с вывешиванием одежды по- кУ) Финно–угорский мир. 2014. № 1 койного – обязательным компонентом поминального ритуала марийцев) символически выражают обнажение чувств героини: глядя на портрет мужа, Майка размышляет о себе, о своей жизни, судьбе. Автор обращает внимание на такую деталь интерьера, как зеркало: именно перед ним героиня разговаривает сама с собой. В мифологии мари, как и многих других финно-угорских народов, зеркало – вход в потусторонний мир, своеобразный канал между мирами, поэтому на любых похоронах оно завешивается. В пьесе Ю. Байгузы ситуация «разговор с зеркалом» проецирует желание героини пообщаться с покойным мужем, чтобы утвердиться в своем решении о втором замужестве. Майка «очерчивает» линию между своим прошлым и будущим (не случайно рубашка лежит перед зеркалом). Так архетипическая символика (зеркало как возможность общения с потусторонним) дополняется новыми смыслами, заметно отдаляющими образ от мифологемы. Символика образа крепко привязывается к отношениям в настоящем; зеркало уже означает искренность, правдивость сердца, готовность к самопознанию и жизни.
Будучи мудрой женщиной, Майка понимает, что новая жизнь не обязательно будет сладкой. Автор обращает внимание на пригоревший хлеб, испеченный ею в день своего рождения. Как известно из марийских народных примет, по праздничной выпечке судили о будущей жизни человека.
Основное символическое значение часов в пьесе Ю. Байгузы – это быстротечность, мимолетность, кратковременность человеческой жизни. Оно репрезентируется в недлительном первом браке Майки посредством остановившихся часов и лежащей внизу гири в следующем описании:
«Натянувшиеся часы ломаются, одна гиря падает на пол. Длинная пауза…
Смотрит на часы: они не ходят, и из-за того, что сильно натянулись – немножко наклонились набок. Посмотрела на висящие гири часов, потом взгляд падает вниз, на гирю, лежащую на полу. Длинная пауза!» [1, 155].
После смерти мужа одна гиря часов постоянно ломалась. Майка давно хотела их выбросить, но сын не разрешал (за долгие годы никто так и не сумел заменить ему отца), поэтому каждый раз она их ремонтировала. Женщина жила для сына (как одна гиря на часах, остававшаяся целой и связывавшая ее с покойным ради сына). Когда же она решила распрощаться с прошлым, часы сломались окончательно. Образ новых часов, купленных Майкой в подарок учителю, олицетворяет начало ее новой супружеской жизни.
Итак, поэтика драматургии, основанная на жанровых новшествах и соответствующих им аллегорической композиции и символической образности, максимально способствовала закреплению в марийской литературе начала ХХI в. философской глубины и психологического повествования. Интерес к нравственнофилософским проблемам, поиски новых сюжетно-композиционных решений и изобразительно-выразительных средств, способных расширить внутренние возможности драматургических жанров, поворот от событий к характерам – таковы особенности современной марийской драмы, сформированные всем предшествующим многолетним опытом развития.
Список литературы Поэтика марийской драматургии начала XXI в
- Байгуза, Ю. Таче -шочмо кече/Ю. Байгуза//Ончыко. -2002. -№ 10. -С. 150-172.
- Байгуза, Ю. Шӧртньӧ лудо/Ю. Байгуза, В. Пектеев//Ончыко. -2002. -№ 5. -С. 90-145.
- Рахимова, Э. Г. Повторяемость символического образа (голубой) огненно-красный цветок и лебедь) в калевальском неоромантизме/Э. Г. Рахимова//Филол. науки. -1996. -№ 6. -С. 23-32.
- Тойдыбекова, Л. С. Марийская языческая вера и этническое самосознание/Л. С. Тойдыбекова. -Joensuu, 1997. -397 с.
- Трессидер, Дж. Словарь символов/Дж. Трессидер/пер. с англ. С. Палько. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. -448 с.