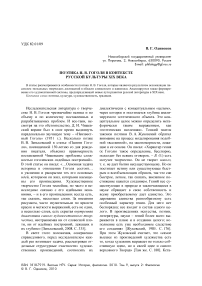Поэтика Н. В. Гоголя в контексте русской культуры XIX века
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности поэтики Н. В. Гоголя, которые являются результатом ассимиляции писателем эпохальных творческих достижений в области словесности и живописи. Анализируется также формирование его художественной системы, предопределившей новые пути развития русской литературы в XIX веке.
Поэтика, культура, художественность, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14737224
IDR: 14737224 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Поэтика Н. В. Гоголя в контексте русской культуры XIX века
Исследовательская литература о творчестве Н. В. Гоголя чрезвычайно велика и по объему и по количеству поставленных и разрабатываемых проблем. И все-таки, несмотря на это обстоятельство, Д. И. Чижевский вправе был в свое время выдвинуть парадоксально звучащую тему – «Неизвестный Гоголь» (1951 г.). Несколько позже В. В. Зеньковский в статье «Памяти Гоголя», посвященной 150-летию со дня рождения писателя, объяснил правомерность поставленной Чижевским проблемы сложностью гоголевских «идейных построений». В этой статье он писал: «…Основная задача историка в отношении Гоголя состоит… в уяснении и раскрытии тех его основных идей , которыми он жил, которыми насыщены его произведения. Художественное творчество Гоголя теснейше, но часто и не-исследимо связано с его идейными исканиями, – и в его произведениях всегда есть, так сказать, несколько слоев. За внешним рисунком, часто изумительным по яркости красок и меткости выражений, есть не один, а несколько слоев, есть скрытая внутренняя диалектика самого художественного творчества , неотрываемая ни от словесной плоти, ни от идейных построений, лежащих в их глубине» [Зеньковский, 2008. С. 335].
В свете этого положения, совершенно справедливого, перед исследователем каждый раз возникает задача, рассматривая отдельные структурные «частности» художественных произведений, соотносить их диалектически с концептуальным «целым», через которое и постигается глубина анализируемого эстетического объекта. Это концептуальное целое можно определить метафорически таким выражением, как «поэтическая вселенная». Тонкий знаток законов поэтики В. А. Жуковский обратил внимание на процесс моделирования подобной «вселенной», на закономерности, лежащие в ее основе. Он писал: «Характер гения (к Гоголю такое определение, бесспорно, подходит без всяких оговорок. – В. О.) есть могучее творчество. Он не творит нового, т. е. не дает бытия несуществующему. Но он постигает истину или существующее быстрым и всеобъемлющим образом, так что сие быстрое, легкое, так сказать, внезапное постижение кажется созданием. Гений все существующее в природе и заключающееся в науке обращает в свою собственность и всему приобретаемому дает единство. Это дарование единства разнообразному есть особенный характер гения. Для него нет беспорядка; все входит в состав одного целого. В произведениях искусства, поэзии, литературы, науки – гений более всего выражается в плане и в создании целого; исполнение есть уже необходимое следствие его создания» [Жуковский, 1985. С. 176]. При этом Жуковский считает, что «самое высшее из произведений художества есть то, когда художник выражает не только собственную идею, но в своей идее и самого верховного Творца» [Там же. С. 180]. Кста-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология © В. Г. Одиноков, 2010
ти, последнее утверждение прозвучало в письме Жуковского к Гоголю.
Гений Гоголя и проявлял себя в том, что его универсальная художественная система была подчинена постигаемой им идее «верховного Творца». Постулирование принципа единства многообразия с учетом «высшего начала», лежащего в основе единства, проявилось уже в середине 30-х гг. в таком «дискретном» и многоликом создании, как сборник «Арабески». Сама интегрирующая мысль Гоголя выявила в его собственном сознании творческие импульсы, которые впоследствии породили и его драматургическую «классику» в комедийном облике «Ревизора» и всеохватный российский эпос в поэме «Мертвые души».
Важно отметить характерные мысли автора относительно общего значения «Арабесок» в плане творческого самосознания. В предисловии к сборнику автор писал: «Собрание это составляют пьесы (произведения. – В. О .), писанные мною в разные времена, в разные эпохи моей жизни. Я не писал их по заказу. Они высказывались от души, и предметом избирал я только то, что сильно меня поражало» [Гоголь, 1994. С. 241] 1. Далее следует замечание: «…Если сочинение заключает в себе две, три еще не сказанные истины, то уже автор не вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные мысли можно простить несовершенство целого» (7, 241). Оставим в стороне попытки заметить «несовершенство целого» и попробуем пойти по более плодотворному пути, выделив «две, три верные мысли».
Вне сомнения, в общем контексте статей об искусстве («Скульптура, живопись и музыка», «Об архитектуре нынешнего времени») особого внимания достойна работа, посвященная анализу картины К. Брюллова «Последний день Помпеи». Косвенно это подтверждается незатухающим интересом к ней наших отечественных литературоведов: С. Машинского, Г. Макогоненко, И. Золо-тусского, Ю. Манна. Все они подчеркивали огромную роль тех теоретических положений, которые Гоголь выдвинул в своей статье, для понимания творческих принципов автора «Арабесок». Это справедливо, ибо сам писатель подтвердил, насколько плодо-
-
1 Далее цитаты приводятся по этому изданию.
В круглых скобках указываются том и страницы.
творным оказался для него опыт поистине великого живописца.
Гоголь постоянно находился в кругу тех мыслей и настроений, которые вызвала картина Брюллова. Живопись писателю была чрезвычайно близка, так как он сам был прекрасным рисовальщиком. В дальнейшем, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь обратился еще к одному шедевру отечественной живописи – к картине А. Иванова «Явление Христа народу», на которой, кстати, был запечатлен и сам писатель. Можно утверждать, что обе картины играли для него особую роль, так как он в проекте 5-го тома собрания своих сочинений (1851–1852 гг.) поставил рядом обе статьи: «гл. 11 – «Брюллов», гл. 12 – «Исторический живописец Иванов» (6, 246). Гоголь особо подчеркнул значимость публикуемых в пятом томе статей из «Арабесок», которые он присоединил к корпусу статей из «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «…Пятый том составил в себе почти все мои теоретические понятия, какие я имел о литературе и об искусстве и о том, что должно двигать литературу нашу» (6, 245).
Он создал, условно говоря, своеобразную теоретическую «модель» или «матрицу», анализ которой приводит не только к пониманию тех явлений «литературы нашей», которые самим фактом существования доказывают свое очевидное присутствие, но и тех, которые обязательно должны появиться в будущем, либо закономерно уже обнаружили себя где-то в прошлом. Такая концепция в общем виде заложена Гоголем в оригинальной «дилогии», состоящей из статей о К. Брюллове и А. Иванове.
Размышляя о картине Брюллова, Гоголь высказал пророческую мысль о возможности и необходимости появления «гения» в девятнадцатом веке, что в дальнейшем и подтвердилось неоспоримыми фактами. «Не помню, – пишет Гоголь, – кто-то сказал, что в XIX веке невозможно появление гения всемирного, обнявшего бы в себе всю жизнь XIX века. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается каким-то малодушием, Напротив, никогда полет гения не будет так ярок, как в нынешние времена, никогда не были для него так хорошо приготовлены материалы, как в XIX веке» (6, 277). Показательно, что Гоголь увидел в гениальном, по его мнению, творении Брюллова художествен- ную концепцию, которую он определил как ключевую для понимания специфики явлений искусства в современном ему мире. Он считал, что картина Брюллова может назваться «полным, всемирным созданием», так как «в ней все заключилось»: «Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокупить все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы (курсив наш. – В. О.), чувствуемые целою массою» (6, 277).
Гоголю бросилось в глаза и расположение фигур, поражающее воображение зрителя: «Фигуры он кинул сильно такою рукою, какою мечет только могущественный гений: эта вся группа, остановившаяся в минуту удара и выразившая тысячи разных чувств» (Там же). Общее и частное в художественном сознании Гоголя обрело форму программы, некоего эстетического задания, которое он как писатель так или иначе уже выполнял или обязательно должен был выполнить. О такого рода творческой установке, которая предшествует акту художественного творения, писал А. П. Скафтымов: «Созданию искусства предшествует задание. Заданием автора определяются все части и детали его творчества» [Скафтымов, 1972. С. 23]. Картина Брюллова и стимулировала кристаллизацию задания, которое прямо просилось на бумагу. Вошедшая в сборник «Арабески», изданный в 1835 г., статья о «Последнем дне Помпеи» наводит на мысль, что где-то совсем рядом неизбежно должно иметь место художественное создание самого Гоголя, воплотившее главную позицию Брюллова, стремившегося изобразить потрясающий «кризисный момент».
Показательно, что в это время создается комедия «Ревизор». Начало работы отмечено письмом к А. С. Пушкину от 7 октября 1835 г. А об окончании комедии Гоголь сообщает в письме к М. П. Погодину 6 декабря 1835 г. – комедия была закончена 4 декабря (3–4, 525). Очень важно для наших рассуждений обратить внимание на пояснения самого автора, относящиеся к важнейшим сторонам построения образов и структуры целого, в особенности «фантасмагорического» финала, Он упорно настаивал на важности последней сцены, которая потом вызвала различные конкретные толкования. Но автора волновали именно об- щий смысл происходящего и доминирующее настроение, имевшее целью «потрясти» зрителей. Последнее произнесенное слово, замечает автор, «должно произвести электрическое потрясение на всех разом вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из единой груди». И тут же последовало строгое предупреждение: «От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект» (3–4, 206).
В позднейших дополнениях к «Ревизору» (1846–1847 гг.) Гоголь вновь возвращается к финальной «немой сцене», предлагая на этот раз театральному постановщику обратиться к художнику, чтобы тот запечатлел «общую группу» в «кризисный момент»: «Чтобы завязалась группа ловче и непринужденней, всего лучше поручить художнику, умеющему сочинять группы (курсив наш. – В. О .), сделать рисунок и держаться рисунка» (3–4, 454). В этом пункте следует обратить внимание на указание необходимости перевода театральной мизансцены в живописно-графический план и на умение художника «сочинять группы». Такие своеобразные режиссерские комбинации и их предполагаемая реализация с логической неизбежностью приводят к мысли о существовании какой-то авторитетной «подсказки», которую Гоголь осмысливал не только в абстрактно-теоретическом плане, но представлял себе визуально. Ближайшим «советчиком» в этом плане мог быть, без всякого сомнения, художник К. П. Брюллов, который поразил писателя, как тот сам признался, изображением «сильных кризисов», чувствуемых «целою массою», и великолепным композиционным мастерством воссоздания «общих групп». Таким образом, проект финала пьесы был подготовлен творческим опытом автора, о котором он и рассказал читателю в упомянутом статье о «Последнем дне Помпеи». Ю. В. Манн, например, в этом ни на минуту не сомневался. В одном из своих новейших исследований он категорично заявил: «Собственно, гоголевская статья – это краткий “конспект” “Ревизора”» [Манн, 2005. С. 118].
Но на этом пути возникала еще одна серьезная проблема, связанная с религиозно-этическими взглядами Гоголя, с его «христианским любомудрием», которое дало о себе знать уже в эпоху написания
«Арабесок» и создания «Ревизора». Картина Брюллова косвенно должна была породить религиозное чувство благодаря возбуждаемым драматическим эмоциями, связанными с трагедийным состоянием мира. Присутствие в картине «Божьего духа» подтвердил и святитель Игнатий (архимандрит Сергиевой пустыни), который в письме к Брюллову заметил, что его картина – «выражение сильно жаждущей души», и она как являющая подлинную красоту должна быть «помазана Духом» (3–4, 505–506). Гоголь, всегда стремившийся к идеалу, это хорошо чувствовал. Позже, уже в 40-е гг. он соединил впечатления от картины Брюллова с еще одним великим творением – с картиной А. Иванова «Явление Христа народу». Очевидно, мысль, рожденная картиной Брюллова, настоятельно требовала своего логического завершения, она жила в его сознании, но Гоголь только через несколько лет, уже умудренный жизнью, сказал свое «ответное» заключительное слово. Смысл его заключается в том, что продолжение статьи о Брюллове было запрограммировано в творческом сознании писателя еще в 30-е гг. и нашло отражение в «Ревизоре». А от этого произведения нить размышлений привела Гоголя к осмыслению и интерпретации универсального значения такого художественного феномена, как картина А. Иванова, затронувшего тему явления Христа народу.
Сцена «потрясения» в финале «Ревизора» функционально играла роль наказания «свыше», что предваряло более поздние размышления писателя на эту тему. Так она психологически должна была восприниматься персонажами и, конечно, такой смысл должен был извлекать читатель и зритель. Художественная концепция пьесы, по сути, базировалась на идее «преступления» (греховности изображаемого мира) и «наказания» (перст Божий). Религиозная составляющая в этой концепции постепенно в творческой театральной практике девальвировалась, но в авторском замысле она оставалась принципиально необходимой. Это подтверждается гоголевскими «экспериментами» в сфере интерпретации художественных явлений. Истолкование «Явления Христа народу» не просто хронологически последовало за «Последним днем Помпеи», но явилось частью критической «дилогии», в которой разъединенность и трагичность мира земного трактовались в плане конеч- ного духовного спасения, совсем в духе Откровения Иоанна Богослова.
По сути, Гоголь с этой точки зрения и рассматривал творческий подвиг А. Иванова. «С производством этой картины, – замечает писатель, – связалось собственное душевное дело художника, – явление слишком редкое в мире, явление, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля Того, Кто повыше человека» (6, 111). Душевное дело художника обнаруживается и в картине Брюллова, который, по логике Гоголя, тоже не мог обойтись «без воли Того, Кто повыше человека». Заметим, что в пространство рушащегося мира Брюллов «вписал» и себя как объект, как часть этого мира, изобразив на полотне рядом с другими персонажами и собственную личность, соблюдая при этом полное портретное сходство.
На картине Иванова Гоголь увидел уже не автора картины, а самого себя, притом изображенным на расстоянии нескольких шагов от фигуры Христа. Такое пространственное расположение соответствовало его собственному духовному состоянию, когда его личное начало соединялось опять-таки с Тем, «Кто повыше человека». Брюлловское «потрясение» переходило в картине Иванова в духовное «спасение». Гоголя впечатлил именно этот экстремальный момент: «Предмет картины …слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще не бранное никем из художников даже прежних богомольно-художественных веков, а именно – первое появление Христа народу» (6, 111).
Такой единый сплав религиозных мыслей характерен для писателя и являет в теоретическом плане то, что сейчас называется «концепт», который реализуется на разных уровнях и в разных формах. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» в XXVII главе («Близорукому приятелю») Гоголь с обличительным пафосом пишет: «Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои – гниль; они сделаны без Бога (курсив наш. – В. О.). Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, – и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие» (6, 127). При этом, что очень показательно, Гоголь видит открытие Божественной истины на пути «потрясения»: «Моли Бога о том, что- бы случилось это потрясенье, чтобы встретилась тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность…» (6, 128).
Изображая «пошлость пошлого человека», Гоголь стремился постоянно находиться на высоте нравственного идеала, диктуемого Священным писанием. Искусство его как художника и заключалось в том, что его сатира всегда имела, как это подчеркивал еще Ф. М. Достоевский, «религиозную подкладку». Именно через нее и обнаруживалась нравственная основа человеческого бытия. Об этом в свое время писал П. Флоренский: «Объекты религиозного мировоззрения полнозвучнее, богаче, чем позитивистические. Законно сравнить их с аккордами, если объекты позитивистов назвать отдельными тонами» [Флоренский, 1994. С. 177). В хронологическом диапазоне между «Арабесками» и «Выбранными местами…», между идеей «потрясения» и религиозного «просветления» расположилось знаковое произведение русской литературы, сфокусировавшее размышления Гоголя по этому поводу, пьеса «Ревизор». Она являла собой как художественный феномен образец «комедийного катарсиса», возникающего не в смеховой зоне, а именно там, где смех проступает «сквозь слезы».
Очищение от страстей, переход от языческой тьмы к духовному просветлению Гоголь не мыслил без вмешательства Божественной воли. Поэтому логика действия комедии предполагает, если не «явление Христа народу», то хотя бы священного «Лика». С религиозной точки зрения, это вершина в постижении смысла вселенского бытия. П. Флоренский в работе «Иконостас» писал о путях познания мира. Он выделил в этом плане два принципиальных подхода: «от скудости» и «от полноты». Онтологическая противоположность точек зрения, по Флоренскому, «лучше всего характеризуется противоположением слов личина и лик» [Флоренский, 1996. С. 433]. Между этими понятиями стоит «лицо», предшествующее «Лику». Для Флоренского очень важным элементом в указанной системе является «лицо», которое трансформируется в «Лик». Философ отмечает, что в Библии существуют понятия «образ Божий» и «Божье подобие». Образ Божий – это «онтологический дар Божий» [Там же. С. 434]. Под «Божьим подобием» следует понимать потенцию, «способность духовного совершенства», возможность воплотить этот образ «в жизни, в личности, и таким образом явить его в лице» [Там же]. И когда в «лице» обнаруживается пробившаяся «через толщу вещественной коры» энергия образа Божия, «лицо» становится «Ликом». «Лик есть осуществленное в лице подобие Божие», – заключает свои рассуждения Флоренский [Там же]. Он подчеркивает также, что по-гречески «лик» называется «идеей», т. е. «эйдосом». Эйдетическая направленность присуща творческой манере Гоголя и определяет его художественную стратегию, которая очень четко воплотилась и в «Ревизоре».
Обратим внимание на то, как эта стратегия реализовалась в конкретной художественной структуре «Ревизора». Сатирикокомедийная природа пьесы для создания атмосферы катарсиса требовала особых художественных приемов. Движение к «Лику» совершалось в комедии по модели той триады, которую позже в философско-гносеологическом аспекте представил П. Флоренский. Вначале Гоголь интерпретирует изображенный им микросоциум как типичную «личину», которая способна порождать только себе подобных. Поэтому в функционально четко организованной чиновничье-бюрократической машине Хлестакову уже заранее была подобрана соответствующая «маска», поскольку две «черные крысы» породили такой испуг, который мог возникнуть лишь в результате «стихийного бедствия», «потрясения», т. е. уже от самой информации о неожиданном ревизоре. И тут же предстала воображаемая грозная «личина» «чуть ли не генералиссимуса». Процесс создания «личины» «значительного лица» (такая вот парадоксальная ситуация) подробно был проанализирован Г. А. Гуковским в монографии «Реализм Гоголя». Он отметил, что «суть гоголевского сюжета вовсе не в том, что кто-то выдал себя за кого-то, а в рассказе о том, как в Хлестакове увидели ревизора, т. е., как Хлестаков оказался ревизором, сановником» [Гуковский, 1959. С. 417], т. е., по сути – то, как сотворили личину.
Нужно отметить, что Гоголь сам рассуждал на эту тему, сочиняя позднейшие дополнения к «Ревизору» (1846–1847 гг.): «Он (Хлестаков. – В. О.) разговорился, никак не зная с начала разговора, куда поведет его речь. Темы для разговоров ему дают выве- дывающие. Они сами как бы кладут ему все в рот и создают разговор... Не имея никакого желания надувать, он позабывает сам, что лжет» (3-4, 451). А во второй редакции окончания развязки «Ревизора», имеющей драматургическую структуру, Гоголь от имени одного из собеседников предлагает следующее «философское» рассуждение: «Мне показалось, что этот ветреник Хлестаков, плут, или как хотите назвать, есть та поддельная ветреная светская наша совесть, которая, воспользовавшись страхом нашим, принимает вдруг личину (курсив наш. -В. О.) настоящей и дает себя подкупить страстям, как Хлестаков чиновникам…» (3-4, 465). Итак, ключевое слово, определяющее драматургическую ситуацию на метафизическом уровне, произнесено: «личина». Но Гоголь-драматург, руководствуясь гражданственным и религиозным чувством, срывает эту «личину». За личиной, как следующая ступень в описанной ранее «триаде» Флоренского, должно следовать «лицо», которое в реально-бытовом плане предстает как «настоящий ревизор», а в метафизическом подтексте комедии (богословском, по сути) трактуется автором как «настоящая совесть». Тот же персонаж, о котором говорилось выше, по воле драматурга произносит следующее заключение по поводу финальной сцены комедии: «Мне показалось, что это мой душевный город, что последняя сцена представляет последнюю сцену жизни, когда совесть заставит взглянуть вдруг на самого себя во все глаза и испугаться самого себя. Мне показалось, что этот настоящий ревизор, о котором одно извещенье в конце комедии наводит такой ужас, есть та настоящая наша совесть (курсив наш. -В. О.), которая встречает нас у дверей гроба» (3-4, 465). Эти метафизические образные понятия составляют собственную драматургию и обладают своей внутренней абстрагированной логикой, подчас пугавшей робких оппонентов Гоголя (укажем, например, С. Шевырева). Но Гоголь хотел субъективно свести в конфликте «личину» и «лицо». Поэтому в морализаторском плане и появилось «лицо» ревизора в роли настоящей совести. В трактовке писателя, говоря его словами, - это «то лицо (курсив наш. - В. О.), которое причинило столько тревог и, стало быть, неминуемо должно быть слишком необыкновенным и важным лицом» (3-4, 451). Это логично, если оно в предполагаемом абстрактно-психологическом плане знаменует «настоящую нашу совесть».
Теперь следует обратить внимание вот на какое очень важное обстоятельство: если прорисовались «личина» и «лицо», то в соответствии с указанной выше триадой П. Флоренского должен появиться «лик». Разумеется, он не может предстать как «явление Христа народу», как картина, но Гоголь придумал «грандиозный», «потрясающий» финал, где «Он» является как знак, как Мессия, испепеляющий кумира и освещающий (освящающий) тьму язычества отблеском Божественного света. Гоголь не отрывается от «земли», он творит в границах правдоподобия, в «реалистических» формах, но, используя терминологию Ф. М. Достоевского, можно сказать, что это «реализм в высшем смысле». Гоголь как творец-художник был, действительно, пророком, предсказавшим дальнейший путь развития русской литературы в аспекте метода и стиля.
Потрясение в финале «Ревизора», которое выполняет функцию очищения, носит, как мы видим, религиозный характер, что типично для творческой стратегии Гоголя уже в 30-е гг. Но чтобы реализовать духовную программу, воплотив ее в реалистических образах, необходимо было внести в развитие сюжета комедии знаковые элементы двойного смысла: социально-общественные и чисто метафизические, которые прочитываются только в свете религиозных представлений. Таков знаковый смысл «сотворения» значительного лица. С одной стороны, вся чиновничья свора подвела ничтожество, «фитюльку» под определенный иерархический административный стандарт, на чем и погорела, ибо авансировала ложный объект. С другой стороны, ошибка чиновников, в трактовке Гоголя, привела к грандиозному внутреннему краху всей отработанной системы. Что же, в сущности, произошло в бытийно-философском смысле с изображенным в пьесе «микросоциумом»? Чиновники сами создали «личину», «идола», «кумира». В бытовом плане все эти определения не имеют какого-то глубокого значения. Ну, ошиблись, ну, создали... Но если прочитать это же самое в религиозноэтическом ключе, то смысл резко изменится. Нужно отметить, что писатель создает в данном случае «подтекст», который будет использован как художественный принцип в драматургии А. П. Чехова. Смысл его в данном случае заключается в том, что вся изображенная шайка греховодников впала еще в один величайший с религиозной точки зрения грех – грех сотворения «кумира».
Следует обратить внимание на то, что персонажи комедии не просто люди со свойственными им недостатками. Они, по сути, великие грешники , ибо нет почти такой христианской заповеди, которую они не нарушили. Чиновники крадут, прелюбодействуют, лжесвидетельствуют, враждуют друг с другом, желая при этом «дома ближнего» и «жены ближнего», и «вола его», и «осла его» (Исх., 20, 14–17). Но самый большой грех – это все-таки «сотворение кумира». В Библии это подчеркнуто особо, в первых стихах 20-й главы Исхода (Исх., 20, 4–5).
Ревизор , который обозначен Гоголем без кавычек, и есть сотворенный кумир . Не случайно Бобчинский роняет знаменательную фразу по поводу «фитюльки» Хлестакова: «А я так думаю, что генерал – то ему и в подметки не станет! А когда генерал, то уж разве сам генералиссимус». А рядом с главным «идолом» выстраиваются по ранжиру и более мелкие – от городничего до Держиморды. Библейская «подкладка» социальнообщественного действа особенно ощутима в финале, в эпизоде обрушившегося «страшного» наказания, которое в кодовом ключе религиозной идеи прочитывается как наказание «грешников». За внешним бытовым слоем просматриваются контуры апокалиптической идеи «конца мира». Такое впечатление создается благодаря гиперболизированному драматическому концу пьесы, который можно охарактеризовать словами М. Е. Салтыкова-Щедрина из «Истории одного города»: «История прекратила течение свое». Носитель «начала возмездия» прорисовывается как некий символ, фигура которого скрыта и от действующих лиц, и от зрителей. В чисто реалистическом плане этот эпизод довольно трудно истолковать, но в «мистическом» свете он обретает прозрачность и логическую закономерность.
Напомним, что настоящий ревизор появляется, предсказанный «пророческим» сном городничего: «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали и пошли прочь». Ошибочно, разумеется, ассоциировать сон гордничего с появлением Хлестакова. Сон связан в провиденциальном плане с появлением не одного, а сразу двух персонажей – жандарма и «настоящего ревизора». В системе художественных сцеплений пьесы последний выполняет роль лица, за которым прорисовываются контуры «лика», являющегося в трагической атмосфере «апокалиптического» финала. В этом плане стоит обратить внимание на черный цвет необыкновенных предвестников «глобального бедствия». По евангельским представлениям, черный цвет – знак скорби и нужды. Но это еще не все. В Откровении Иоанна Богослова сказано, что «конь вороной» – эмблема скорби непосредственно предшествует «коню бледному» – символу смерти, за которым следует ад («и ад следовал за ним» – Ап., 6,8). «Потрясение» в конце пьесы было запрограммировано появлением «черного цвета» в «пророческом» сне городничего. Этот цвет был функционально необходим для того, чтобы органично выйти к апокалиптическому финалу. То была «подсказка», раскрывающая масштабность происходящего и переводящая его в сакральный план. Трудность же авторского задания в этом плане заключалась в том, как ввести этот черный цвет в драматургический контекст, как его «опредметить». Сакральный смысл черного цвета не должен был заслоняться каким-либо значительным объектом того же смыслового ряда. Поражает воображение читателя и зрителя, конечно, мудрое и чуткое художественное решение задачи. Гоголь «окрасил» в черный цвет двух неприятных, на первый взгляд, животных, не вызывающих положительных эмоций, но совершенно безобидных в житейском плане и не имеющих с точки зрения Священного Писания сакрального смысла. Две крысы обозначат только количество столичных «гостей», а весь главный смысл этого предсказания сосредоточен в черном цвете, который роковым образом срабатывает в «немой сцене».
Все страхи чиновников и были обусловлены предощущением грядущего наказания. Наказующая же сила соответствовала их представлениям о карающей «персоне», которая непременно должна была появиться в «гордом блеске и величии». Она так и возникает. Автор, как мы знаем, ввел финальную, чрезвычайно театрализованную, экс- прессивную сцену, в которой застывают в безмолвии, как громом пораженные, персонажи. Гоголь предупредил тех, «которые пожелали бы сыграть как следует» комедию: «Последняя сцена “Ревизора” должна быть сыграна особенно умно. Здесь уже не шутка, и положение многих лиц почти трагическое». Верное замечание сделал Ю. В. Манн, указавший на возможность «провести параллель между сценой и изображением Страшного суда в средневековом искусстве» [Манн, 1978. С. 242]. Действительно, апокалиптические ноты в художественной партитуре пьесы проступают довольно явственно. Немая сцена финала по своему сокровенному смыслу соотносится с тем, что выражается словами «Откровения…»: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Ап., 22, 12). В этот момент «потрясения» и возникает в сознании читателя и зрителя ощущение «лика». Гоголь концептуально выстроил онтологическую триаду, представленную явлениями «личины», «лица», «лика». В последней сцене «бытовое» переходит в «сакральное» и действие устремляется к финалу, к своему логическому завершению. Конечно, Гоголь представил ситуацию в социально-бытовом плане, но универсальный религиозно-этический смысл последней сцены проступает совершенно очевидно и подтверждается так или иначе авторскими комментариями.
Современные исследования в общем плане уже зафиксировали этот эстетический и психологический результат. Так, С. А. Фомичев проницательно заметил, что немая сцена в «Ревизоре», по мысли автора, «дает шанс для катарсиса (очищения) как персонажей комедии, так и ее зрителей» [Фомичев, 2007. С. 225]. Гоголь спровоцировал «комедийный катарсис», что выглядит несколько парадоксально, но объяснимо. Автор комедии постепенно увел читателя и зрителя от чисто смеховой ситуации, перекодировав ее в драматическую и даже трагическую. Теоретически такую возможность предполагал Ф. М. Достоевский, который в одном из черновых набросков заметил: «Но разве в сатире не должно быть трагедии? Напротив, в подкладке сатиры всегда должна быть трагедия, Трагедия и сатира – две сестры и идут рядом и имя им обеим, вместе взятым: правда » [Достоевский, 1982. С. 305].
Сатира Гоголя, устремленная к «правде», предполагала присутствие в зоне его эстетических представлений наличие трагедийного начала. В ближайшей ретроспективе оно восходило к самому близкому и даже в какой-то степени «родственному» писателю истоку, к творчеству Пушкина. Пушкинская перспектива и гоголевская ретроспектива смыкались в одной точке. Гоголевский «Ревизор» умозрительно и чисто практически самым «фатальным» образом предполагал наличие такого драматургического феномена, как трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов». А «Борис Годунов» потенциально требовал от Гоголя следующего шага в развитии «русской драмы». В общеисторическом плане оба драматурга затронули социально-политические коллизии времени, представив их проблемный комплекс в широком и глубинном религиозно-философском аспекте.
Здесь следует сделать оговорку: только с точки зрения концептуального целого возможно и правомерно соотносить «Ревизора» с «Борисом Годуновым». Сам Гоголь пытался разглядеть это «целое» у Пушкина, не забывая при этом и своего собственного творческого credo, предусматривающего раскрытие высшего, духовного смысла бытия в пестром круговороте реальной жизни людей. В статье «Несколько слов о Пушкине» (1835 г.) Гоголь отметил мастерство поэта, которое заключается в умении «немногими чертами означить весь предмет» (7, 261). И чуть дальше он обращается к «Борису Годунову»: «Определил ли, понял ли кто “Бориса Годунова”, это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии?...» (7, 263).
Гоголь упорно пытался увидеть пушкинский высокий «предмет» в «лабиринте художественных сцеплений». Он пишет даже критическую статью: «Борис Годунов. Поэма Пушкина» (1830–1831 гг.), которая так и осталась в бумагах писателя. Построив рецензию как диалог, как столкновение мнений, Гоголь деликатно приглушил свой собственный голос, подчеркнув только в пафосной форме восторг перед поэзией Пушкина нейтральной фразой: «Ответные струны души гремят…» (7, 67). Надо полагать, что они прогремели особенно тогда, когда сам Гоголь приступил к созданию собственной поэмы – «Мертвые души».
Но он слышал эти струны и ранее, когда сочинял «Ревизора».
Следует отметить один характерный момент: Гоголь, предлагая варианты интерпретации своей комедии в «Театральном разъезде», не забывает знаковый «образ» Пушкина и в этот момент, хотя «сюжетно» тот ему и не очень был нужен. Но в глубинном творческом сознании Гоголя Пушкин оказывается совсем рядом. Гоголь с легкой иронией «поиграл» именем Пушкина и своим собственным вроде бы в совершенно пустяшном контексте, в одном из фрагментов «Театрального разъезда». Там некий персонаж, названный «литератором», чрезвычайно «кисло» отзывается о достоинствах автора «Ревизора»: «Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть ли не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят» (3–4, 417). И тут же – о Пушкине: «Вот, например, Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Всё приятели: кричали, кричали, и потом вслед за ними и вся Россия стала кричать» (Там же). Ироническая интонация здесь очевидна: вот, посмотрите, например, Гоголь, а вот, например, совсем рядом почти такой же Пушкин… А тут еще вспоминается хрестоматийное: «С Пушкиным на дружеской ноге». Гоголевская ироническая тональность, впрочем, включает в себя двойной смысл. Можно, конечно, этого «литератора» с его «параллелями» и проигнорировать, но, с другой стороны, серьезность проблемы при этом никуда не исчезает. Она актуальна, как мы видим, и сегодня.
От общей постановки вопроса теперь логично перейти к более детальному сопоставлению Пушкина, автора «Бориса Годунова» и Гоголя, создателя «Ревизора». Возникает вопрос: в какой степени трагедийный катарсис у Пушкина соотносим с комедийным катарсисом у Гоголя. И возможно ли вообще пушкинскую высокую поэзию соприкасать с изображением «пошлости пошлого человека»? Ответ на это дал сам Гоголь в упомянутой статье «Несколько слов о Пушкине». Он, по сути, установил принципиальную возможность соотнести общенациональную историческую «поэму» Пушкина с собственной художественной «историей» о мелких негодяях – чиновниках. Имея в виду конкретно южные романтические поэмы Пушкина, Гоголь писал: «Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам себе судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и, несмотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь в ущелье, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ». Далее писатель замечает, что «необыкновенное» и «обыкновенное» в своей философско-этической сущности равноправны: оба они – «явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание…» (7, 263). Но в этом случае на творца ложится особая ответственность, «потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина» (7, 263). А далее сразу же идет краткое рассуждение о «Борисе Годунове».
Психологическая прозрачность приведенного гоголевского текста дает основание сказать, что «необыкновенное» пушкинское и «обыкновенное» гоголевское составляют единое целое, выражающее «истину». Творец обязан постигать это целое, на что Гоголь обращает особое внимание. В статье «Об архитектуре нынешнего времени» он пишет: архитектор-творец «должен изучить все в идее, а не в мелочной наружной форме и частях. Но для того чтобы изучить в идее, нужно быть ему гением и поэтом» (7, 256). Рассуждая в этом ключе, должно отметить, что «гений и поэт» Пушкин «снизошел» к Гоголю со своей поэтической «идеей», а Гоголь в том же качестве «взошел» к Пушкину. Так они и встретились, на высоте общего национального дела, которое интерпретировалось автором «Ревизора» в системе художественных сцеплений как явление онтологического, бытийного характера. Поэтический мир Гоголя, если к нему присмотреться как к «целому», озаряется изнутри светом философской мысли, что следует особо подчеркнуть, поскольку сама постановка этого вопроса выглядит, на первый взгляд, весьма проблематично. Однако художественная система Гоголя опровергает такую скептическую позицию. Нужно подчеркнуть, что писатель чисто профессиональными средствами моделирует своеобразный эстетический макрокосм. Суть его заключается в том, что он осмысливает три уровня, три состояния духовного бытия массы и отдельного индивидуума. Первый уровень – общее состояние, некая «абсо- лютная идея», реализующаяся в сочетании двух начал - начала «потрясения», «кризисного состояния мира» и начала «спасительного», духовно обновляющего мир. Образное воплощение этих начал Гоголь увидел в своеобразной дилогии - в картинах К. Брюллова и А. Иванова. Второй уровень представляет собой осмысление эстетической формы, которая репрезентативно демонстрирует жесткий конфликт и исход борьбы двух указанных начал. Конкретно он воплощается в жанровой форме трагедии, когда «потрясение» сменяется «очищением», катарсисом. Полное снятие трагедийного конфликта на основе его поэтической трансформации происходит в жанре комедии. Это - третий уровень. В историческом аспекте трагедийное состояние мира закономерно сменяется комедийным, когда старые формы уже изжили себя и наступает новая эпоха. Гоголь жил в это «новое время». И глубокая драматическая тема, запечатленная на полотнах двух великих живописцев, оказалась в своеобразной интерпретации Гоголя на третьем, комедийном уровне. Совершенно очевидно, что создание комедии «Ревизор» с его «очищающим» финалом гипотетически предполагало существование «пропущенного» звена, которое логично должно быть представлено жанром трагедии. Гоголь-сатирик сам этого сделать не мог и не хотел, а особым способом «указал» на Пушкина, который изобразил потрясение и просветление «массы людей» в «Борисе Годунове»
Ранее уже было отмечено, что Гоголь в «Ревизоре» поднялся в финале до уровня философско-религиозного миропонимания, предощущая явление «лика», эйдоса, идеи, лежащей в нравственной основе мироздания. Но ведь Пушкин «пришел» к Гоголю именно с этой идеей, воплотив ее в «Борисе Годунове». И философский универсализм комедии обнаруживает себя именно в «зеркале» поэзии Пушкина, который в этом качестве «представил» читающей публике лицо Гоголя как гения, сформировавшего, как потом было сказано, «гоголевское направление» в русской литературе.
Комедийный катарсис в финале «Ревизора» в феноменологическом аспекте типологически соотносим с духовно-нравственным настроем заключительной сцены пушкинской трагедии. Если вернуться к триаде П. Флоренского (личина - лицо - лик), через которую постигается «полнота» универсальной идеи мира (эйдоса), то можно увидеть, как гоголевский финал корреспонди- рует с заключительной ситуацией в «Борисе Годунове». Это очень важный момент, на него необходимо обратить особое внимание. С. А. Фомичев, которого мы уже ранее цитировали, заметил: «Издавая в 1831 году “Бориса Годунова”, Пушкин кончает пьесу ремаркой: “Народ безмолствует”, которая по-своему воспроизведена в немой сцене гоголевской комедии. Новое качество драматургии требовало создания новаторского, - в сущности, уже режиссерского театра. Пушкин лишь обозначил мизансцену, которая должна продолжаться некоторое время до закрытия занавеса. Гоголь же попытался ее срежиссировать в самом тексте пьесы, а более подробно разработать в разъяснениях для актеров...» [Фомичев, 2007. С. 223]. И далее, как уже было сказано ранее, исследователь подчеркивает однозначную функцию финалов обеих пьес. Но в данном случае все-таки остается в тени глубинное значение «народного молчания» в соотнесенности с «немой сценой» в «Ревизоре». О смысле последней мы уже говорили, принимая во внимание концепцию П. Флоренского. Теперь правомерно поставить вопрос: в какой степени она дешифровывает философско-психологический подтекст ремарки «Народ безмолствует»?
Типологическое сходство финалов, их функциональная равнозначность подчеркиваются тем обстоятельством, что они структурно организованы по одному сходному принципу. Онтологический смысл трагедии «Борис Годунов» как раз и раскрывается в динамичной системе вышеобозначенных понятий: «личина» - «лицо» - «лик». Центральный персонаж трагедии в трактовке Пушкина - это лицо, которое в течение действия освобождается от «маски», от личины безжалостного, холодного убийцы, которая во многом была навязана ему системой исторических совпадений, тенденциозно истолкованных впоследствии как факты, доказывающие преступное деяние новоизбранного царя. Традиционно принимаемую за аксиому трагедию совести (ср., например, думу К. Ф. Рылеева «Борис Годунов») Пушкин перекодировал в трагедию самопожертвования, вступая в этом плане в скрытую полемику с концепцией Н. М. Карамзина, которого он неизменно глубоко уважал и ценил. Здесь очень кстати вспомнить оценку Бориса Годунова как личности в упомянутой гоголевской статье-рецензии: «О, как велик сей царственный страдалец!» Эта фраза является ключевой в интерпретации образа Годунова. Показательно, что анало- гичную позицию занимал позже и А. Краевский, который указывал на то, что Борис Годунов «шел на трон, как на плаху, как на верное страдальчество» (см. подробно: [Одиноков, 2007. С. 118–130]).
Страдальческий акцент в психологической трактовке образа Бориса Годунова, усиленный «подозрением» о его невиновности – что очень важно для Пушкина – переводит героя трагедии в ранг «страстотерпца», т. е. «мученика». А «мученик» – это уже разряд «святости». Пушкин, сняв маску с героя, показал его истинное лицо. А отметив его «страдальчество», он поставил перед собой задачу где-то совсем рядом обнаружить Лик . Здесь нужно учесть важное обстоятельство: святость – «одно из фундаментальных понятий христианского вероучения. Его основной смысл состоит в причастности человека Богу, его обоженности, в его преображении под действием благодати Божией» [Живов, 1994. С. 90]. «Лик» таким образом уже был намечен. Но Пушкин понимал, что метафизический «лик» как образ Божий требовал для своей художественной реализации не личность как Божий сосуд, а массу, которую Пушкин обозначил в трагедии обобщающей ремаркой «народ». Этот народ в финале и выступает в роли «гласа Божъего». «Глас Божий – глас народа», – заметил в свое время В. Г. Белинский, анализируя трагедию «Борис Годунов».
Пушкин сочинил знаменитую финальную сцену, чтобы показать смятение народа, перед которым панорамно возникают и выстраиваются в одну линию убиенный когда-то Димитрий, убитые буквально на глазах Мария Годунова и ее сын Феодор. Поражает предощущение чего-то катастрофического. И все это происходит на фоне деяний двуликого самозванца Гришки Отрепьева, по сути, «идола», «кумира», возведенного на трон тем же мнением народным, которое дискредитировало личность и власть Бориса Годунова. С точки зрения внутренней логики и драматургической техники в этом пункте возникла необходимость кардинального решения возникшей ситуации. После творческих размышлений Пушкин прервал действие ремаркой «Народ безмолствует» (см.: [Алексеев, 1984. С. 221–252]).
В финальной сцене автор смоделировал взрывную атмосферу, которая еще неизвестно как могла разрядиться. В такой ситуации неимоверного душевного напряжения непосредственной разрядкой, по авторскому замыслу, явилось другое состояние, которое можно определить как своеобразный феномен массовой психологии. Он состоит в том, что под влиянием экстремальных факторов мгновенно меняется вектор целенаправленных сознаний и волевых импульсов. Молчащая в ужасе народная масса переходит в состояние покаяния, выраженное в «безмолвной молитве», в которой проступают контуры Лика, ибо моление всегда обращено к Святому Лику.
Нужно заметить, что Пушкин в дальнейшем сам разъяснил внутреннюю суть «народного безмолвия», когда создавал поэму «Полтава». Это он сделал в сцене казни невинных Кочубея и Искры. О Кочубее сказано:
Могущей верой укрепленный, Сидел безвинный Кочубей.
Искра же в этом эпизоде описан как «агнец», безмолвно «жребию послушный». Психологическая атмосфера кровавого преступления в данный момент напоминает финал пушкинской трагедии. При этом народ, присутствующий во время казни, и здесь, и там не просто созерцает «кровопролитие», но реагирует, реагирует одинаково:
Раздалось
Моленье ликов громогласных. С кадил куренье поднялось, За упокой души несчастных Безмолвно молится народ … (курсив наш. – В. О. )
Следует заметить, что «безмолвная молитва» является важной составляющей частью Литургии Верных. На эту форму молитвы обратил внимание и Гоголь в своих «Размышлениях о Божественной Литургии». Приведем из этого сочинения одну небольшую цитату: «И безмолвным молением, соединяясь с молением втайне своего пастыря, молится весь народ о всех и за вся, присоединяя, каждый от себя, в эту минуту всех, поименно, им знаемых: не только тех, которые его любят, но и тех, которые его не любят, – о всех вообще. И когда совершится, наконец, это глубокое безмолвное моление всех и о всех, и хор поющих возгласит: “И всех и вся”, тогда громко возглашает Иерей: ”И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Свя-таго Духа, ныне и присно и во веки веков”» [Гоголь, 1990. С. 94–95].
Таким образом, трагедия заканчивается не каким-либо внешне эффектным аккордом, а по самой глубинной сути – Символом веры, хотя и скрытым от поверхностного взгляда. Молчаливая молитва провоцирует в поэтическом плане возникновение духовной атмосферы, в которой рождается предощущение Лика. По отношению к нему Пушкин и выстроил всю систему образов и определил направление внутреннего и внешнего драматургического действия. Богословы отмечают, что благодаря тайной молитве «происходит удивительное сосредоточение всех и вся в одну временную точку и перенос в запредельный мир» [Скляревская, 2000. С. 245]. В поэтическом плане трагедии сошлись, таким образом, в одной точке в виду Божественного Лика акцентированные автором судьбоносные «линии» отдельных персонажей и народа. Наступивший в результате такого «схождения» катарсис явился знаком внутренней исчерпанности художественной идеи. Пушкину ничего не оставалось, как поставить точку. Он ее и поставил, полностью реализовав свой замысел.
Но история продолжала движение свое. На трассе этого движения и оказался Гоголь. И его функция как драматического писателя была предопределена. Трагедийный катарсис в пьесе Пушкина заставил звучать поэтическую струну в душе Гоголя. Пушкинская эстетическая «программа» открывала для Гоголя-драматурга логический путь к духовному свету не через трагедию, а через комедию – закономерную фазу на пути исторического процесса. Поэтому нет ничего парадоксального, что в «Ревизоре» завершающая «безмолвная» сцена порождает катарсис, но теперь это «комический катарсис», внедренный в сознание зрителя особым драматургическим «инструментом», который определяется термином «подтекст». В высшей точке драматургического действия «Ревизор» совершенно очевидно пересекается с «Борисом Годуновым». Гоголь, вступая в художественное пространство, обозначенное именем Пушкина, не просто обживает его, но расширяет его временные и социальные границы, открывая их последующим поколениям и сам вместе с ними вступая в новую историческую эпоху, из которой он шагнет в будущее. В этом плане художественное наследие Гоголя сформировало мощную традицию, которая не прерывается и до настоящего времени.