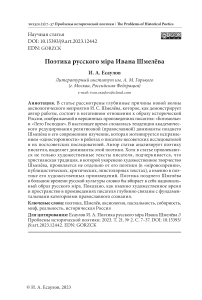Поэтика русского мира Ивана Шмелёва
Автор: Есаулов И.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены глубинные причины новой волны аксиологического неприятия И. С. Шмелёва, которое, как демонстрирует автор работы, состоит в негативном отношении к образу исторической России, изображаемой в вершинных произведениях писателя: «Богомолье» и «Лето Господне». В настоящее время сложилась тенденция академического редуцирования религиозной (православной) доминанты позднего Шмелёва в его современном изучении, которая мотивируется исправлением «односторонности» в работах о писателе несоветских исследователей и их постсоветских последователей. Автор статьи анализирует поэтику писателя, выделяет доминанты этой поэтики. Хотя в статье привлекаются не только художественные тексты писателя, подчеркивается, что христианская традиция, в которой укоренено художественное творчество Шмелёва, проявляется не отдельно от его поэтики (в «мiровоззрении», публицистических, критических, эпистолярных текстах), а именно в поэтике его художественных произведений. Поэтика позднего Шмелёва в большом времени русской культуры словно бы вбирает в себя национальный образ русского мiра. Показано, как именно художественное время и пространство в произведениях писателя глубинно связаны с фундаментальными категориями православного сознания.
Поэтика, шмелёв, аксиология, пасхальность, соборность, миф, реальность, историческая Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/147241435
IDR: 147241435 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12442
Текст научной статьи Поэтика русского мира Ивана Шмелёва
Памяти Тани Попович
К огда в последнее советское десятилетие разрешили наконец публикацию запрещенной ранее гуманитарной литературы, то из утаенного от читателя русского наследия в первую очередь публиковались авторы, которые как-то аксиологически более подходили здешнему идеологическому мейнстриму, по-своему близкому западному леволиберальному кругу. Да и в целом для советско-постсоветской интеллигенции оказались ментально куда ближе Н. Бердяев и Вл. Набоков, нежели И. Ильин и И. Шмелёв (равно как и А. Сахаров, но отнюдь не А. Солженицын). Причина не столько в «прогрессивности» первых и предполагаемой «консервативности» вторых, сколько в том, что там, где на передний план выдвигалось собственно русское, национальное, православное, оно если и не шельмовалось, то задвигалось в маргиналии. «Заветам Ильича» присягали в массе своей наши «шестидесятники», но в «перестройку» ими же вдохновлялись и ее «прорабы» (достаточно вспомнить символическую ноябрьскую (№ 45) обложку журнала «Огонек» за 1989 г. с большевиками-ленинцами, за вычетом разве что Сталина, которые апологетически подавались как «действующие лица» истории).
Тогда как все исходящее от русского православия, включая и саму Российскую империю с ее героями, гениями и царями, было заведомо чуждо не только «мiровой закулисе», говоря словами Ильина, но и здешним «ответственным» за выбор магистрального пути новой России, а также номенклатурным работникам наших «общественных наук». Рассуждая о построении образования в Российской Федерации, как направляющие его деятели, так и комментирующие их решения публицисты три десятка лет выбирают между «западным» и «советским», то «синтезируя», то разводя их, однако совершенно не желая использовать опыт отечественного (но досоветского) просвещения. Хотя еще основатель факультета социологии Гарвардского университета П. А. Сорокин писал о лучшей в мире в начале ХХ в. системе русского высшего образования, которой отдавал предпочтение — в силу бóльшей свободы — перед американской1.
Уже упомянутый выше Ильин много страниц посвятил тому, какой должна быть будущая — настоящая — русская наука. Однако до сих пор абсолютному большинству студентов-филологов у нас куда больше известна, к примеру, работа В. Я. Проппа о волшебной сказке (как же: ее отметил «сам» К. Леви-Стросс!), нежели рассуждения о духовном смысле русской сказки Ильина.
Вышеизложенное объясняет тот факт, что когда — значительно позже других «возвращенцев» — «правые», по известной терминологии, Шмелёв и Ильин стали (усилиями нескольких энтузиастов) постепенно выходить из того интеллектуального гетто в новой России, куда их изначально заботливо поместили конвоирующие русскую культуру здешние деятели, это вызвало сначала беспокойство, затем сопротивление, а наконец и прямые нападки и обвинения.
В свое время на нашем научно-образовательном портале «Трансформации русской классики» были размещены словарные статьи о русской литературе из наиболее репрезентативных английских, французских, немецких энциклопедий, Большой советской энциклопедии, а также советской «Литературной энциклопедии» конца 20-х — начала 30-х гг. прошлого века (статья о русской литературе из уничтоженного впоследствии 10 тома)2. Каждый непредубежденный читатель при сопоставлении этих статей мог убедиться в парадоксальном совпадении их основных аксиологических установок — по отношению как к русской литературе, так и к исторической России. Нужно признать, что за вычетом некоторых значимых исключений из общего ряда аксиологический подход к русской литературе и русской истории в западной университетской среде — в своих основных оценочных параметрах — часто, слишком часто, смыкается с ее советским истолкованием, при котором русская литература (да и в целом культура) воспринимается позитивно, когда она соответствует если не революционно-демократической мифологии, то, во всяком случае, логике «левого мифа» [Есаулов, 1998], [Есаулов, 2020: 75–126]. Если же отечественную литературу истолковывают иначе, отвергая миф о русской действительности как «средоточии косности, невежества, рабской покорности», такие интерпретации трактуются как «идеализация» русской жизни, при этом агрессивно не замечается, что «этот миф стал фатально и неотвратимо соприкасаться с программой тотального разрушения русского социума и русской культуры» [Хализев: 25].
И сколько бы ни пытался, героически пытался, например, А. И. Солженицын, используя свой авторитет русского патриота у себя на Родине и в мире, отделить русское национальное от советского интернационального, ему в полной степени так и не удалось ощутимо поколебать доминирующую доныне логику леволиберального мифа, подкрепленного в последние годы девятым валом новых поношений исторической России и в целом русского мiра. До того — и так же, в общем, безуспешно, пытались «оправдать» Россию многие культурные деятели первой русской эмиграции, указывая на неправомерность поношения русских за «советский интернационализм», от которого сам русский народ и пострадал сильнее всякого другого.
Все это, впрочем, вполне ожидаемо и прогнозируемо. Если историческая Россия с позиций «левого мифа» еще хуже, страшнее, чем даже и тоталитарный Советский Союз, как постфактум «оправдывали» свое безоглядное «очарование» российской Революцией западные интеллектуалы, то стоит ли удивляться той аксиологии, образцы которой без всякого труда можно обнаружить как в энциклопедических статьях, так и в нынешних университетских штудиях?
Приходится — в который уже раз — признать правоту Ильина, который, подчеркивая известную близость «советской» и «западной» цивилизации, горестно констатировал: «Марксизм есть для них (европейцев. — И. Е.) "свое", европейское, приемлемое; и советский коммунист для них ближе и понятнее, чем Серафим Саровский, Суворов, Петр Великий, Пушкин, Чайковский и Менделеев»3. В своем докладе 1962 г. «Исторический опыт России», отмечая 1100-летие Государства Российского, представитель уже второй волны эмиграции, преподаватель русской истории и литературы Йельского университета Н. И. Ульянов, основываясь не только на документах, но и на своем собственном жизненном опыте, подтвердил верность интуиции Ильина: «…добрая половина ученого, литературного, артистического Запада сделала Москву своей Меккой. Презиравшаяся и ненавидимая столица национальной России поднята ныне на щит, как столица мирового коммунизма. Запад любит советский коммунизм — создание своего духа, но ненавидит Россию историческую. От его первоначальной антисоветской идеологии ничего не осталось, она вся подменена идеологией антирусской. Ошеломляющая эпопея космических полетов приписывается не русскому гению, а победам коммунизма. Когда заграницей гастролирует русский балет, в газетах можно прочесть выражения восторженной благодарности: “Spasibo Nikita Sergeevich!”; но все коммунистические перевороты в Китае, в Индокитае, в Лаосе, в Индонезии единодушно относятся за счет "извечного русского империализма". Политические лозунги Запада зовут не к свержению большевизма, а к расчленению России. Нам приходится быть свидетелями триумфального шествия советского имени по всему свету и небывалого поношения имени русского. Ни в СССР, ни за границей нет ему заступников»4.
Нынешние споры о «красном» и «белом» (по этой терминологии, Шмелёв несомненно «белый») нужно поставить в правильный ракурс понимания. Для начала нужно хотя бы признать очевидное. Одни выступали против патриотизма (по факту: именно русского), за мировую Революцию (чтобы существовать «без Россий и без Латвий» интернациональным «человечьим общежитьем», как честно сформулировал лучший поэт советской эпохи), иными словами, были адептами интернационализма-глобализма. К исторической России они относились так, что на пятнадцать лет после своей победы запретили преподавать русскую историю, русскую литературу, ликвидировав даже русскую топонимику, в том числе само имя России (см.: [Есаулов, 2021: 7–8]). А другие — плохо или хорошо — пытались отстоять родину, а не насадить утопию, глобалистский марксистский «проект». Это были патриоты именно России (а не чего-то другого, утвердившегося взамен России, но присвоившего себе русское богатство).
Русские изгнанники, которые, в отличие от некоторых других «волн» эмиграции, никогда не отрекались от исторической России и ее ценностей, в катастрофическом для отечественной культуры количестве оказались за пределами большевистских границ, однако всегда надеялись, что их творчество когда-нибудь будет востребовано именно на их родине. Как мы должны относиться сегодня к их наследию? Как к репликам эмигрантского (т. е. редуцированного) историколитературного процесса, когда (в сердцах) в частной переписке Г. Адамович мог именоваться Гадамовичем, а Вл. Ходасевич — Худосеичем? [Кормилов: 34]. Это ли будет «последовательным историзмом»? Главное же — их отношение к России и к русскому мiру как таковому. Каково же оно?
В открывающей один из шмелёвских сборников статье иронически утверждается, будто «вторую половину жизни писатель провел не во Франции, а в вымышленной идеальной стране» [Cпиридонова: 3]. Эта «вымышленная страна», как понятно по заглавию статьи, — «светлое царство русское» (поставленное автором в столь же иронические кавычки), т. е. историческая Россия. Задается риторический вопрос: не является ли «на самом деле художественный мир Шмелёва запоздалой отрыжкой славянофильских идей (Москва — Третий Рим), идеализацией старой России, разрушенных Октябрьским взрывом 1917 г.» [Cпиридонова: 7]? Сама стилистика статьи (запоздалая отрыжка славянофильства, идеализация России, вымышленная страна) не вносит ничего нового в понимание русского писателя, а с головой выдает автора — официального советского «горьковеда». Так что перед нами не «отрыжка славянофильства», а, так сказать, отрыжка советского горько-ведения (и — шире — литературоведения) как в «изучении» Шмелёва, так и в отношении к исторической («бывшей») России.
Элементарный нарратологический анализ подобного исследовательского письма выдает истинное отношение исследователя не только к «России Шмелёва», но и России как таковой, которую писатель воссоздает в своих произведе- ниях. Но это отношение — совершенно противоположное шмелёвскому — препятствует и адекватному пониманию его творчества. Так, автор статьи следующим образом интерпретирует «поездку по Москве»: «…дорога, как густая ботвинья. Прозаическая бытовая деталь разрушает сусальную идиллию, переводя повествование в мир реальности» [Cпиридонова: 4]. Позволительно спросить: исходя из каких именно собственных представлений об исторической России исследовательница называет «миром реальности» именно то, что, как ей представляется, имеет негативные коннотации? Почему «дорога, как густая ботвинья» — это реальность, а воцерковлен-ная Россия, которую описывает писатель, — только «сусальная идиллия», но не «мир реальности»? Никакого отношения к подлинному постижению художественного мира Шмелёва подобная негативная оценочность не имеет и иметь не может. Перед нами чисто идеологический конструкт, причем такой, который, возможно, и отвечает «горьковскому», т. е. «революционно-демократическому» представлению о России5, но совершенно не отвечает шмелёвскому образу мира. Ведь «поэтической реальностью» мира Шмелёва является всё произведение в его целом. Следовательно, перед нами классический пример неадекватной интерпретации.
Цитируемая нами исследовательница для подтверждения своих аксиологических установок сочувственно цитирует статью М. Новикова из «Коммерсанта» с характерным названием «Классик, которому не хватило контекста». Какого «контекста», по мнению Новикова, «не хватило» Шмелёву, можно судить по инвективам того же критика в адрес С. Есенина: «Есенинские стихи воспевают и санкционируют прощание с чем-то прекрасным и безнадежно утраченным… Коль ты так убиваешься по березкам да шешунам, коли они для тебя так важны — какой с тебя спрос?», а также саморазоблачитель-ным высказываниям от имени некоего коллективного «мы»: «Мы же будем по мере сил продолжать искать способ существования среди людей, у которых такие культурные кумиры»6 (имеется в виду любовь русских людей к поэзии С. Есенина).
На какое-то короткое время могло показаться, что наследие Первой русской эмиграции (в той ее части, где речь идет о новом осмыслении русской литературы) будет, наконец, в полной мере освоено и на их родине, что в современной России русская классика сможет решительно освободиться «из-под глыб» трактовок, навязанных ей за прошлые десятилетия, чуждых самому ее духу. Однако, когда еще далеко не освоено и самое главное в этом наследии, в том числе в ее части, посвященной творчеству Шмелёва7, наблюдаются в последние годы как все новые и новые попытки дискредитации писателя, так и постоянно звучащие опасения о некоем преувеличении религиозной (то есть православной) компоненты в его творчестве. При этом совершенно игнорируется глубинное убеждение писателя, что сама русская литература вышла вовсе не из «Шинели» Гоголя, а «вышла из духовной сущности русского народа, из томлений его по "правде Божией" на земле, из его веры в эту правду, из его исканий этой правды»8.
Наряду с этим появляются и претендующие на обобщение cтатьи, в которых выражается явное беспокойство тем, что «большая часть работ российских историков литературы конца ХХ — начала ХХI века открыто или скрыто ориентирована» на труды тех ученых, которые, находясь в эмиграции, не были скованы обязательной марксистско-ленинской догматикой. Эта «ориентация» характеризуется как «односторонняя» (см. [Руднева, 2021: 172]) (в качестве же плодотворного преодоления указанной «односторонности» демонстрируется вышедшая в Калуге монография, которая, очевидно, односторонности лишена, хотя ее автор неоднократно был замечен в плагиате, в том числе и по отношению к шмелёвскому материалу [Есаулов, 2008: 651]). Главную опасность цитируемый мной автор видит в истолковании мира Шмелёва как «православного писателя», «сугубо религиозного писателя» и выражает надежду, что «на современном этапе изучения» эти опасные тенденции будут, наконец, окончательно преодолены (см.: [Руднева, 2021: 172, 175] (см. также: [Руднева, 2007, 2011, 2018]). Может быть, так и произойдет. Во всяком случае, в новейшей монографии о Шмелёве мы отчетливо наблюдаем, наряду со вполне квалифицированным рассмотрением историко-литературного материала, своего рода возвращение к такого рода «академизму», когда религиозная (православная) доминанта творчества писателя по возможности редуцирована [Каскина].
Ритуальные поношения «царской» («дореволюционной», «старой», «отжившей» и проч.) России долгие десятилетия служили своего рода «пропуском» в мир официального советского литературоведения (и в целом гуманитарных наук). Да и в наше время историческая Россия, по-видимому, так и не получила официальную «реабилитацию» у тех же лиц и их наследников. Прислушаемся лучше к словам Ильина по случаю второго издания шмелёвского «Богомолья»: «Мы, знающие Россию, <…> свидетельствуем о правде , заключенной в этом творении, подтверждаем и эту естественную человеческую доброту, и эту нестесненность личных чувств и мыслей, смирение сердец, жажду чистоты, искренность молитв, веяние благодати. А всем тем, кто не имел возможности приобщиться к этому в детстве, кто не верит нашей былой свободе , кто хотел бы узнать, как это люди жили, мечтали и молились на Руси, столетие за столетием , — мы от души советуем добавить себе эту книгу мастерского художества, прочесть ее и удостовериться, что отныне сердце начинает "петь" <…>. Это верно: Русь была такою . И слава Богу, что она такой была» [Ильин, 1973: 104–105].
К сожалению, к тем, кто «не верит» былой русской свободе, не верит в искренность молитв, веяние благодати, жажду чистоты, а в целом не верит, что изображаемая в книгах Шмелёва «Русь была такою», присоединяются нынче не только «ответственные работники» советских госучреждений, вкупе с леволиберальной фрондой, всегда занимавшей привилегированные позиции в отечественном интеллигентском кругу, но и те, кто «не имел возможности приобщиться к этому в детстве», а затем, разочаровавшись в возможности возрождения подлинной России, а также, по-видимому, и в том, чтобы воссоздать ее «хотя бы в своей семье», отказался верить и в правду Шмелёва, назвав ее «фантазерством», «мифотворчеством», «утопией»9.
Цитируемый выше «разочарованный» протоиерей Г. Митрофанов (объявив, что в иллюзиях «пребывал значительную часть жизни») обратил свое разочарование не только на советско-постсоветскую реальность, но и на тот русский мiр, который мы видим в шмелёвских книгах, сомкнувшись тем самым с носителями господствующей в нашем малом времени леволиберальной аксиологии. С его — нынешней — точки зрения, «фальшиво звучит Иван Шмелёв», «потому что он писал о той жизни, которой никогда не было и апеллируя к которой он, в общем-то, занимался анестезией своих эмигрантских комплексов»10. И в данном случае стилистика ( амнезия эмигрантских комплексов ) отсылает, скорее, к разоблачающим русскую эмиграцию и ее «фантазёрские» представления о «гадкой» исторической России статьям большевистских пропагандистов, вроде М. Кольцова, в газете «Правда»: итак, той самой Божьей правды , о которой писали как Ильин, так и Шмелёв, которая мерцала сквозь грехи несовершенной России, «никогда не было». Если перед нами действительно «итог» духовных исканий «разочарованного» о. Георгия «как историка», то, признаемся, это печальный итог, потому что в процесс ресоветизации, который так печалит о. Георгия («советское это русское»), он вносит, сам того, к сожалению, не замечая, и свой собственный вклад.
Лучшие шмелёвские дореволюционные произведения — «Гражданин Уклейкин», «Человек из ресторана» — вполне «прогрессивны», «демократичны», «социальны». В его раннем творчестве можно заметить черты позднего, зрелого мастера (например, особое искусство сказа), но, наряду с этим, произведения вполне отвечают ожиданиям как отечественной «демократической» общественности, так и европейским представлениям о недолжной российской действительности. Шмелёв получает европейское признание, «Человек из ресторана» выдерживает несколько изданий и переводится на десяток языков… Следует одновременно подчеркнуть, что Шмелёв все-таки, если и позволяет себя увлечь некоторым социальным радикализмом, то вполне умеренным.
Когда произошла февральская революция, Шмелёву, как и большинству русских писателей того времени, показалось, что дальше будет только лучше. Он вошел в группу московских писателей, которые специально поехали встречать вглубь страны амнистированных Временным правительством «политических», дабы торжественно отметить их освобождение… Освобождали всех — и «политических», и уголовных… Однако уже тогда писателю пришлось убедиться в том, что реальность оказывается значительно сложнее революционно-демократического мифа о ней… (см.: [Сорокина: 100–109], [Солнцева: 49–51]). Трудно было свыкнуться добродушному русскому обывателю, так переживавшему за «униженных» и «оскорбленных» проклятым царизмом «маленьких людей», что очень скоро на русской земле достаточно будет слова «офицер» в анкете, дабы, не разбираясь добавочно, «очистить» советскую землю от таких русских офицеров, как Сергей Шмелёв, перед этим пообещав — на государственном уровне — не расстрел, а, напротив того, амнистию.
Однако после осмысления русской Катастрофы ХХ в. русские писатели смогли совершенно иначе увидеть Россию. И, пожалуй, лучше всех это удалось именно Шмелёву. От произведений 1910-х гг., продолжающих, условно говоря, «демократическую» линию русской литературы, Шмелёв переходит к мироощущению, которое можно назвать торжествующим христоцентриз-мом. По словам Ильина, в «Лете Господнем» «Россия и православный строй ее души показаны <…> силою ясновидящей любви», а все главы этой книги «связаны воедино неким непрерывным обстоянием — жизнью русской национальной религиозности (выделено автором. — И. Е .)» [Ильин, 1991: 181, 179].
«Чего автор хочет? — вопрошал чрезмерно пристрастный и далеко не всегда корректный по отношению к шмелёвскому пафосу, но зато весьма точный в определениях Г. Адамович. — Воскрешения "святой Руси", при том вовсе не углубленноподспудного, таинственного, очищенного, обновленного, но громкого, торжественно-задорного, наглядного, осязаемореального! Чтобы вновь зазвонили все московские колокола, заблистали звездами синеглавые соборы бесчисленных русских монастырей. <…> Если впереди тьма, будем хранить свет прошлый, единственный, который у нас есть, и передадим его детям нашим. <…> Где это у Шмелёва <…>? Можно было бы ответить: везде, в замысле, в языке, в каждом случайном авторском замечании. <…> Всё искусство и всё дарование художника направлено к тому, чтобы создать мираж и, вызвав из небытия исчезнувший мир, какой-то заклинательной волей водворить его на месте мира настоящего» [Адамович: 72–74].
Однако «мираж» ли это? «Заклинательная воля» Шмелёва подобна силе православных молитв, густо рассыпанных в его поздних произведениях. И, надо признать, ему удается (по крайней мере, в «Богомолье» и «Лете Господнем») именно этой волей, этой силой художественно воскресить воцерковлен-ную соборную Россию и тем самым передать ее своим читателям. Если только современный читатель готов — в отличие от Адамовича — «принять идеал традиционный (т. е. соборный. — И. Е .) как идеал живой». Шмелёвская «скрытая, приглушенно-страстная борьба за прошлое» [Адамович: 73, 75] — борьба с небытием , когда исчезнувшая как будто навсегда Россия (утратившая даже само имя свое11) вдруг вся целиком — «от разливанного постного рынка до запахов и молитв яблочного Спаса, от "розговин" до крещенского купанья в проруби» [Ильин, 1991: 181], Россия с ее праздниками , радостями и скорбями (вспомним подзаголовок «Лета Господня») — художественно вызывается «из небытия» на место «мира настоящего», то есть советского во времена Адамовича, а для нас — постсоветского.
Подводя итоги русского (по ту сторону советского) ХХ в., Адамович, хотя и горестно, констатировал: «Мы стоим на берегу океана, в котором исчез материк…», — однако заключил в ином тоне: «…эмигрантская литература сделала свое дело потому, что оставалась литературой христианской» [Адамович: 19, 28]. Христианская традиция, в которой укоренено художественное творчество Шмелёва, проявляется не отдельно от его поэтики, не в «мировоззрении» писателя, не в его публицистических, критических или эпистолярных текстах, а именно в поэтике произведения. Особо значима оказывается структура текста. Так, «Лето Господне» начинается с местоимения «я»: «Я просыпаюсь…». Завершается же произведение соборным «мы»: «…помилуй нас». Вектор пути от личного «я» к соборному (а не коллективному) «мы» является одной из важнейших особенностей этого произведения, задающей особый — пасхальный — «горизонт ожидания» его читателю (об этом — ниже).
Это соборное «мы», глубоко укорененное в русской словесности, преодолевающее расчлененность мира и человека, равноудаленное от коллективизма «толпы» и от индивидуализма «я», присуще как русскому мiру, так и поэтике Шмелёва:
«Я несу от Евангелий страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек: он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь: погаснет! Донесу — доживу до будущего года. Старая кухарка рада, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом на погребице, в коровнике…
— Он теперь никак при хресте не может. Спаси Христос… — крестясь, говорит она»12.
Обратим внимание: «я» и «она», «мы» и Христос, «мы идем выжигать кресты» — в доме и в его окружении. Поэтика Шмелёва совершенно «закрыта» для адекватного понимания без актуализации исследователем его творчества русского православного пасхального архетипа как глубоко позитивной духовной ценности. Ведь художественный мир Шмелёва как бы вбирает в себя (не вырастает из, но именно собирает в себе) и древнерусскую книжную традицию (см.: [Пак]) на воцерковле-ние человека, и свойственную классической русской литерату- ре XIX в. преимущественно имплицитную ориентацию на образ Спасителя. Читатель Шмелёва словно бы и сам входит в это соборное «мы», присутствует при «возвращении к религиозной первооснове жизни» [Федотов: 223].
«Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки — пришел Христос. И все — для Него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни — страстные, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями и ничего, потому что везде — Христос» (217).
Живое, а отнюдь не только «символическое» присутствие Христа, свойственное именно православной традиции, придает шмелёвским героям и шмелёвскому космосу осмысленную духовную жизнеустойчивость. Христос одновременно везде и «на нашем дворе». Христос пришел в идиллический мирок домашнего двора. Приход реализован именно сейчас, здесь, сегодня — в настоящем, «живом» времени жизни героя. Но для того, чтобы это произошло, необходимо мое личное участие: черный крестик «от моей свечки», убереженной мной и донесенной непогасшею из храма.
Ощущение живого присутствия Христа в собственной жизни, как мы помним, характерно далеко не только для шмелёв-ских персонажей. В русской классической литературе постоянные несовершенства изображаемых героев, критицизм социальный и нравственный возникал при проецировании (вольном или бессознательном) «реальной» (греховной) жизни героев произведения на идеальную (безгрешную) жизнь центрального персонажа Нового Завета, даже если таковая проекция и не осознавалась до конца самими авторами произведений. Наложение христианского идеала — святости (личностного абсолюта в его православной чистоте и «ортодоксальности») — на реальную жизнь в России (как, впрочем, и в другой стране) оттеняло неизбежную неполноту этой «реальной» жизни, но и задавало должный духовный ориентир, не позволяло довольствоваться исключительно «здешним», земным.
Однако после революций и мировых войн, после расхри-стианивания православной России не только Шмелёв, но и другие русские беженцы совершенно иначе — именно «на расстоянье» — смогли увидеть ту Россию, которая была ими (и нами) потеряна, или же, точнее, у нас отобрана. Так, по признанию Зайцева, «Россию "Святой Руси" <…> без страданий революции, может быть, не увидел бы и никогда»13. Парадокс состоит в том, что только после этого потрясения оказалось возможно обозреть русскую жизнь и русский мiр в их целом.
Поэтому теперь и извечная неустроенность, словно бы бесформенность , российской мирской жизни уже не представляется объектом сатирического осмеяния, но принимается, получает христианское оправдание — как богоданная «оболочка», сквозь которую можно и дóлжно узреть вечную и нетленную сущность России.
Если раньше — до февральской и октябрьской катастроф — акцентировались все больше «расхлябанные колеи», то теперь, наконец, обратили внимание и на «спицы расписные». При этом нужно отметить и полемическую эстетизацию отвергавшейся в прошлом «низкой данности», будто бы не отвечавшей «высокой заданности» России.
В воссоздаваемом на пепелище образе шмелёвской России даже как будто совершенно бесполезная лужа, осмеянная когда-то Гоголем, находит свое утерянное место:
«С крыш уже прямо льет, и на заднем дворе, у подтаявших штабелей сосновых, начинает копиться лужа — верный зачин весны. Ждут ее — не дождутся вышедшие на волю утки: стоят и лущат носами жидкий с воды снежок, часами стоят на лапке. А невидные ручейки сочатся. Смотрю и я: скоро на плотике кататься. Стоит и Василь Василич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину:
— Ругаться опять будет, а куда ее, шельму, денешь! Совсюду в ее текёт, так уж устроилось. И на самом-то на ходу… передки вязнут, досок не вывезешь. Опять, лешая, набирается!…
— И не трожь ее лучше, Вася… — советует и Горкин. — Спокон веку она живет. Так уж ей тут положено. Кто ее знает… может, так, ко двору прилажена!‥ И глядеть привычно, и уточкам раз-гулка…
Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки.
— И до нас была, Господь с ней… о-ставь.
А Василь Василич все думает. Ходит и крякает, выдумать ничего не может: совсюду стёк! Подкрякивают ему и утки: так-так… так-так… Пахнет от них весной, весеннею теплой кислотцою. Потягивает из-под навесов дегтем: мажут там оси и колеса, готовят выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острою кислотцою пахнет, и от сараев старых, и от лужи, — от спокойного старого двора.
— Была как — пущай и будет так! — решает Василь Василич. — Так и скажу хозяину.
— Понятно, так и скажи: пущай ее остается так.
Подкрякивают и утки: радостным — так-так… так-так…
И капельки с сараев радостно тараторят наперебой: кап-кап-кап… И во всем, что ни вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне: так-так. И безмятежно отстукивает сердце: так-так…» (195–196).
Соответствующая глава «Лета Господня» — «Мартовская капель» — начинается звукописью: «…кап… кап-кап… кап… кап-кап-кап…» (192) — и завершается звукописью: «так-так…» (196). Начинает ее мартовская капель , а завершает звукопись, передающая стук сердца.
Однако эта звукопись стука сердца мальчика («так-так»), завершающая главу, не непосредственно следует за стуком капель, а есть своего рода словесный (но в то же время и природный) посредник. Это — утки: «Подкрякивают и утки: <…> так-так… так-так…».
Казалось бы, совершенно очевиден вектор звукописи: через неживое (капли) к живому (утки) и затем к человеческому (сердце мальчика). Такая остраненная систематизация, задающая определенный сюжетный вектор — линеарный, — при всей ее внешней «правильности» (стук капель — подкрякива-ние уток — стук сердца) свидетельствует не о полном понимании шмелёвского мiра читателем, а, напротив, о его не полном понимании. Попытаюсь это продемонстрировать.
Дело в том, что в шмелёвском тексте утки «подкрякивают» не кому-нибудь, а Василь Василичу, который — еще до звукописи, передающей крякание уток, — «ходит и крякает »: «выдумать ничего не может: совсюду стёк!».
Если при интерпретации шмелёвского текста держаться прозаической точки зрения, то «крякает» Василь Василич от невозможности выполнить хозяйское указание по осушению лужи: «выдумать ничего не может», то есть «крякает» не от удовольствия, а, напротив того, от озадаченности. Однако если мы будем воспринимать шмелёвский текст иначе, если будем созерцать его с поэтической точки зрения (а подобная интерпретация совершенно необходима, если считать «Лето Господне» самоценным художественным произведением), тогда «крякание» Василь Василича может означать нечто совершенно иное.
В большом времени «Лета Господня» Василь Василич, маленький герой, Горкин, а также утки и мартовская капель находятся в особых отношениях: это отношения чистой любви и радости — от радостного приятия Божьего мiра и благодарности Творцу. Однако для того, чтобы встать на эту — последовательно поэтическую — точку зрения, чтобы в низкой данности («лужа») увидеть скрытую там высокую заданность, требуется не только авторское (шмелёвское) преображение его собственного былого «бытописательства», для этого требуется и особое рецептивное усилие со стороны читателя.
Как истолковать постоянный рефрен шмелёвского текста обращения к давнопрошедшему, которое в данном фрагменте звучит так: « И до нас была »? Для этого необходимо со всей возможной серьезностью отнестись к продолжению этой фразы, которая мной намеренно редуцирована, следует не низводить эту фразу до подобия своего рода междометия, речевого штампа, а увидеть в ее продолжении мерцание некой доминанты шмелёвского образа мiра. Поэтому завершается фраза, как будто бы свидетельствующая лишь об этической приверженности Шмелёва ушедшему навсегда прошлому, следующим образом: « Господь с ней ».
Она имеет такой же смысл, как и пушкинское «Как дай вам Бог любимой быть другим», которое можно, разумеется, истолковать и так, что когда-то я Вас любил, теперь уже, по-видимому, не люблю (разве только совсем немного: эта любовь «в душе моей угасла не совсем», да и то «быть может») — и поэтому мне настолько безразлично, что будет с Вами, что даже если и другой будет любить Вас, то уж меня, во всяком случае, это вовсе не трогает. Настолько не трогает, что я Вам любви, но не своей, а этого другого, теперь могу даже и пожелать: будьте уже ему отныне «любимой», и на этом покончим. Нет, у Пушкина слова «дай Вам Бог» эквивалентны шмелёвскому «Господь с ней» — в том плане, что выводят этический кругозор «я» из эгоистического самоутверждения к истинному пониманию «Ты» / «Она» / «Вы», преображают «Вы» из объекта моего желания в самостоятельный субъект — личность; однако звучит также и редуцированная мольба — поэтический, хотя и редуцированный, аналог молитвы: «Господь с ней» / «Как дай вам Бог любимой быть другим».
При этом шмелёвский персонаж все-таки не остраняется от своего предмета описания и прошлой привязанности, не занимает по отношению к нему внешнюю позицию. Обратим внимание при этом на настоящее время: «Я рад. Я люблю нашу лужу» (вместо прошедшего: «Я вас любил »).
Добрая воля не обособившихся от мира героев и упоминаемый здесь же «с покойный старый двор» заставляют вспомнить пушкинскую формулу русского мiра: «покой и воля» (напомню, что «Лето Господне» имеет пушкинский эпиграф). Но здесь — «на свете» Шмелёва — соединение этих двух начал радостно и вовсе не противопоставляется «счастью». Пушкинский текст, избранный для эпиграфа («Два чувства дивно близки нам…»), с его любовной адресованностью к «родному пепелищу» и к «отеческим гробам», объемлет весь космос Шмелёва. Потому герой, не боясь насмешек, и может сказать: «Я люблю нашу лужу, как и Горкин». Любовь, излучаемая в мiр, рождает ответный импульс — герой любим и благословляем мiром: «И во всем, что ни вижу я, что глядит на меня любовно…». Это и есть та «сердца пища», о которой напоминает шмелёв-ский эпиграф к «Лету Господню».
Общая же пасхальная установка проявляется у Шмелёва не преодолением природной цикличности, а, так сказать, освящением ее. Происходит преображение быта (и вообще прозаики) в духовный план. Прозаика при этом становится поэтикой, ведь воистину «везде капель», поэтому «Лето Господне» так и очаровывает читателя, что он прозревает в многократно воспроизводимой Шмелёвым звукописи мартовской капели еще неназываемый стук сердца его героя.
Художественной задачей целого ряда писателей русского Зарубежья было воссоздание именно этой — соборной — России. Конечно, читая Шмелёва, мы погружаемся в мiр шмелёвской России, однако разве это только Россия Шмелёва? Нет, его Россия — это как раз та Россия, которая нами утрачена. Точно так же, как в стихах Ф. Гёльдерлина, согласно М. Хайдеггеру, проявляется суть немецкой речи и проступает образ Германии как таковой, в книгах Шмелёва в конечном итоге — не «шмелёвская Россия», а просто Россия, Россия как она есть.
Для понимания поэтики Шмелёва проблема времени, которая уже была отчасти затронута, является одной из важнейших. Каковы истоки живого и неуничтожимого присутствия прошлого в настоящем? Это проявляется, например, в том, что старая дедовская тележка в «Богомолье» совершенно неожиданно для героев вблизи Лавры Сергия Радонежского словно сама находит сделавшего ее мастера. Иногда же до неразличимости сближено также время рассказа и время рассказывания:
«Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый… — и почему-то видится кроватка, звезды.
Рождество Твое, Христе Боже наш, Воссия мирови Свет Разума…
И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный… был всегда. И будет» (260).
Как указывает А. М. Панченко, «человеческое бытие <…> трактовалось в Древней Руси как эхо прошедшего — точнее, тех событий прошедшего, которые отождествлялись с вечностью. <…> Церковный год <…> был не простым повторением, а именно отпечатком, "обновлением", эхом. <…> Человек, с точки зрения православной культуры Древней Руси, также был "эхом"» [Панченко: 48–49].
Отметив это, вновь обратимся к «Лету Господню». Отправляющиеся на Постный рынок герои запрягают Кривую, которая «уже на спокое, и ее очень уважают». Крайне важно здесь, что «Кривая очень стара. Возила еще прабабушку Устинью, а теперь только нас катает…» (196–197). Присутствие давно усопшей прабабушки постоянно ощущается в настоящем: «Горкин дает ей (Кривой. — И. Е. ) мякиша с горкой соли, а то не сдвинется, прабабушка так набаловала» (197). Лошадь останавливается, и «у Николая Чудотворца, у Каменного моста: прабабушка свечку ставила…» (198). Дорога на Постный рынок преображается в трансисторический путь героя, укореняющий его в определенной духовной традиции — православной:
«На середине моста Кривая опять становится.
— Это прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на Кремль глядела. Сколько годов, а Кривая все помнит! Поглядим и мы. <…> Самое наше святое место, святыня самая. <…>
Кажется мне, что там — Святое <…> Святые сидят в Соборах.
И спят Цари. И потому так тихо. <…>
Золотые кресты сияют — священным светом. Все — в золотистом воздухе, в дымно-голубоватом свете: будто кадят там ладаном. <…>
Это — мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы… и дымные облачка за ними, и эта моя река, и черные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов… — были во мне всегда. И все я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром — я знаю. И щели в стенах — знаю. Я глядел из-за стен… когда?‥ И дым пожаров, и крики, и набат… — все помню! (198–199).
В аспекте нашей проблемы особенно важно подчеркнуть поразительную особенность авторского видения мiра: герой Шмелёва, писателя ХХ в., подобно древнерусскому человеку, является «эхом прошедшего», именно таким необходимым эхом, которое способно возродить святое и грозное прошлое Кремля, не позволить ему «исчерпаться». В этом художественном мiре воистину «не человек владеет историей, а история владеет человеком», а потому, как и для человека Древней Руси, православная культура для Шмелёва — «это сумма вечных идей, некий феномен, имеющий вневременной и вселенский смысл»
[Панченко: 50]. Маленький герой осознает себя не обособившейся, оторвавшейся частью православного космоса, а, скорее, некой мистической результирующей соборной «святыни» Кремля. Поэтому он и вправе сказать, что атрибуты воцер-ковленной русской истории в нем «были <…> всегда».
Хотя художественное время Шмелёва циклично, однако это не языческий круговорот времен года , неоднократно становившийся фоном и для произведений советской литературы (особенно «деревенской» тематики), где практически утеряно живое присутствие, в центре этого круга, Христа, одухотворяющего и этизирующего, — извечный земледельческий цикл. Зачастую художественное время такого рода произведений погребено в настоящее, оно и не пытается выйти за пределы земной жизни малого социума. Время Шмелёва не просто прорывается к вечности через густой, осязаемый быт, но и само является именно эхом православной вечности, освящающей каждое мгновение цикличного земного года. «Я смотрю на Распятие. Мучается, Сын Божий» (180) — не в давнопрошедшем времени христианской истории, а именно сейчас, рядом с героем, за него, а также сопереживающего ему читателя.
Соответственно противоположный тип хроноса — быстротекущее время линейного существования, утерявшее христианскую перспективу, на художественном освоении которого построена не только вся советская литература (с культом «политических новостей», «исторических встреч» и «героических свершений»), но и западный просвещенческий «прогрессизм» — отторгается шмелёвским мiром.
Линейный «прогресс», весь устремленный в будущее, которое всегда впереди, требует «выпрямления» круглой человеческой жизни, как бы в качестве жертвоприношения за культ новизны . Отражением этого типа ментальности являются формы жизни, ориентированные на овнешнение (а в пределе — обезличивание, конечно, в христианском понимании этого слова) человека, на подчинение его конечной земной жизни движущемуся бесконечному потоку все новых и новых «событий» (неотличимых здесь от «происшествий»), вытесняющих из его жизни традиционное и устойчивое содержание. Сама иерархия «старого» и «нового» здесь решается всегда в пользу
«нового». Для Шмелёва же абсолютной ценностью обладает не нечто «беспрецедентное» (уникум, не имеющий прецедентов в циклическом времени), а то, что сопровождает человека от рождения до могилы. То, что сопровождало жизненный путь его отца. Не «новость», забываемая на другой день, а то, что противостоит забвению. В «Лете Господнем» изначально этот лейтмотив подчеркивается зовущим благовестом: «…по-мни… по-мни…» (203). В осмыслении этих ценностей как глубоко позитивных, в приобщении к ним и проявляется в данном случае христианское смирение. Так, вероятно, целое человека освобождается от смертных объятий линейного времени — конечно, с позиций православной ментальности. Причем абсолютные ориентиры (Великий Пост, Благовещение, Рождество, Святки, Крещение — это главы шмелёвской книги, совпадающие с этими ориентирами), оставаясь навсегда значимыми для русского христианского мiра, никогда не «исчерпываются». Они всегда «новые», всегда «живые». Это то, что, всегда повторяясь и соединяя тем самым людей в сущностном соборном единстве жизни-смерти, радости и скорби, всегда неповторимо. Повторяются — значит, обладают абсолютной ценностью не только для меня, но и для всего христианского космоса; неповторимы — оттого что наполняют мою, именно мою жизнь единым и единственным смыслом
Подчеркнем при этом, что соборность видения мiра, присущая Шмелёву и воплотившаяся в поэтике его книги, имеет ярко выраженный пасхальный характер. Поэтому «Лето Господне» можно определить как особый жанр пасхального романа . Неоднократно отмечалось, что именно в рассматриваемом произведении автором описано три Пасхи (и, например, только два Рождества). Однако главное все-таки в другом. Пасхальность предполагает путь от земного к небесному , от смерти к вечной жизни .
Вновь обратимся к началу романа. Первая фраза «Лета Господня» — это фраза о пробуждении . Достаточно часто сон в поэтике литературных произведений является аналогом смерти . Герой проснулся от света, но этот свет неприятный: он «резкий», «голый», «холодный», «скучный». Много раз подчеркивалось особое значение быта у Шмелёва, но в первом абзаце «Лета Господня» доминирует совершенно другое:
«душа начинается», «душу готовить надо», «к светлому дню готовиться» (177). Светлый день — это Пасха. Таким образом, подтекст первого абзаца романа такой, что движение к Пасхе составляет, наряду с вектором движения от «я» к соборному «мы», особый генеральный сюжет «Лета Господня».
Почему, однако, о Пасхе речь идет и на протяжении всего романа? Дело в том, что годовой круг христианского богослужения осложняется также дневным и седмичным кругом. Прихожанин, как и читатель «Лета Господня», всегда присутствует при своеобразном пересечении этих кругов. Поэтому каждое художественное событие может быть символически рассмотрено как в контексте годового круга «Лета Господня», так и одновременно в двух других богослужебных временных циклах. Именно это является особенностью пасхального романа.
Однако Воскресения, увы, не бывает без смерти. Если мы — как исследователи — поставим это произведение в нехристианский контекст понимания, не признающий Воскресения как настоящего итога человеческой жизни, то, конечно, без труда найдем аргументы, говорящие о совершенно безотрадном, мрачном, безнадежном финале. Тогда получается, что тот путь к «светлому дню» оказывается на деле путем к смерти.
Эта мнимая безотрадность подчеркивается для нехристиански ориентированного читателя и исследователя уже тем, что последняя глава «Лета Господня» имеет название «Похороны». Обратим внимание и на беспросветную цветовую гамму в предпоследнем абзаце текста:
«Гроб поднимают, вдвигают под высокий балдахин, с перьями наверху. Кони, в черных покровах, едва ступают, черный народ теснится, совсем можжевельника не видно, ни камушка, — черное, черное окно… и уж ничего не видно от проливного дождя» (546).
«Черные покрова», «черный народ», «черное, черное окно»: четырехкратный повтор черного цвета завершается беспросветностью — в самом буквальном смысле: «и уж ничего не видно ».
Однако эта земная беспросветность (смерть как неумолимое земное завершение каждой человеческой жизни) преодолевается пасхальной надеждой на Божью милость. Кончину и похороны отца венчает (как и само «Лето Господне» в его целом) Тресвятое, дающее надежду на жизнь вечную.
«Слышу:
…Свя-ты-ый... Бес-сме-э-эртный…
По-ми-----и----луй… на----а---ас…» (546).
Иными словами, прозаический план романа свидетельствует о неотменимой на земле смерти. Однако Тресвятое — как истинное завершение «Лета Господня» — переводит этот прозаический план в иное — пасхальное — завершение: у Бога нет мертвых.
В этом пасхальном контексте понимания становится ясной и рецептивная задача Шмелёва. Речь действительно идет ни больше и ни меньше о Воскресении соборной России. С позиций рецептивной эстетики (конечно, в нашей «перекодировке» этого почтенного направления) тем самым осуществляется и воскресение читателя, о котором, как и о блудном сыне, можно сказать: «был мертв и ожил».
Но не является ли гипотеза о воскресении читателя как возможном контексте понимания и даже рецептивной задаче Шмелёва слишком рискованной? Вряд ли. И для древнерусского книжника главной была задача преодоления «ветхого человека» в себе самом и в своих читателях. Это преодоление невозможно без перевода телесной «ветхости» в иной, духовный план — воскресение.
В некоторых публицистических текстах самого Шмелёва есть похожая установка. Так, в его Пушкинской речи 1937 г. имеются строки, свидетельствующие именно о воскресении читателя Пушкина: «…читаем его (Пушкина. — И. Е. ) и воскресаем », — пишет Шмелёв14. Однако подчеркну, что прямые публицистические высказывания автора не могут быть основным аргументом в понимании художественного текста, а могут быть лишь аргументом дополнительным. Главное в том, что как сама структура шмелёвского романа, так и развертывание художественного текста имеют пасхальный вектор.
С. В. Шешунова, исследуя временные структуры произведений Шмелёва, доказала, что именно Пасха главенствует у него среди всех упоминаемых христианских праздников. Так, совершенно неслучайна последовательность христианских праздников в романе «Няня из Москвы», когда первым является Рождество, а последним — Вознесение (которое, в свою очередь, завершает пасхальный цикл празднования победы Христа над смертью) (см.: [Шешунова, 2006, 2002, 2017]). Все это вместе взятое позволяет сделать вывод о пасхальном характере поэтики позднего Шмелёва. По-видимому, пасхальный тип русской культуры и является таким «контекстом», где его произведения оказываются «у себя дома» (М. М. Бахтин).
Теперь вернемся к вопросу: так почему же вновь возникла потребность в дискредитации писателя? В чем тут дело? Полагаю, вовсе не в неосторожных высказываниях писателя из личной переписки. Дело здесь именно в шмелёвском образе России, в его поэтике русского мiра. Тот образ, который мерцает на страницах «Богомолья» и «Лета Господня» — это образ соборной, православной России. Он не «идеален» (так, на первых же страницах шмелёвского пасхального романа в Чистый понедельник мы слышим сердитый крик отца маленького героя), там изображаются не святые, а грешники (странно, что этого не желают видеть те, кто уличает писателя в «идеализации»), но такие грешники, которые осознают или хотя бы чувствуют свою греховность, ибо в их «культурном бессознательном» наличествует тот национальный идеал, который имеет вполне определенное название — святость (отсюда и «святая Русь»). А проблемой эта шмелёвская, а точнее, наша Россия является для тех, кто на дух не переносит этот идеал, стремится заместить и трансформировать его во что-то иное, имеющее иные корни, нежели тысячелетняя русская православная традиция.
Когда потоком идут казенные «духовность», «нравственность», «патриотизм», «дружба народов» (как это уже было в позднем Советском Союзе), но сознательно стерты и затушеваны отличительные черты православного христианства, когда даже в пасхальном поздравлении официальные лица порой избегают произнести слова «Христос воскрес!», да и само слово Христос .
Шмелёв — певец не «царской», а вечной России, той самой России, которая не только «загубила» превосходнейший марксистский «проект»-эксперимент, но и никак не отвечает декларируемым стандартам нынешнего малого времени.
Отсюда и нынешнее ожесточение «хозяев дискурса», направленное на Шмелёва, который смог нам художественно передать нашу воцерковленную Родину, именно потому что его творчество является золотой нитью, связывающей русских с исторической Россией, с подлинным русским мiром, а не фальшивой его имитацией. Шмелёву теперь торопиться некуда. Он вернулся в Россию, точнее, вернул нам Россию. А что мы не вполне способны взять утраченное… Шмелёв теперь сам уже может выбирать будущие поколения. Наверное, они впереди. Будем надеяться на это.
Список литературы Поэтика русского мира Ивана Шмелёва
- Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. 318 с.
- Есаулов И. А. Революционно-демократическая мифология как фундамент советской истории русской литературы // Проблемы исторической поэтики.Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Т. 5. С. 191—202 [Электронный ресурс]. URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2492 (11.01.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2492
- Есаулов И. А. О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начетничества в изучении русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. Т. 8. С. 606—660 [Электронный ресурс]. URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=3471 (11.01.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2008.3471
- Есаулов И. А. Пушкинская речь Ивана Шмелева: новый контекст понимания // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. Вып. 11. С. 405—426 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429870331.pdf(11.01.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2013.394
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. Магадан: Новое время, 2020. 480 с.
- Есаулов И. А. «Архискверный Достоевский» в малом времени советско-постсоветских десятилетий и в большом времени русской культуры // Ф. М. Достоевский: pro et contra, антология. СПб.: РХГА, 2021. Т. 2: Советский и постсоветский Достоевский / сост., вступ. ст., коммент. И. А. Есаулова (при участии Ю. Н. Сытиной). С. 7—24.
- Ильин И. А. Русские писатели, литература и художество. Вашингтон: Русское книжное дело в США, 1973. 286 с.
- Ильин И. А. О тьме и просветлении: книга художественной критики:Бунин. Ремизов. Шмелёв. М.: Скифы, 1991. 216 с.
- Каскина Ю. У. И. С. Шмелёв и русская классика XIX века: И. С. Тургенев, А. П. Чехов, Ф. М. Достоевский. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 160 с.
- Кормилов С. И. Эмигрантская критика о Шмелёве (20—30 годы) // Художественный мир И. С. Шмелёва и традиции славянских литератур. XII Крымские международные чтения: сб. науч. тр. Симферополь: Таврия-Плюс, 2004. С. 29—35.
- Кошелев В. А. «...вот тайна, которую мы как будто разгадали»: «Пушкинская речь» И. С. Шмелёва 1937 года // И. С. Шмелёв и литературный процесс ХХ—ХХI вв.: итоги, проблемы, перспективы. X Крымские Международные Шмелёвские чтения. М., 2004. С. 11—18.
- Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелёв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 272 с.
- Пак Н. И. Древнерусская культура в художественном мире Б. К. Зайцева и И. С. Шмелёва. М.: Директ-Медиа, 2023. 320 с.
- Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. 202 с.
- Руднева Е. Г. К вопросу о религиозном и философском аспектах творчества И. С. Шмелёва // И. С. Шмелёв и писатели литературного зарубежья. XVI Крымские международные Шмелёвские чтения: сб. науч. ст. Алушта, 2007. С. 124—135.
- Руднева Е. Г. О религиозной составляющей художественного мира Шмелёва // Поэзия русской жизни в творчестве И. С. Шмелёва: Шмелёвские чтения 2007 и 2009 гг.: мат-лы Междунар. науч. конф. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 213—220.
- Руднева Е. Г. Избранные статьи о творчестве И. С. Шмелёва: к 25-летию Алуштинского музея писателя И. С. Шмелёва. М.: МАКС Пресс, 2018. 204 с.
- Руднева Е. Г. О проблемах современного шмелёвоведения // Проблемы исторической памяти и творчество И. С. Шмелёва. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2021. С. 171—177.
- Солнцева Н. М. Иван Сергеевич Шмелёв: аспекты творчества. М.: Кругъ, 2006. 256 с.
- Сорокина О. Московиана: жизнь и творчество Ивана Шмелёва. М.: Московский рабочий, 2000. 408 с.
- Спиридонова Л. А. «Светлое царство русское» — миф или реальность? // И. С. Шмелёв и литературный процесс XX—XXI вв.: итоги, проблемы, перспективы. X Крымские Международные Шмелёвские чтения. М.: Рос. фонд культуры, 2004. С. 3—10.
- Федотов Г. П. Борьба за искусство // Вопросы литературы. 1990. № 2. С. 214—220.
- Хализев В. Е. Ценностные ориентации русской классики. М.: Гнозис, 2005. 432 с.
- Шешунова С. В. Образ мира в романе И. С. Шмелёва «Няня из Москвы». Дубна: Междунар. ун-т природы, о-ва и человека «Дубна», 2002. 99 с.
- Шешунова С. В. Национальный образ мира в русской литературе (П. И. Мельников-Печерский, И. С. Шмелёв, А. И. Солженицын): дис. … д-ра филол. наук. Дубна, 2006. 368 с.
- Шешунова С. В. Национальный образ мира и межкультурная коммуникация в творчестве И. С. Шмелёва. М.: ЛЕНАНД, 2017. 200 с.