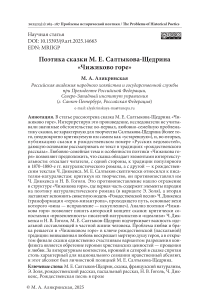Поэтика сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Чижиково горе»
Автор: Алякринская М.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Чижиково горе». Интерпретируя это произведение, исследователи не учитывали значимые обстоятельства: во-первых, любовно-семейную проблематику сказки, не характерную для творчества Салтыкова-Щедрина (более того, неоднократно критикуемую им самим как «устаревшую»); и, во-вторых, публикацию сказки в рождественском номере «Русских ведомостей», дающую основание рассматривать ее текст в традициях «рождественского рассказа». Любовно-семейная тема и особенности поэтики «Чижикова горя» позволяют предположить, что сказка обладает элементами интертекстуальности: «отсылает» читателя, с одной стороны, к традиции популярного в 1870-1880-е гг. натуралистического романа, а с другой - к рождественским текстам Ч. Диккенса. М. Е. Салтыков скептически относился к писателям-натуралистам: критикуя их творчество, он противопоставлял им Ч. Диккенса и Н. В. Гоголя. Это противопоставление нашло отражение в структуре «Чижикова горя», где первая часть содержит элементы пародии на поэтику натуралистического романа (в варианте Э. Золя), а вторая заставляет вспомнить сюжетную модель «Рождественской песни» Ч. Диккенса (трансформация «героя-мизантропа», проходящего путь, основные вехи которого «вина - исправление - искупление»). Анализ поэтики «Чижикова горя» позволяет понять авторский концепт сказки: критически сопоставляя «приземленность» писателей-натуралистов и «идеализм» Ч. Диккенса и Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыков-Щедрин подчеркивает важность идеальной составляющей в частной жизни человека. Проблема любви и брака решается в «Чижиковом горе» в ключе рождественской (пасхальной) традиции: возвышенная любовь воскрешает «мертвую» душу героя, а в открытом финале сказки единственно «счастливым» вариантом разрешения конфликта является обретение героями христианских ценностей - прощения и любви. За литературным контекстом, иронией и сатирой в сказке спрятан столь характерный для национального сознания нравственный абсолют, и этот абсолют был личностной позицией М. Е. Салтыкова-Щедрина.
М. е. салтыков-щедрин, сказка, французский натурализм, э. золя, рождественский рассказ, пасхальный рассказ, н. в. гоголь, ч. диккенс, рождественская песнь в прозе
Короткий адрес: https://sciup.org/147247805
IDR: 147247805 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.14663
Текст научной статьи Поэтика сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Чижиково горе»
С казку М. Е. Салтыкова-Щедрина «Чижиково горе», написанную в декабре 1884 г., традиционно рассматривают как сатиру на «буржуазно-дворянскую семью» [Бушмин, Баскаков: 232] — канарейка Прозерпиночка, как принято считать, завершает «в творчестве Салтыкова галерею образов легкомысленных и бездушных "куколок"» [Баскаков: 463]. По мнению С. А. Макашина, сказка непосредственно связана с биографией М. Е. Салтыкова: когда писатель создавал ее, он «думал о "горе" своей семейной жизни» [Макашин: 407].
Поскольку «Чижиково горе» появилось после длительного молчания М. Е. Салтыкова-Щедрина, связанного с закрытием «Отечественных записок», сказка трактовалась как некая «ломка в пределах жанра» [Бушмин, Баскаков: 231], то есть отход от принципов социальной сатиры под давлением цензуры. Сам писатель, раздосадованный доходящими до него негативными отзывами о «Чижиковом горе», поспешил признать сказку неудачной:
«А Феоктистов по поводу "Чижикова горя" говорит, что скучнее и инсипиднее ничего он не знает, даже дочитать не мог. Выходит, что ежели я цензурно пишу, то никуда не гожусь; ежели нецензурно, то меня имеют в виду… Но я чувствую, что два-три "Чижиковых горя" — и репутация моих сказок будет значительно подорвана. Феоктистов, может быть, правду сказал, что партикулярные дела совсем для меня не подходят» [Салтыков-Щедрин; т. 20: 122].
Однако отсутствие острого социального критицизма — не основание считать произведение художественно слабым, и сегодня существует необходимость непредвзятого, аутентичного прочтения «Чижикова горя», тем более что при интерпретации сказки исследователи до сих пор не учитывали ряда обстоятельств.
Во-первых, сказка была опубликована 25 декабря 1884 г., в самый праздник Рождества. Оговаривая возможную публикацию, М. Е. Салтыков писал редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому:
«Но, разумеется, ежели Вы <…> выпустите особый Рождественский №, то можно и всю сказку целиком напечатать» [Салтыков-Щедрин; т. 20: 113].
И хотя сюжетное время в «Чижиковом горе» не отнесено непосредственно к Рождеству или Святкам1, сама дата выхода в свет позволяет причислить сказку к так называемым рождественским историям — текстам, обладающим набором характерных мотивов, среди которых выделяется мотив чуда как «явления необыкновенного, неординарного, резко нарушающего привычное, будничное течение жизни и меняющего жизнь человека в лучшую сторону» [Душечкина: 148].
Во-вторых, «Чижиково горе», написанное на «партикулярную» тему, стало, как представляется, своеобразным экспериментом, о котором сатирик писал Н. К. Михайловскому незадолго до появления сказки:
«Скучно мне до зарезу, и совсем не пишется. Надо новую жилу найти, а не то совсем бросить» [Салтыков-Щедрин; т. 20: 103].
Очевидно, что в качестве авторской «новой жилы» в сказке выступил любовно-семейный сюжет, который писатель, с его теорией общественного романа, ранее неоднократно высмеивал как устаревший2. Логично предположить, что, обращаясь к табуированной прежде тематике любовного романа, М. Е. Салтыков в «Чижиковом горе» воспроизвел его схемы не «всерьез», а отстраненно, используя отчужденное от собственного стиля «чужое слово» .
Оба указанных обстоятельства дают основание рассматривать «Чижиково горе» как сказку с элементами интертекстуальности: сохраняющую, с одной стороны, память о законах рождественского жанра (и художественном мире его «автора» в европейской литературе — Ч. Диккенса), а с другой — включающую в себя (путем пародирования) культурный контекст французского «реалистического» (натуралистического) романа 1870–1880-х гг. Думается, что «литературностью» «Чижикова горя» объясняются сложности интерпретации этого произведения. Задача настоящей статьи — реконструировать авторский концепт сказки, а также попытаться решить вопрос о степени ее автобиографизма.
С самого начала необходимо отметить одну особенность «Чижикова горя»: сказка распадается на «два фельетона», на что указал сам писатель в письме В. М. Соболевскому3. Значимо и то, что части сказки друг другу противоречат, и ввиду этого в настоящей статье, как правило, оговаривается, о каком разделе текста — первом или втором — идет речь.
***
Как уже отмечалось, при рассмотрении «Чижикова горя» исследователи апеллировали прежде всего к образу героини, постулируя тезис, что «в центре сказки — канарейка» [Баскаков: 463]. С этим нельзя согласиться. Поскольку сюжетная линия связана с идеей брака, в центре повествования находятся два персонажа: он и она, чижик и канарейка. При этом сюжет относительно небольшой сказки можно, при желании, представить как романный: здесь есть рассказ о жизни героев до встречи и их взаимоотношениях до брака, о мучительных для чижика шести месяцах супружества, во многом «за кадром» остается повествование (оно дано лишь намеками) о страсти героини (канарейки) к не названному в тексте, но подразумеваемому «третьему» («улану»), о ее разрыве с мужем, о его метаниях и страданиях — наконец, о ее возвращении в семью после полугодового отсутствия и дальнейшей совместной жизни. Перечисленные сюжетные мотивы (брак по расчету, адюльтер, возвращение к нелюбимому мужу) напоминают романы второй половины XIX в. — от «Мадам Бовари» Г. Флобера до «Анны Карениной» Л. Н. Толстого — и, думается, это не случайно. Сказка, как уже упоминалось, не могла не быть некой «отсылкой» к любовному тексту времени, а текстом этим был в первую очередь французский натуралистический роман, обсуждавшийся в 1870–1880-е гг. на страницах российских журналов.
Характерными чертами натуралистического романа (в варианте Э. Золя), как отмечают исследователи, был «физиологический подход к обрисовке поведения персонажей», «научность как отказ от авторских оценок» [Клеман: 47, 61], «статичность» и «дескриптивность», «отстраненность автора, слабый сюжет» [Вихорева: 43]. Сам Золя разъяснял, что в новом направлении «создание произведения сводится всего лишь к отбору сцен, к определенному их сочетанию и соответствующему развитию действия» [Золя: 438]. М. Е. Салтыков-Щедрин, включивший в цикл «За рубежом» пародию на натуралистический роман, указывал на сосредоточенность этой разновидности жанра на «подробностях», «не имеющих ничего общего ни с предметом повествования, ни с его обстановкой <…> ни для чего не нужных, ничего не характеризующих и даже не любопытных самих по себе» [Салтыков-Щедрин; т. 14: 155].
Элементы поэтики натуралистического романа: дескриптив-ность, статичность и «подробности» — можно обнаружить в «Чижиковом горе». Дескриптивность здесь преобладает над нарративом4: текст начинается с описания свадьбы как ключевого события, затем даны развернутые « интимные истории » молодых, далее следует рассказ о героях в период помолвки : потерявшем голову чижике и невесте, которая делалась «все развязнее и развязнее» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 122]; фиксация событий брачной ночи (в которую чижик оказывается несостоятельным супругом из-за провокации «братцев» невесты и их приятелей), за этим следует часть, обозначенная как « майорский мартиролог », с описанием легкомысленного поведения супруги-канарейки, завершающаяся ее исчезновением из дома; далее — рассказ о страданиях чижика и — наконец — пора жающий лако низмом событийный финал:
«И вдруг, в один теплый майский вечер, она (здесь и далее в цитате курсив М. Е. Салтыкова-Щедрина. — М. А .) воротилась. Воротилась худая, больная, истрепанная и как будто не в себе. <…> Насилу чижик ее узнал.
— Вот и я пришла! — сказала она.
— Живи! — ответил ей чижик.
Только и разговору промеж них было» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 130].
Описания гасят фабульность сказки, порождая иллюзию «романа без действия», который и выдвигал Золя в качестве образца нового искусства: «События романа развертываются день за днем, и писатель повествует о них спокойно, не прибегая ни к каким неожиданностям, <…> и когда вы заканчиваете роман, то вам кажется, что вы просто возвращаетесь после прогулки по улице к себе домой» [Золя: 438–439]. «Затормаживанию» действия способствует обилие «подробностей». «Чижи-ково горе» «перегружено» персонажами, большинство из которых только упоминаются: ученый снегирь, зяблик, соловей, ястреб, глухой тетерев, ворона-вещунья, кукушка, синичка, горихвостка, пеночка, трясогузка, павлин-губернатор, дрозд-ростовщик, чечеточка-девушка для прислуг, хищная сова, вдова-перепелочка , «кровожадный бурундук», «аблакат Балалайкин», гимназисты, уланы-юнкера, «родители», «дочки», кузина мамаши-канарейки и ее дочка Милочка с мужем, «интендантские писаря» — и это не считая лиц, которых с большим или меньшим успехом можно отнести к участникам действия.
Нарочито подробно, «научно» описана в сказке «среда»: портрет канарейки дополняется характеристикой всего ее семейства: «папаши», «мамаши», сестры «Галочки» и двух братьев — старшего (юнкера уланского полка) и младшего (гимназиста), причем о последних сообщаются малозначащие детали — о нежелании гимназиста изучать греческий язык или о том, что юнкер «никак не мог сдать экзамен из Закона Божия» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 120] и т. д. Обращает внимание и физиологическая окраска в обрисовке персонажей. Чижик любит рассуждать на низменные, «плотские» темы: о том, что он «природную слабость в свое время в совершенстве вы-полнил-с»; что «излишеств допускать не следует, но в препорцию отчего же себе удовольствие не предоставить!»; а «удовольствие» «дорогого не стоит: спою песню — вот и прав-с!» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 118]. Даже желание жениться герой объясняет биологически:
«Что такое бессемейный чиж? <…> медицинский термин, и больше ничего-с!» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 118–119].
О героине автор также сообщает натуралистические «подробности»: еще до знакомства с чижиком она «под предлогом уроков пения, к соловью летала, а потом будто бы жировое яичко снесла» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 123].
Тем не менее, пародийно воспроизводя художественные приемы «психологов»5, Салтыков не отказывался в «Чижиковом горе» от права писателя «вводить за собой читателя всюду» [Салтыков-Щедрин; т. 9: 439] и от самого понятия идеала.
***
Вообще у Салтыкова были сложные отношения с натурализмом: первоначально позитивно относившийся к «французским реалистам», особенно к Золя, сатирик, прочитав роман братьев Гонкур «Манетт Соломон», возненавидел литературу нового направления. Резко отзываясь о «психологах» в письме П. В. Анненкову [Салтыков-Щедрин; т. 18, кн. 2: 233–234], Салтыков противопоставлял им Диккенса; позже, в письме И. Д. Гальперину-Каминскому [Салтыков-Щедрин; т. 20: 390] — Гоголя, и неудивительно, что отсылки к этим авторам мы также встречаем в «Чижиковом горе».
Что касается Гоголя, то о нем напоминает первая часть сказки, написанная в традициях «гоголевской школы». Особенно это касается характеристики главного героя, образ которого соотносим с целым рядом персонажей русской литературы. Вначале о чижике говорится как о малом, имеющем такие «характеристические особенности», как «неприхотливость, аккуратность и домовитость» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 117], что вызывает в памяти образ Молчалина, существующего под «сению» уме ренности и ак куратности, на которой «зиждется человеческое
Поэтика сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Чижиково горе» 173 благополучие» [Салтыков-Щедрин; т. 12: 9]. С Молчалиным чижика роднит и такая особенность речи, как употребление постфикса с («словоерса»), сопровождающая речевой портрет героя всю первую половину сказки. Но аккуратности и домовитости не был лишен и Павел Иванович Чичиков, и чижик в целом ряде черт ассоциируется также с этим гоголевским персонажем. Чичикова он напоминает похожестью на «приятное и опрятное общее место» [Белый: 88], родом занятий (в рукописном варианте сказки чижик, как и Чичиков, служил по таможенному ведомству), наличием «копилки» («шкатулки»), состояние которой герой сказки «от природы имел потребность» знать во всякое время «в точности» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 127] и предпринимательской жилкой — чижик, как и гоголевский герой, склонен «попользоваться» от казенного пирога, он «скопил капиталец» «нелицеприятными действиями» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 117].
В целом биография чижика, рассказанная в первой половине сказки, рисует его типичным чиновником, «майором», сосредоточенным на собственном благополучии и образовавшем «ум и сердце» в интендантском ведомстве. В Крымскую кампанию герой «для лошадей сено со всячинкой заготовлял» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 122], поступая подобно описанным М. Е. Салтыковым-Щедриным подрядчикам, которые в «горькую годину» в жизни страны находили возможным поставлять ополченцам «сапоги с картонными подметками, <…> снабжали солдат кремневыми ружьями, в которых, вместо кремня, была вставлена выкрашенная чурочка, и т. д.», но «сами себя не считали злодеями», ибо действовали «простодушно» [Салтыков-Щедрин; т. 11: 434–435]. Так же «простодушен» и чижик: идеалы его не идут далее утопии «семейного очага», воплощенной в символах самовара, халата и двуспальной кровати; его культурный уровень ограничен интендантскими анекдотами и рассказами игривого содержания:
«Когда я в интендантском ведомстве служил, так одна трясогу-зочка была-с. Ну, такая, доложу вам, — отдай всё, да и мало! И тоже на первых порах: "Хи-хи" да "ха-ха!" Я ей говорю: "Познакомимтесь, мамзель!", а она: "Ах, нет, вы противный!" <…> Туда-сюда… настиг-с! И что же-с: впоследствии даже хвалила!» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 118].
Помимо литературных ассоциаций, с чижиком первой части сказки связан мотив куклы, появляющийся буквально с первых строк:
«Канарейку за чижика замуж выдали и свадьбу на славу справили. В магазине "Забава и дело" купили новенькую кирку …» (курсив мой. — М. А .) [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 116].
Салтыков всегда иносказателен, поэтому вместо православной церкви у него лютеранская кирка, где венчали новобрачных, но если кирка игрушечная, приобретенная в магазине «Забава и дело», то, следовательно, и все, что происходит в сказке за этим, происходит как бы в декорациях театра кукол, а загадочный «покупатель кирки» не кто иной, как сказочник, который в прологе расставляет фигуры, чтобы начать действо.
Напомню, что мотив куклы В. В. Гиппиус характеризовал как мотив «омертвения или механизации» [Гиппиус: 303]. В плане механизации сам образ чижа (птицы) ассоциировался у автора сказки с повторяющейся бесцельной работой: тасканием игрушечного ведерка — этому фокусу обучали понятливых чижей российские умельцы6. Еще в 1864 г. Салтыков использовал образ «таскания ведерка» для характеристики деятельности публицистов «Эпохи», которая представлялась сатирику бессмысленной:
«Вы напоминаете тех ученых чижиков, которые из крохотных колодчиков вытаскивают миниатюрненькие ведёрки с водой, вытаскивают и опять погружают, и опять вытаскивают … » [Сал тыков-Щедр ин; т. 6: 521].
Кроме того, мотив куклы проявляется подчеркиванием автоматизма жестов героя:
«Ах, как вы уморительно ножкой шаркаете! Шаркните еще, еще… вот так! Ха-ха!» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 121]7.
В «Чижиковом горе» мотив куклы исследователи традиционно связывали с канарейкой, хотя Салтыков, щедрый на употребление слова «куколка» в отношении героинь своих циклов, Прозерпиночку так не именует: «куклой бесчувственной» называет жену чижик; автором же для обрисовки ее характера использовано слово «канарейка». Прозерпиночка — воспитанница своей матери, которая «как смолоду канарейкой была, так и под старость канарейкой осталась»:
«Прыгала с жердочки на жердочку, высматривала, нет ли где кавалеров, и с благодарностью вспоминала, как она, будучи предводительшею, писаные пряники ела, а павлин-губернатор, завидев ее, хвост распускал» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 119].
Во многих чертах канарейка схожа с представительницами типа «женщин-куколок» у сатирика: она так же, как Ольга Персианова («Господа ташкентцы») или Натали Неугодова («Круглый год»), «выкормлена» в «специально устроенном садке» [Салтыков-Щедрин; т. 10: 82]; так же склонна порхать по жизни, любыми способами вытягивая деньги из ближних, чтобы тратить их на себя и свои удовольствия, и так же отличается полной неспособностью к эмпатии.
Итак, в первой половине сказки, судя по описанию героев, и чижик, и Прозерпиночка — больше куклы, чем «люди», и, как куклы, несмотря на кажущиеся различия, имеют немало общих черт. Главнейшая из них — отсутствие «чувств» и, соответственно, идеализма, восприятие мира исключительно в его прагматике. Брак для героев — не что иное, как деловая сделка; в этом смысле показателен их первый разговор до свадьбы, когда «родители с намерением оставили их вдвоем» [Сал тыков-Щедри н; т. 16, кн. 1: 121]:
«— Вы скупой? — спросила его Прозерпиночка.
— Я не скуп, а бережлив-с, — ответил чижик. — Я так полагаю: зачем деньги зря бросать, коли можно своими средствами обойтись? Но для вас, чтобы вам удовольствие сделать, я и бережливость свою готов оставить-с. <…>
— <…> Что же вы дома едите? гадость какую-нибудь?
— Сам я ем пищу, Богом предназначенную. Простую, но здоровую. А для вас я канареечное семя предоставлю-с.
— Ах, нет, я салат больше люблю!
— И салатцу достать не диковинка-с. Слетаю утречком в огород и нащиплю по секрету-с. Другому бы это больших денег стоило, а я для вас и задаром спроворю!
— Ну, а какой же вы мне подарок сделаете? Недавно вот из Парижа новые фасоны манжеток прислали… подарите-ка! а?
— С превеликим моим удовольствием-с. Сегодня же пауку закажу, чтобы завтра чуть свет были готовы.
— Да, но ведь такие манжетки дороги…
— Не извольте беспокоиться-с! Придет ко мне ужо паук за деньгами, а я его съем-с. Вот мы и будем квиты.
— Ха-ха! какой вы уморительный!» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 121–122].
***
Казалось бы, характеры чижика и канарейки, обрисованные так определенно, должны, как и положено по законам реализма, быть психологически выдержанными, но проблема в том, что оба героя в первой части сказки совсем не похожи на самих себя во второй, с ними (особенно с чижиком) происходят существенные метаморфозы. Чижик, способный первоначально лишь анекдоты да пошлые истории рассказывать, после свадьбы вдруг начинает изъясняться высоким стилем и даже цитировать П. Корнеля. Меняется и авторская интонация, благодаря которой из сатирического модуса герой перемещается чуть ли не в элегический и, наряду со скупым, недалеким, вороватым и пошло-циническим «чижиком первым», в сказке парадоксальным образом возникает тонко чувствующий лирико-роман тический «чи жик второй»8:
Чижик до свадьбы («чижик первый») «В наружности его <…> не замечалось ничего обольстительного или блестящего; напротив, вся его фигура поражала несомненною будничностью и заурядностью (здесь и далее в цитате курсив мой. — М. А. ) Даже воробьи смеялись, как он, желая сказать девице комплимент, потряхивал фалдочками и пущал глаза враскос. Да и комплименты выходили у него неинтересные: либо интендантский анекдот расскажет, либо похвастается, что, как бы дешево ни просил с него извозчик, он ему всегда пятачком меньше дает, а ежели время терпит, то и пешком дойдет. — И вот, благодарение Богу, — обыкновенно заканчивал он, — не только себя могу прокормить, но и семью-с.
Родителям такие речи очень нравились, и они так усердно ловили его в свои силки, что однажды чуть было совсем не удавили. Но дочки-девицы называли его " интендантскою холерою " и при появлении его мгновенно разлетались, хотя маменьки и приказывали им: "Рестё!"» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 117–118]
Чижик после свадьбы («чижик второй») «Хорошо ему было! дивно! Теплая ночь благоухала; звезды в темной синеве неба, как алмазы, играли; а он, чижик, весь горел! Восторг катился по жилам его, дивный, опьяняющий восторг! Не то петь ему хотелось, не то рыдать, но в то же время какая-то чуткая деликатность заставляла его сдерживать свои порывы» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 123].
«Между тем наступила осень; птицы усиленно захлопотали около гнезд; он один ничего не предпринимал, не решаясь, лететь ли на теплые воды, или остаться на родине. Полились дожди, задули холодные ветры; роща обнажилась и тоскливо шумела; ночи сделались долгие, темные. А он целые ночи напролет, голодный и холодный, просиживал, не смыкаючи очей, у входа своего неухиченного дупла и ждал» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 128]
Аналогичные изменения (хотя и не столь радикальные) происходят с канарейкой. Несмотря на то, что героиню сказки многое роднит с типом «женщин-куколок», между нею и ими есть существенная разница. Мир кукол у Салтыков-Щедрина — это мертвое царство, где «все в какой-то отупелой безнадежности застыло и онемело» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 95], поэтому все героини-«куколки» статичны, они «куколки» «на сколько угодно лет» [Салтыков-Щедрин; т. 13: 484]. Прозерпи-ночка же, пережив адюльтер, приведший к потере статуса и денег, меняется: чижик с трудом узнает красавицу-канарейку в дрожащей «не то от холода, не то от стыда» супруге [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 130].
Трансформацию, происходящую с героями, можно объяснить двояко: законами рождественской сказки, первооткрывателем которой в европейских литературах во многом стал Ч. Диккенс, и полемикой сатирика с «психологами» (натуралистами), противопоставлявшими себя писателям-«идеалистам» (хотя оба эти фактора, по сути, взаимосвязаны). Диккенс в «рождественских повестях» был великим идеалистом, рассказывая о чуде нравственного подвига и нравственного перерождения человека. И во второй части «Чижикова горя» совершается аналогичное диккенсовскому9 чудо перерождения (а точнее, рождения): чижик и канарейка, эти куклы, эти «мертвые души», чудесным образом оживают. Чижик оживляется любовью (причем, ввиду отсутствия супружеских отношений, любовью чисто платонической), а канарейка — стыдом. Что-то вроде стыда испытывает и чижик, впервые после бегства жены вспоминающий о многочисленных холостяцких интригах:
«…Например, трясогузочка-с. <…> Жениться бы ему на ней, а он, вместо того, с шестерыми ребятами ее бросил! Или опять: заехал он раз к перепелочке-вдове, которая постоялый двор при дороге держала и просом да гречневой крупой поторговывала. <…> И тут бы ему жениться следовало, а он пообещал — и был таков!» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 128].
Поэтика сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Чижиково горе» 179 И если «чижик первый» гордился подобными победами, то «чижик второй» отвергает саму мысль о них:
«Не о трясогузках и перепелках он должен думать — нет, не о них! Отныне ему предстоит одно: изнывать от боли и ждать. Ждать свою бесценную желтенькую барышню, свою Богом данную жену!» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 129].
Повторяющийся в сказке мотив «Богом данной жены» свидетельствует о том, что авторская концепция связана не только с любовью, но и с идеей христианского брака — таинства, символически уподобляемого союзу Христа и Церкви и имеющего целью в том числе духовное возвышение супругов. И хотя отношения «молодых» описаны в сказке с большой долей иро-нии10, нельзя отрицать, что герой на протяжении развертывания сюжета все больше проявляет способность к христианской любви, которая «долготерпит» и «все переносит»: он и смешон, и трагичен, уговаривая «открыться» ему как «отцу» или «брату» исчезающую по ночам супругу.
Исследователи творчества Диккенса указывают на связь «Рождественской песни в прозе» с библейскими темами, сюжетами и образами [Михновец], полагая, что христианская тема в повести дает основание рассматривать ее как аллегорию христианской концепции искупления. М. Бондаренко одной из основных моделей диккенсовского рождественского сюжета видит модель трансформации «героя-мизантропа», основные вехи пути которого «вина — исправление — искупление» [Бондаренко: 14]. Тема «искупления» звучит и в «Чижиковом горе». Неслучайно в сказке появляется определение «майорский мартиролог» — в результате нравственных страданий герой лишается внешних статусных атрибутов, символически «обнажается»: от «аккуратно застегнутого, чистенького и сытенького чижика не осталось и следа; даже шпоры — и те неизвестно куда девались» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 130].
Светлого диккенсовского оптимизма у Салтыкова нет, вслед за «оживлением» и «искуплением» «воскрешения» героев не происходит. Сказка завершается открытым финалом: чижик и канарейка либо «ждут чуда, которое растворит их сердца и наполнит их ликованиями прощения и любви» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 130], либо «сознают себя окончательно раздавленными и угрюмо ропщут», обвиняя друг друга в жизненном крахе [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 130]. Советское литературоведение полагало, что второй вариант, как более реалистичный, является единственно верным, и, соответственно, трактовало «Чижиково горе» как «очень грустную сказку» [Макашин: 407]. Однако амбивалентность концовки предполагает «самостоятельный выбор рецептивной позиции» [Агра-тин]. Кроме того, возможность «прощения и любви» изначально заложена в произведении законами рождественского жанра. Более того, рождественская повесть-сказка Диккенса, как известно, на русской почве трансформировалась в пасхальный рассказ, призванный «напомнить читателю евангельские истины» и связанный с «праздниками всего Пасхального цикла от Великого поста до Троицы и Духова дня» [Захаров: 256]. Знаменательно, что сюжетное действие в «Чижиковом горе», длящееся около года, завершается в «теплом мае», весна же в древнерусской богословской традиции (в «Слове преп. Кирилла Туровского на вторую неделю по Пасхе») аллегорически соотносится «с верой Христовой, крещением возрождающей человеческую природу» (цит. по: [Завельская: 134]). И весенний — пасхальный — контекст также указывает на «ликования прощения и любви» как возможный (пусть даже в идеале) духовный путь героев.
Исследователи творчества Диккенса (см., напр.: [Корзина]) обращают внимание на жанровые особенности «Рождественской песни в прозе», представляющей собой святочный гимн (Christmas Carol) и повесть одновременно. У Салтыкова в «Чижиковом горе» тоже как бы совмещены два жанра: роман и сказка. И если «прозаическая» концовка коррелирует с романом в его натуралистическом приземленном варианте, то вторая — оптимистичная — соответствует сказочному началу, являясь, как и у Диккенса, авторским символом веры, вносящим в финал «Чижикова горя» ощутимую долю оптимизма.
***
Последний вопрос: имеет ли сказка автобиографическое звучание? Представляется, что ввиду ее «литературности» неправомерно проводить прямые параллели между героями и реальными людьми (например, между канарейкой и Елизаветой Аполлоновной11), однако более сложные соответствия между сказкой и биографией писателя, возможно, существуют. Сказка уникальна тем, что являет собой редкий в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина текст, где он высказался на тему любви (ибо был, как сказано в «Круглом годе» устами автобиографического героя, «тоже не чужд соловьев и роз» [Салтыков-Щедрин; т. 13: 468]) и сделал это характерным для своей поэтики способом: через аллегорию.
Здесь надо обратить внимание на необычное — знаковосимволическое — имя героини: Прозерпина (Персефона). Это имя, согласно «Реальному словарю классических древностей», издаваемому в одно время с появлением сказки, принадлежит «грозной повелительнице теней», владычествующей над душами умерших [Любкер: 1011]; в мистериях Деметры Прозерпина (Персефона) являлась «символом бессмертия души» — хлебного зерна, которое, «будучи опущено в мрак земли, вырастает для новой жизни» [Любкер: 1012]. Мифологический образ прозрачно поясняет аллегорию сказки: Прозерпиночка получает власть над «мертвой» душой героя, но, утаскивая эту душу в загробный мир (символический «ад»), она одновременно способствует прорастанию в ней ростков новой жизни.
Символика «Чижикова горя» отчасти приоткрывает тайну противоречивого, по мнению ряда биографов, отношения
М. Е. Салтыкова к жене12. Надо заметить, что советские исследователи (да и современники писателя) исходили из стереотипа жены как «соратницы». Так, С. А. Макашин с неудовольствием писал, что Елизавета Аполлоновна была лишена «каких-либо идейных устремлений», принадлежала к типу «безыдейной, сексуальной и всецело погруженной в "мелочи жизни" женственности» [Макашин: 406]. Действительно, известно, что некоторые качества супруги раздражали Михаила Евграфовича, но он (лучше многих своих поклонников) понимал, что любят все-таки не за «идейные устремления». Представляется, в «Чижиковом горе» есть единственное место, соотносимое с биографией автора: М. Е. Салтыков, несомненно, имел в виду не чижика первой части сказки (душевно черствого и недалекого), а себя, заметив, что накануне свадьбы «он очень многое и очень тонко понимал. Но в то же время он ясно видел, что попался и что судьба его решена бесповоротно и навсегда. Почему навсегда? — он не мог себе дать в этом отчета, а только одно твердил: "Бесповоротно! навсегда!"» [Салтыков-Щедрин; т. 16, кн. 1: 123].
***
Таким образом, «Чижиково горе» — сложная сказка, в которой за многочисленными литературными контекстами высказаны взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина на проблему любви и брака. Рассматривая тему семьи, сатирик пародийно сопоставляет художественные концепции и взгляды натуралистов и «идеалистов», откровенно становясь на точку зрения последних. Л. Полонский писал, что Диккенс в «Рождественской песне» поставил лицом к лицу мир «грез, упований, веры в доброе, потребности в идеале» с «типом жесточайшего эгоизма, холодного расчета, <…> полного отрицания всякого идеала и всякой нужды в идеале вообще» [Полонский: 371]. В принципе, то же самое сделал и Салтыков-Щедрин в своей рождественской сказке, где, как и у Диккенса, жизненный прагматизм и эгоизм
Поэтика сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Чижиково горе» 183 героев становится причиной их безотрадного существования, из которого возможен единственный выход: в мир христианских ценностей. У Салтыкова, безусловно, больше, чем у Диккенса, прозаичности во взгляде на мир, но обоих писателей можно отнести к категории «идеалистов»: «поэтической вене» в творчестве Диккенса [Полонский: 372] соответствует постоянная потребность Салтыкова вознести сердце горé (sursum corda).
Неудивительно, что авторская концепция любви и брака в «Чижиковом горе» близка христианской традиции; за иронией и сатирой в сказке спрятан столь характерный для национального сознания нравственный абсолют. И, несомненно, этот абсолют отличал также и личностную позицию писателя, исповедовавшего, несмотря на пугавшую современников суровость и резкость, веру в любовь «навсегда».