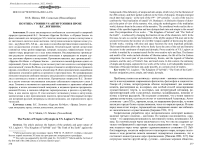Поэтика утопии vs антиутопии в прозе В.С. Логинова
Автор: Шатин Юрий Васильевич, Силантьев Игорь Витальевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются особенности эстетической и жанровой природы произведений В.С. Логинова «Царство Ял-Мал» и «Правда Земли» на фоне ключевой для литературы XX столетия дихотомии утопии и антиутопии и их частичного синтеза в виде дистопии. Антиутопия возникла гораздо позже утопии - на рубеже XIX-XX вв. - как один из способов противостояния «окончательного осуществления утопии» (Н. Бердяев). Отличительной чертой антиутопии становится точка зрения нарратора, который, пользуясь мифологемами тоталитарного мира, разрушает их в ходе повествования. Рассматриваемые произведения реализуют отношения указанной оппозиции и превращают во втором случае дистопию обратно в антиутопию. Противопоставление двух произведений -«Царство Ял-Мала» и «Правда Земли» - достигается сменой функции одного из персонажей, Гриля. В первом случае он выступает как носитель и интерпретатор идиллической утопии Ял-Мала, а во втором становится изобретателем страшного оружия, способного уничтожить земной шар. В обоих произведениях важнейшим принципом становится работа со временем и пространством. Их трансформация позволяет писателю свободно покидать зону реального и погружать действующих лиц в континуум утопии и антиутопии. Прозаическое творчество В.С. Логинова в целом отмечено постоянными поисками собственного творческого стиля и лица. Тематика и мотивика его произведений охватывает и зарисовки сибирской природы, и жизнь дальневосточной эмиграции, и недавнее прошлое предреволюционной России, и сказания сибирских первопроходцев, и рассказ о судьбе Врубеля, и еще многое другое. В этом контексте антиномия утопии и антиутопии, запечатленная в двух произведениях писателя, представляет бесспорный интерес для историков русской литературы и, вполне возможно, для определенного круга читателей.
В.с. логинов, «царство ял-мал», «правда земли», русская эмиграция, проза, утопия, антиутопия, дистопия
Короткий адрес: https://sciup.org/149141267
IDR: 149141267 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-276
Текст научной статьи Поэтика утопии vs антиутопии в прозе В.С. Логинова
Проблема утопии и ее антипода - антиутопии - занимает значительное место в исследованиях современных филологов, философов и социологов. Говоря об утопии, литературоведы обычно подчеркивают два смежных аспекта, рассматривая ее, во-первых, как особый способ моделирования художественного текста, и, во-вторых, как литературный метажанр, репрезентирующий себя в различных видовых модификациях, начиная от поэмы и кончая рассказом. Не подлежит сомнению, что утопия намного древнее антиутопии, если вести отсчет от платоновской Атлантиды. Антиутопия же - дитя XX в., времени, когда, по выражению философа, «утопии выглядят гораздо более осуществимыми, чем в это верили прежде. И ныне перед нами стоит вопрос, терзающий нас совершенно иначе: как избежать их окончательного осуществления» [Бердяев 1924, 121].
Теоретическая разработка двух антиномических категорий выявило наличие третьего понятия - дистопии. По мнению исследователя, «дистопия - это жанровая разновидность негативной утопии, возникшая в XX веке. Ее отличительная черта заключается в том, что она не содержит детально изображенной структуры псевдо совершенного мира - его описание подается через точку зрения «драматизованного сознания» (П. Лаббок) нарратора, носителя мифологем тоталитарного мира, которые постепенно в ходе развития сюжета начинают подвергаться сомнению, что и составляет концептуальное ядро произведения» [Павлова 2004, 247]. Как остроумно заметил другой автор, «утопия - идеально хорошее общество,
дистопия - идеально плохое, и антиутопия где-то посередине» [Геворкян 1989, 11].
В нашей статье речь пойдет о двух произведениях В.С. Логинова «Царство Ял-Мал» и «Правда Земли», реализующих данную связку и превращающих во втором случае дистопию в антиутопию. Логинов не принадлежал к числу известных литераторов дальневосточной ветви русского литературного зарубежья. Да и после его смерти в 1945 г. (по другим источникам, в 1946 г.) труды писателя остались невостребованными. Тем не менее он хоть и ненамного, но все же хронологически опередил находки таких мастеров антиутопии, как Евгений Замятин с его знаменитым романом «Мы». Это лишний раз показывает, что предощущение глобального миромоделирования и жанровых сдвигов в литературе далеко не всегда определяются мерой дарования и популярностью первопроходцев.
В.С. Логинов был в основном автором небольших рассказов с замедленным темпом повествования, избыточной детализацией, иногда тяготеющих к миниатюре или притче. На этом фоне повесть «Царство Ял-Мал» отличается как по объему, так и по композиции. Построение произведения представляет собой развернутое письмо, адресованное некоей даме, написанное месяц спустя после возвращения из путешествия в неведомую страну. В свою очередь письмо включает дневник, фиксирующий наиболее значимые моменты путешествия. Таким образом, писатель синтезирует почти весь набор жанров риторической прозы от первого лица: письмо, дневник, воспоминание, травелог.
Началу путешествия предшествует рассказ инженера Крезо о неведомой стране, где у большого озера стоит дворец - Белый дом, «из какого-то белого, как снег, камня». Утопическим миром правит великая героиня. Она «женщина ослепительной красоты, и слова ее подобны звону серебряных колоколов. Белые смеющиеся веселые люди окружают Ее. Целые табуны оленей к ее услугам, по озеру плавают лодки, которые движутся с помощью таинственной силы, так как на них нет ни весел, ни парусов» [Логинов 2013, 70].
Место таинственной страны - центр полуострова Ял-Мал - выбрано далеко не случайно, поскольку четко соотнесено с топосом Сибири, весьма значимым в системе сибирского текста как особого ментального образования. Как верно отметила в своей работе ТА. Богумил, «Сибирь и Русский Север оказались территорией, подходящей для размещения утопии в силу периферийности положения по отношению к максимально освоенному центру страны (Москва / Петербург). Неведомое, трудно достижимое, “чужое” всегда наделено мощным семантическим потенциалом» [Богумил 2020, 67].
Синтез жанров риторической прозы, спроецированный на экзотику сибирского текста, обусловил специфику организации художественного времени и пространства «Царства Ял-Мала». Начало повести четко фиксирует внешнее время, расположенное за границами времени путешествия, как дань некоему образцу, соответствующее определенному эпистолярному этикету. «Я пишу Вам через месяц после своего путешествия. До сих пор я еще не успел отдохнуть и привести в порядок спутанные мысли <...> Не осуждайте меня строго, если я что-то не доскажу в этом письме, это весьма возможно, т.к. всех мелочей не запомнишь, хотя моя профессия и обязывает меня их запомнить» [Логинов 2013, 69].
Далее идет рассказ об обеде у инженера Крезо и его рассказ о царстве Ял-Мала, являющийся вставным эпизодом в письме и одновременно художественным предварением, своеобразным форгешихте, открывающим дневник путешествия, который и занимает большую часть повествования. Как и положено, дневник четко фиксирует время начала путешествия и прибытия в конечную точку - 27 декабря и 2 марта. Хотя год путешествия нигде не оговаривается, легко догадаться, что 29 февраля приходится на 1920, поскольку еще идет Гражданская война, а сам мотив путешествия весьма символически напоминает картину бегства из ада. Логинов достаточно искусно управляет движением времени путешествия, во-первых, благодаря тому, что в промежутке между 12 января и 29 февраля даты отсутствуют, что позволяют играть движением рассказа с максимальной концентрацией событий первых двух недель и более свободной компоновкой во второй части пути. Во-вторых, часть дневника оказывается утерянной и не подлежащей восстановлению, прием, хорошо знакомый по повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», который и позволяет читателю домысливать недостающие части. В-третьих, в повести ничего не говорится об обратном пути, делающем сюжет еще более загадочным.
Подобная игра времен позволила Логинову решить ряд художественных задач. Прежде всего - противопоставить «реальное» пространство героя «в маленьком сибирском городишке, где я жил вместе с горсточкой интеллигентов, убежавших сюда от бурь революции». Само путешествие тем самым оказывается перемещением из реального пространства «здесь» и «сейчас» в утопическое «царство Ял-Мала», о чем прямо говорит Крезо: «Здесь, в маленьком городишке, мы прислушиваемся к далекому грохоту кровавой анархии и с часу на час ждем, когда эта волна докатится до нас и сметет нас с лица земли. Жить стало невозможно» [Логинов 2013, 71].
В повествовании Логинов проводит четкую границу перехода из реального в мифологическое пространство, приходящуюся на 8 января, когда путешественники встречают Хозяина тайги, внезапно появившегося и столь же внезапно исчезнувшего. С этого момента явственно реализуется известная схема, связанная с обрядом инициации: отлучка - испытание -лиминация - преображение. Кульминационной точкой лиминации становится гибель Крезо, а преображение ситуации связывается с появлением летчика - авиатора Тарсина, который сначала спасает путешественников, а затем на летательном аппарате доставляет их на Ял-Мал. «Сидя на нарах в уютном охотничьем домике, прихлебывая горячий чай и следя за веселыми языками огня в чувале, мы слушали Тарсина» [Логинов 2013, 81].
К числу несомненных художественных удач «Царства Ял-Мала» следует отнести искусное наращивание темпа повествования по мере пере-

хода от документальных зарисовок к последовательной мифологизации, открывающей путь в утопию таинственного полуострова. Так, в начале путешествия сохраняются зарисовки, вызывающие вполне реальные исторические ассоциации: «В Пелыме. Это знаменитое историческое местечко, куда когда-то были сосланы Бирон и Миних и предполагался быть отравленным Пугачев, представляет сейчас из себя жалкую груду бревенчатых построек» [Логинов 2013, 73]. Однако, как уже было отмечено, линейное время, начиная с 8 января, сменяется мифологией панхронического времени.
Важным моментом погружения в мифологию становятся предсмертные рассуждения Крезо о природе времени. «Вы слышите, как проходит время? Медленно. Ровными, четкими, но неслышными шагами. Когда я начинаю думать о времени, я делаюсь пустым и прозрачным, как стеклянная колба <...> Я отдаюсь всецело созерцанию идущего времени... Идущего времени. И время, его мучительный шаг создали они, чтобы помешать нам найти Ее царство» [Логинов 2013, 76].
Таким образом, для перехода в идеальное утопическое пространство требуется уничтожение пределов линейного времени, которое в свою очередь требует сакральной жертвы, которой и оказывается инженер Крезо. «Вдруг раздался звучный голос Крезо: “Прими это сердце”. Слова эти совпали с револьверным выстрелом. Тело Крезо, развернувшись вперед, повисло на тонких сучьях березы. Гибкая вершина наклонилась, треснула, и Крезо, как подстреленная птица, ломая сучья, полетел вниз» [Логинов 2013,79].
Преодолев все невзгоды испытаний и очутившись на пороге гибели, путники, благодаря волшебному помощнику авиатору Тарсину, оказываются в царстве Ял-Мала. Достигнув заветной цели, путешественники сливаются с миром жителей и знакомятся с председателем «Судебно-законо-дательной Палаты» Грилем, который сыграет главную роль в антиутопии «Правда Земли». Но здесь «резко черченный профиль Гриля, бритое лицо, спокойно-бесстрастное выражение которого подчеркивалось резкими точными словами, красивыми движениями тела, облаченного в белые одежды - все это делало его похожим на римлянина» [Логинов 2013, 85].
Герой посещает своеобразный парламент Ял-Мала, о порядках и приоритетах которого ему рассказывает Гриль. Вызывает интерес идеологическая составляющая утопии, согласно которой в центре политического устройства царства находятся интересы и ценности человека как социального индивидуума и личности, а не усредненного общества. В этом автор открыто полемизирует с набиравшим обороты вульгарным марксизмом. Сама же политическая конструкция Ял-Мала образно напоминает устройство британской конституционной монархии, и это сходство увеличивается тождеством верховной фигуры британской королевы и «Ея», царицы Ял-Мала. Вместе с тем политическое устройство царства очевидно утопично, о чем говорит совмещение в его парламенте функций законодательной и судебной власти. Экономическую основу благосостояния и поли- тического совершенства системы идеального царства составляет, как сообщает герой, найденный «Ею» источник вечной, неиссякаемой энергии, под которым определенно угадывается энергия атомного распада. Нужно отметить, что автор «Ял-Мала» был очень хорошо осведомлен о современных ему физических теориях. История героя остается открытой - ему предоставлено право остаться и быть полноправным членом сообщества Ял-Мала или вернуться обратно.
Следует отметить, что весь сюжетный энергетический потенциал фактически исчерпывается к моменту прибытия героев в царство Ял-Мала. Переход от травелога к содержанию утопии сводит развитие действия к нулю, а финал оказывается не лишенным определенных литературных шаблонов. «“Она” встала, красный отблеск зари упал на ее лицо, и бриллиант на шапочке превратился в ало сверкающий рубин. Я поклонился и вышел» [Логинов 2013, 92].
В отличие от «Царства Ял-Мала» с многочисленными поворотами сюжета, вводными эпизодами и зарисовками северной природы, фабула «Правды Земли» организована достаточно просто и включает в себя три эпизода. Путник Браун случайно обнаруживает башню и просит хозяина дать ему немного еды и ночлег. Хозяином башни оказывается горбун, изобретатель Гриль, создавший машину уничтожения человеческого рода, Гриль рассчитывает сделать Брауна своим помощником, но тот связывает его и отправляет на Марс, спасая таким образом человечество от гибели. Такой ход событий не является оригинальным и напоминает некоторые научно-фантастические экзерсисы прозы 1920-х гг, вроде «Гиперболоида инженера Гарина» А.Н. Толстого.
Однако повествовательный интерес «Правды Земли» заключен в ином. В центре произведения не столько механика изобретения и попытка захватить мир, став его властелином, сколько кардинальный смысл перевернутой утопии и превращение ее в антиутопию, а затем в дистопию уничтожения человеческого как слишком человеческого, если воспользоваться выражением Ф. Ницше. Это приведет к перемещению героя в сверхчеловеческое, расположенное где-то на Марсе. «Я создал эту пушку, чтобы уничтожить человечество. Когда я сделаю это дело, я заберусь в этот огромный снаряд, диск моей пушки завращается с ужасающей быстротой, и в этом снаряде полечу на Марс» [Логинов 1929, 301].
При этом сама идея уничтожения человечества получает в устах героя философское обоснование как мотив бескорыстия абсолютного зла. Человек слишком слаб, мелок и недостоин существования на Земле. Жизнь человека - это самооправдание собственной ничтожности посредством Лжи с большой буквы. «Христос, Будда и Магомет знали, что такое человек -мерзейшее из всех животных... И они этой мерзости преподнесли учение любви, всепрощения, мужественности, добродетели... а гнусное человечество приняло это, как должное? Что это - насмешка? Нет, это просто ложь - царица всего земного шара» [Логинов 1929, 297].
Идеи, излагаемые Грилем, далеко не оригинальны, тем более герой
сам озвучивает литературный источник своих размышлений - рассказ Леонида Андреева «Савва». Художественная логика «Правды Земли» получает полновесный смысл лишь при отсылке к своему дублету - «Царству Ял-Мал». Совпадение имени Гриль в обоих случаях не только не случайно, но целиком направлено на реализацию антитезы утопии и антиутопии. Если в первом произведении Гриль являет собой идеал римского атлета, то в «Правде Земли» он отталкивает своим внешним видом: «.. .маленькое сгорбленное существо. Скрежещущий голос вполне подходил к этой уродливой фигуре горбуна, зеленоватым злым глазам, морщинистому огромному лбу» [Логинов 1929, 292].
Антитезу двух произведений можно обнаружить и в организации художественного пространства двух текстов. Утопия Ял-Мала предполагает открытое пространство, символизирующее, как и в любой другой утопии, идеал счастья и свободы обитателей царства. В антиутопии пространство носит замкнутый характер в виде башни с винтовой лестницей, дистопий-ной по отношению к внешнему миру, тесной комнатке с маленькой кухней. При этом сам выход из башни с расположенной наверху стальной клеткой полностью подготавливает эффект дистопии, связанный с уничтожением людского рода.
В то же время нельзя не отметить известный схематизм «Правды Земли», где отсутствует широкая детализация и постоянно присутствующий широкий фон, спасающий от схематизма. Здесь же голый каркас конструкции постоянно намекает на притчевый характер повествования. В «Правде Земли» сталкиваются два принципа, символизирующих добро и зло, каждый из которых доводится до абсолюта, лишаясь вместе с тем диалектики, свойственной более крупным создателям антиутопий. Перед тем как расправиться с Грилем, Браун излагает ему жизненное кредо и в ходе своего страстного монолога отчасти воскрешает утопический идеал Ял-Мала. «Я глубоко верю в будущее людей. Я люблю людей, как себя, как всю бурную, прекрасную, нелепую, страшную и увлекательную жизнь <.. .> почти планетарный экстаз быть вождем масс, повелителем, ведущим людей к великим достижениям» [Логинов 1929, 299-300].
Подобный схематизм, далекий от проникновения в глубины человеческого духа в произведениях Толстого и Достоевского, весьма напоминает художественную манеру старших современников Логинова - Леонида Андреева и Максима Горького периода рубежа веков. Стремясь определенным образом преодолеть искусственный характер повествования, Логинов обрамляет повествование лирической миниатюрой, вводя мотив праздника Воскресения Христа. «Люди давно научились жить по новому стилю, каждый культ справлял свои праздники по-новому, обязательному для всех календарю. Все, чтившие Христа, в мае месяце ожидали Его Воскресения, когда целую неделю радостно и торжественно гудят колокола, люди при встрече целуются и дарят друг другу подарки» [Логинов 1929, 291]. И в финале - когда в момент расправы над Грилем «грянул пасхальный благовест» [Логинов 1929, 305].
При обращении к творчеству Василия Степановича Логинова, прежде всего к его прозе, удивляет пестрота тем и мотивов, охватывающая и зарисовки сибирской природы, и жизнь дальневосточной эмиграции, и недавнее прошлое предреволюционной России, и сказания сибирских первопроходцев, и рассказ о судьбе Врубеля, и еще многое другое. Такая пестрота свидетельствует о постоянном и небезуспешном поиске своего творческого лица. Несмотря на то что подобная задача не была до конца выполнена, эти поиски оставили заметный след в литературе данного региона и данного периода. В этом контексте антиномия утопии и антиутопии, запечатленная в двух произведениях писателя, представляет бесспорный интерес для историков русской литературы и, вполне возможно, для определенного круга читателей.
Список литературы Поэтика утопии vs антиутопии в прозе В.С. Логинова
- Бердяев Н.А. Новое Средневековье. Берлин: Обелиск, 1924. 142 с.
- Богумил Т.А. Сибирь как антиутопия в дилогии А.В. Рубанова "Хлорофилия" и "Живая Земля" // Сибирский филологический форум. 2020. № 4(12). С. 64-74.
- Геворкян Э. Чем вымощена дорога в ад? Антипредисловие // Антиутопии ХХ века. М.: Книжная палата, 1989. С. 5-12.
- Логинов В.С. Правда Земли // Логинов В.С. Ял-Мал. Харбин: Бамбуковая Роща, 1929. 307 с.
- Логинов В.С. Царство Ял-Мал // Литература русского Зарубежья. Восточная ветвь. Проза. Т. 1. Ч. 2. Благовещенск: Издательство АмГУ, 2013. С. 69-92.
- Павлова О.А. Метаморфозы литературной утопии: теоретический аспект. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2004. 471 с.