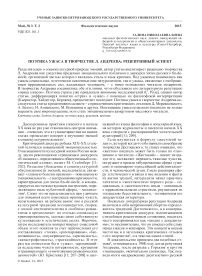Поэтика ужаса в творчестве Л. Андреева: рецептивный аспект
Автор: Боева Галина Николаевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 3 (148) т.2, 2015 года.
Бесплатный доступ
Разделяя идею о социокультурной природе эмоций, автор статьи анализирует рецепцию творчества Л. Андреева как следствие предельно эмоционального публичного дискурса эпохи русского fin-de-siecle, органичной частью которого являлись стиль и язык критики. Под ужасами понимались как ужасы социальные, эстетически освоенные еще натурализмом, так и ужасы, связанные с изображением иррациональных сил, владеющих человеком, - с ними познакомил читателя модернизм. В творчестве Андреева соединились обе эти линии, что и обусловило его литературную репутацию «певца ужасов». Поэтика страха уже привлекала внимание исследователей (С. Роле), однако автор статьи, дифференцируя понятия «страх» и «ужас» с помощью их философской интерпретации (Кьеркегор, Хайдеггер, Бердяев), предпочитает последнее. Поэтика ужаса в творчестве Андреева исследуется в статье в рецептивном аспекте - с привлечением критических откликов Д. Мережковского, А. Белого, И. Анненского, М. Волошина и других. Воплощение ужаса позволило писателю не только выразить свое мироощущение, но и стать эмоциональным камертоном массового читателя.
Леонид андреев, поэтика ужаса, рецепция, критика
Короткий адрес: https://sciup.org/14750882
IDR: 14750882 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Поэтика ужаса в творчестве Л. Андреева: рецептивный аспект
Дискурсивные практики ужасного в начале ХХ века не раз уже становились центром внимания – очевидно, что в гуманитаристике на наших глазах происходит поворот к изучению эмоций в социокультурном аспекте1.
Критический дискурс рубежа ХIХ–ХХ столетий отличался повышенной эмоциональностью. О насыщенности культурной жизни России между двумя революциями «тревожным дискурсом об эмоциях», определявшим общественный и политический климат, пишет М. Стейнберг [11; 202]. Разделяя убеждение в социокультурной обусловленности эмоций, исследователь связывает «главную болезнь времени» – повышенную эмоциональность – с настроениями кризисности, характерными для эпохи fin-de-siecle, и концентрируется на господствующем настроении, определяющем язык публичной сферы, – меланхо-лии2. Слово это не представляется нам удачным для описания всего комплекса мрачных чувств, испытываемых на рубеже веков: оно в русской культурной традиции ассоциируется, скорее, с эпохой сентиментализма и особенно романтизма и предполагает не столько социальную травмированность, сколько свою собственную культивацию в эстетических целях. Впрочем, затем исследователь конкретизирует смысловой объем этого понятия за счет перечисления его составляющих: «тоска», «разочарование», «беспочвенность», «неуверенность», «кризисность», «катастрофичность», «трагедийность». В этот ряд мы поместили бы и «ужас», зародившийся вследствие чувств потерянности, крушения и травмирующего «уничтожения символических ценностей» (Ю. Кристева) [11; 207–208] и шаг
нувший из языка философии в популярный язык, на котором журналисты и писатели начала ХХ века говорили с расширившейся читательской аудиторией [11; 209].
Если вдуматься в формулу «жестокий талант», которой когда-то обозначили своеобразие творчества Достоевского, то станет очевидно, что «жесток» писатель может быть только по отношению к читателю. «Жестокий» – значит не щадит его, заставляет пережить тяжелые чувства, погружает в прежде табуированные сферы «ужасов» и «кошмаров» и российской действительности, и человеческой души. Cмело расширяя сферу эстетического и вводя в нее явления и факты из жизни трущоб, натурализм начал приучать читателя к «жестокостям» первого рода – социальным, к «жестокостям» иным – связанным с иррациональными страстями, рвущимися из «подвалов» бессознательного, – познакомила его декадентская литература.
Поскольку литературная репутация Андреева включала в себя непременный обертон «продолжатель традиций Достоевского», а в консервативном критическом дискурсе, подпитываемом стихийным рецептивным сознанием, писатель часто воспринимался как «заодно с декадентами», то неудивительно, что он снискал себе славу певца ужасов и кошмаров. Эти концепты весьма частотны и в заголовках критических отзывов о его творчестве3, и в текстах самих статей.
В доказательство приведем два подобных от-зыва4, относящихся к 1908 году, когда репутация Андреева, после разрыва с Горьким и кругом «знаньевцев», окончательно сложилась. Так, подводя итоги «андреевскому десятилетию» русской литературы – с 1898 по 1908 год, – критик Вс. Ча-говец в качестве одного из важнейших «фокусов» творчества писателя называет «ужас смерти»5. Заметим попутно, что два других «фокуса», отмеченные критиком: «пиршество зверей» (социальное зло) и «он и она» (иррациональность чувств), – подтверждают нашу мысль о «двусоставном» содержании андреевских «ужасов». Другой критик, Д. Мережковский, выражает сомнение в художественности творчества Андреева именно вследствие того, что писатель не преображает «уродство, ужас, хаос» жизни, а растворяется в них6. Как видим, и лояльно настроенный критик, и не одобряющий андреевских писаний фиксируют один и тот же нерв его творчества – склонность к изображению ужасов. Напомним, что и знаменитый отзыв Л. Толстого об Андрееве: «он пугает – а мне не страшно», растиражированный затем в сотнях иных публикаций, – высвечивает именно эту характерную нацеленность всего, выходящего из-под пера писателя, – «пугать» читателя.
Действительно, творчество Андреева представляет собой тематизацию и фигурацию различных видов аффекта, в том числе – и едва ли не больше остальных – ужаса. Анализ мотива ужаса у Андреева в связи с философией экзистенциализма предпринят Е. С. Петрушковой, выделившей в его прозе «страх жизни» и «страх смерти» [9]. Предлагаем взять несколько иное основание для анализа и взглянуть на творчество писателя как тематизацию двух ужасов, о которых уже было сказано выше: социального (социальное расслоение, уродующая личность бедность – темы, которым писатель отдал дань преимущественно в ранних произведениях, таких как «Петька на даче» (1899), «Ангелочек» (1899), «В подвале» (1901)), и метафизического, проистекающего от богооставленности человека, одиночества среди себе подобных, столкновения его с могущественными силами инстинктов, бессознательного, иррационального («Большой шлем» (1899), «Смех» (1901), «Ложь» (1901), «Город» (1902), «В тумане» (1902), «Жизнь Василия Фивейского» (1903) и многие другие).
Примечательно, что рассказ «Бездна» (1901), вызвавший шумиху в прессе и прославивший имя начинающего писателя, как будто сконцентрировал в себе два ужаса, проистекающих из социальной деформации человека (босячество) и за-чарованности героя бездной слепых инстинктов. Причем первый из них окажется лишь «частным случаем», прелюдией к истинному, коренящемуся в самой человеческой природе, а потому неистребимому и особенно страшному7. «Ужасом» называют герои пьесы «Екатерина Ивановна» (1913) рационально необъяснимую метаморфозу, превращающую добродетельную жену и мать в духовно мертвую развратницу, источающую соблазн и стремящуюся к смерти. Наконец, через все творчество Андреева проходит в самых разных вариациях ужас смерти, крайним воплощением которого стал «ужас бесконечного» – то чувство, которое внушает людям Елеазар (в одноименном рассказе 1906 года), побывавший за гранью жизни и познавший скрытое от смертных.
Заметим, что, согласно таблице частотного распределения лексем, отражающей лексико-статистическую структуру текстов андреевских рассказов, слова «страх» и «ужас» относятся к числу излюбленных автором: они употребляются соответственно 141 и 133 раза, и столь же частотны производные от них [13; 201, 214, 234].
Творчество Андреева уже становилось объектом исследования с точки зрения воплощения в нем «поэтики страха» [10]. Однако дифференциация понятий «страх» и «ужас», столь близких в русском языке, нуждается в некотором обосновании, поскольку разграничение этих словоупотреблений весьма проблематично8.
Обратимся к философской трактовке понятий «страх» и «ужас». Рассуждая об ужасе и страхе в контексте трагического, В. Кантор пишет: «Трагический герой был связан как с Божественным началом, так и с одной из сторон “устойчивого жизненного содержания”» (Гегель) [7; 144–146], – в мире же, где эта вертикаль исчезает, человек начинает испытывать ужас, как хронически испытывает его герой Ф. Кафки, современника Андреева, моделировавшего в своих произведениях эту ситуацию богооставленности. С. Кьеркегор (кстати, любимый философ Кафки) замечает, что страх порождается столкновением человека с Ничто [8; 143]. Несмотря на близость понятий «аngest» («страх») у Кьеркегора и Хайдеггера, у датского мыслителя оно, скорее, понятие психологическое, а не онтологическое: в переводах Хайдеггера на русский язык, отмечает Кантор, данное слово чаще переводится именно как «ужас» [7; 145]. Примечательно, что этот лексический нюанс был отрефлектирован другим философом-экзистенциалистом, уже русским – Н. А. Бердяевым: «Страх лежит в основе жизни этого мира. <…> Если говорить глубже, по-русски нужно сказать – ужас» [3; 390]. Наконец, Хайдеггер, делая «ужас» одним из основных понятий своей философии, поясняет: «Ужасу присущ какой-то оцепенелый покой. Хотя ужас это всегда ужас перед чем-то, но не перед этой вот конкретной вещью. <…> И неопределенность того, перед чем и от чего берет нас ужас, есть не просто недостаток определенности, а принципиальная невозможность что бы то ни было определить» [12; 21].
Итак, если употреблять понятие «ужас» в онтологическом, бытийственном смысле, то для него характерна неопределенность. Полагаем, что, когда С. Роле описывает чувства, внушаемые Андреевым читателю: «Создается тупой, беспричинный, неопределенный страх. Нет объективных факторов, которые вызывают страх, но немотивированный страх все-таки таится где-то в глубине текста» [10; 171], – уместнее было бы вести речь именно об ужасе. Ведь далее исследователь пишет именно о немотивированном чувстве страха (а значит, уместнее назвать его ужасом), которое возбуждается в читателе посредством определенных стилистических приемов, основной из которых – завораживающие лексические повторы (добавим, не только лексические, но и синтаксические). Продолжая эту тему, остановимся преимущественно на ее рецептивном аспекте.
И. Анненский в «Книгах отражений», подразумевающих воспроизведение именно своих читательских отражений прочитанного, своей рецепции, интерпретирует «ужас» и «сострадание», лежащие в основе аристотелевской концепции трагического, как два полюса наших ощущений: «…в ужасе… для человека весь мир сгущен в какой-то призрак, грозящий именно ему. В сострадании как раз наоборот: человек совершенно забывает о своем существовании, чтобы слить свое исстрадавшееся я с тем не-я, которому это страдание грозит» [1; 440]9. «Страх смерти», в котором Анненский усматривает «любимый мотив» современной литературы, неотделим в «Книгах отражений» от ужаса, противополагающего чувствующего человека миру. Вот почему, создавая свои «отражения» созвучных ему текстов, несколько очерков автор посвящает Андрееву, запечатлевшему «душу поэта с ее укором и ужасом» [1; 554]. Заметим, что и сострадание не чуждо Андрееву-писателю – однако преимущественно в ранних произведениях «знаньевского» периода («Баргамот и Гараська» (1898), «На реке» (1900)).
О «жажде ужасного», охватившей Европу на рубеже веков, о «любопытстве к сырым фактам жизни» и тяге ко всякого рода чрезвычайным происшествиям как «наркотикам ужаса» пишет М. Волошин, чья оценка творчества Андреева заслуживает особого внимания [4]. Она прозвучала в 1913 году в контексте громкого дела, связанного с актом вандализма по отношению к картине И. Е. Репина «Иоанн Грозный и его сын 16 ноября 1581 г.». Волошин усмотрел в нападении на картину не просто случай музейного вандализма, а пагубное влияние на зрителя художественной сущности картины – не реалистической, созидающей, а натуралистической, копирующей10. Творчество Андреева для Волошина – следствие засилья натурализма в русской литературе: «Зло, принесенное репинским “Иоанном” за 30 лет, велико. Репин был предтечей и провозвестником всего того, что теперь так пышно разрослось в романы о сыщиках, в театры ужасов и литературу Леонида Андреева» [4; 32]. Размышляя о категории «ужасного» в искусстве, Волошин пишет: «Сочувствие и ужас обессиливающим бременем ложатся на душу зрителя», поскольку «автор не преодолел ужаса, не был сам героем своего произведения, а был лишь безмолвным и жалким свидетелем...» [4; 30]. Следовательно, заключает критик, изображение «ужасного» обязывает художника самому преодолеть ужас, что даст ему «личный страдательный опыт» и предостережет от «ужасающей» натуралистичности [4; 30]11. В сущности, Волошин пишет о неспособности Андреева порождать творения истинно эстетические, вызывать изображением ужасного катарсический эффект.
Напомним: именно о том, что Андреев не преодолевает ужаса, а «растворяется» в нем, пишут и другие критики близкой Волошину эстетической ориентации – Д. Мережковский, А. Белый [2]12.
Читатель начала века заслуживает особого разговора. Н. Рубакин, известный специалист по народному чтению, осмысливая в 1912 году многочисленные письма читателей13, констатирует «внутренний ужас» восприятия жизни подавляющим большинством читателей.
Поскольку в культуре модерна само нарушение нормы расценивается как эстетический факт – наиболее успешными становятся писательские стратегии, выстраиваемые как намеренно скандальные, сенсационные («фурорные», если прибегнуть к эпитету того времени) [5]. И здесь, конечно, Андрееву, виртуозно игравшему на парадоксах читательского восприятия и жажде ужасного, не было равных. Либерализи-руя культурные нормы и пересматривая эстетические критерии, он принципиально держал курс на введение в литературу прежде табуированных тем, ужасающих своей новизной (вопросы пола, привлекшие внимание к «Бездне» и «В тумане» (1902), сделали его чуть ли не главным объектом дискуссии о «порнографии» в современной беллетристике); на поиски нетривиальных и парадоксальных решений как в сфере содержания (библейские темы, больные проблемы современности, «бездны» бессознательного, «пограничные» состояния и др.), так и в сфере выражения (постоянное балансирование на границе между традиционной реалистической эстетикой и художественными новациями) [6; 15].
Актуальность тематики и проблематики андреевского творчества, свежесть реакции на события и настроения российской жизни – еще одна причина успеха у современного читателя. Очень многие произведения Андреева были навеяны отличавшейся особой остротой социально-политической жизни общества (русско-японской войной, революциями, актами террора, применением смертной казни и пр.) – кровавыми, ужасными событиями, находившимися в центре внимания читателя и настоятельно нуждавшимися в осмыслении. Андреев был, по образному выражению одного критика, эмоциональным камертоном, скрепляющим «кирпичи жизни» «кровью своего сердца».
Ужасные сюжеты и настроения Андреева черпались из жизни, а затем, после трансляции их читателю, часто становились руководством к действию. Чуковский, автор статьи о суициде в современной российской словесности14, в воспоминаниях об Андрееве пишет, не без доли иронии, что в 1907–1910 годах тот стал «вождем и апостолом уходящих из жизни», обладателем целой коллекции предсмертных записок, адресованных ему самоубийцами15. Впрочем, иногда трудно провести грань между искусством и действительностью: в одной из одесских газет с изображением Андреевым ужасов жизни связывается уже не самоубийство, а убийство «из жалости» студентом Московского университета Ф. Кипарисовым своего больного брата Сергея16. Видимо, неслучайно подобные поступки, еще морально не артикулированные в общественном сознании (то, что сейчас составляет проблему эвтаназии), связывались с провокативным, на- целенным на «болевые точки» современности творчеством Андреева17.
Как видим, Л. Андреев действительно «пугал» своего читателя, и, в отличие от Толстого, неуязвимого для ужасов вследствие силы своей веры, читателю действительно «было страшно». Поэтика ужаса, реализованная в творчестве Андреева, позволила писателю не только выразить свое мироощущение, но и cтать эмоциональным камертоном массового читателя. Писатель разделял ужас со своим читателем, и это давало повод некоторым критикам, не учитывающим перемену мировоззренческих и эстетических ориентиров нового искусства, смело пересекающего границы с жизнью, отказывать Андрееву в подлинном художестве. Восприятие писателя современниками как певца ужаса жизни было адекватно духу времени эпохи российского fin-de-siecle.
Список литературы Поэтика ужаса в творчестве Л. Андреева: рецептивный аспект
- Анненский И. Ф. Книги отражений//Анненский И. Ф. Избранные произведения. Л.: Худож. лит., 1988. С. 374-667.
- Белый А. Второй том//Собрание сочинений. Арабески. Книга статей. Луг зеленый. Книга статей. М.: Республика: Дмитрий Сечин, 2012. С. 363-365.
- Бердяев Н. Диалектика божественного и человеческого. М.: ACT; Харьков: Фолио, 2003. 680 с.
- Волошин М. Лекция «О художественной ценности пострадавшей картины Репина», которая была прочитана как публичная лекция на диспуте в Политехническом музее 12 февраля 1913 года//Волошин М. А. О Репине. М.: Оле-Лукойе, 1913. С. 13-33. Цит. по репринтному изданию: Харьков, 2010. С. 5-33.
- Дубин Б. Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре. М.: НЛО, 2010. 345 с.
- Икитян Л. Н. Художественный эксперимент как творческая стратегия в прозе и драматургии Леонида Андреева: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Симферополь, 2011. 20 с.
- Кантор В. Ужас вместо трагедии (творчество Франца Кафки)//Катарсис: метаморфозы трагического сознания. СПб.: Алетейя, 2007. С. 135-153.
- Кьеркегор С. Понятие страха//Страх и трепет. М.: Республика, 1993. С. 113-248.
- Петрушкова Е. С. Мотив ужаса в прозе Леонида Андреева//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012. № 3 (19). С. 90-98.
- Роле С. Страх в творчестве Леонида Андреева//Семиотика страха: Сб. статей/Сост. Нора Букс и Франсис Конт. М.: Русский институт: «Европа», 2005. С. 168-171.
- Стейнберг М. Меланхолия нового времени: дискурс о социальных эмоциях между двумя революциями//Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций. М.: НЛО, 2010. С. 202-226.
- Хайдеггер М. Что такое метафизика?//Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 16-41.
- Частотный словарь Л. Н. Андреева/Авт.-сост. А. О. Гребенников; Под ред. Г. Я. Мартыненко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. 398 с.