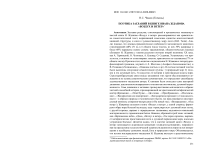Поэтика заглавий в книге Ивана Жданова "Воздух и ветер"
Автор: Чижов Николай Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
Заглавия разделов, стихотворений и прозаических миниатюр в шестой книге И. Жданова «Воздух и ветер» рассматриваются как сравнительно самостоятельный текст, выражающий смысловое единство многосоставной книжной структуры, и ключ к художественному миру поэта (В.И. Тюпа). Анализ показал, что лексико-грамматические особенности заголовочного комплекса стихотворений (48% (51 ед.) от общего числа текстов, из них 30% жанровые и более 60% выражены одним словом; традиционная, общепоэтическая лексика) сближают И. Жданова с такими русскими поэтами второй половины XX века, как А. Тарковский, О. Чухонцев, А. Кушнер, О. Седакова. Установлено, что проза поэта, в отличие от стихотворных текстов, практически не озаглавлена (7% от общего числа). Причина этого видится в подключении И. Жданова к литературно-философской традиции, идущей от Л. Шестова («Апофеоз беспочвенности») и В. Розанова («Уединенное», «Опавшие листья» и др.). В системе заглавий текстов были выделены следующие семантические группы: 1) природный мир; 2) человек и его духовный путь; 3) искусство; 4) история и христианская модель мира. Структурообразующие связи между заглавиями этих групп обусловливаются лежащими в их основе семантическими доминантами, что определяют своеобразие художественного мышления автора. К таковым были отнесены семы векторной динамики, циклического возвращения и статики как постоянства, духовной неразменности. Сема динамики в заглавиях преимущественно воплощается в образах частной и всеобщей истории, спроецированной на христианский метафизический вектор (Крещение» - «Плач Иуды» - «До слова» - «Преображение» - «Восхождение» - «Воскресение или повторение» - «Когда времена проходят»). Сема цикличности - в образах природы и человеческого бытия, где прослеживается мистериальный комплекс умирания-воскресения («На новый год», «Возвращение», «Ода ветру»). Жанровые заглавия в книге «Воздух и ветер», с одной стороны, формируют образ мира большой культуры, куда «транслируется» духовный опыт поэта, с другой стороны, наравне с «природными» заглавиями, наделяются семантикой мистериальности, гармонизации бытия. Наконец, образный строй таких заглавий, как «Неразменное небо», «Дом», «Воздух и ветер», «Где сорок сороков», выражает метафизические представления поэта о духовной первооснове мира, идеально устроенном Космосе. Делается вывод, что в системе заглавий книги «Воздух и ветер» воплощается ждановская концепция «освидетельствования», направленная на преодоление эсхатологической заданности развития истории путем возвращения к всеобщему единению людей, Бога и природного мира. Обосновывается, что истоки мистериального мышления И. Жданова восходят к архетипическому комплексу народной сибирской духовности.
И. жданов, заглавие, мистериальность, история, возвращение, христианская метафизика
Короткий адрес: https://sciup.org/149127434
IDR: 149127434
Текст научной статьи Поэтика заглавий в книге Ивана Жданова "Воздух и ветер"
Книга И. Жданова «Воздух и ветер», опубликованная в 2006 году, объединяет основной корпус стихотворений, прозу и пейзажные фотоработы поэта. С этой шестой книги начинается новый этап в творческой практике И. Жданова, поскольку с 2000-х годов он отходит от активной стихотворной деятельности и переключается на создание книжных макроструктур из ранее созданных текстов. Другими словами, книга как многокомпонентное художественное целое становится основным жанром в творчестве поэта. В соответствии с законами книготворчества перед читателем ставится задача постижения сложного художественного единства книги как авторского мирообраза. Это предполагает, с одной стороны, актуализацию сотворческой интуиции реципиента, позволяющей воспринимать книгу в горизонте целостного высказывания автора, с другой стороны, аналитическое изучение «системы внутренних связей» между отдельными текстами [Мирошникова 2003, 18].
В рамках статьи мы остановимся на исследовании заглавий книги «Воздух и ветер» как элементов композиции. В современном литературоведении принято рассматривать заглавия, объединенные в оглавление книги, в качестве «относительно самостоятельного текста» [Тюпа 2011, 382], воплощающего «в снятом виде темы, проблематику и смысловую структуру целого» [Веселова 1998, 19]. В этом плане система заглавий литературных текстов понимается как ключ к художественному миру автора [Тюпа 2011, 382; Веселова, Орлицкий].
Помимо названий стихотворений и прозаических миниатюр, в заголовочный комплекс книги «Воздух и ветер» входят заглавия разделов, представляющие собой строчку из стихотворений: например, первый раздел озаглавлен как «следи за мной мой первый снег». Вынесение в «сильную» позицию [Фоменко 2006, 36] отдельных стихов (или строк) непосредственно определяется авторским замыслом и является не менее значимым элементом композиции, чем заглавия стихотворений и прозаических миниатюр.
Озаглавленным в книге «Воздух и ветер» является 51 стихотворение, что составляет 48% от общего числа текстов данного рода. Более половины из них (33 ед.) выражены одним словом, конкретным или отвлеченным именем существительным. Оставшаяся часть заглавий представляет собой сочетание двух слов, в редких случаях - трех (18 ед.). Еще один важнейший показатель, характеризующий ждановскую книгу, - 30% (16 ед.) жанровых заглавий, относящихся к основным видам искусства: литература («Поэма дождя», «Баллада», «Письмо»), музыка («Джаз-импровизация», «Концерт», «Собачий вальс»), живопись («Орнамент», «Портрет», «Портрет отца»). Широкий «жанровый» диапазон указывает на синтетическую ориентированность творческих поисков поэта и задает читателю пер- вичные контекстуальные координаты. При этом в большинстве случаев И. Жданов при озаглавливании стихотворений применяет традиционную, общепоэтическую лексику, отсылающую к известным образцам русской классической и неклассической лирики: например, «Стол», «Поезд», «Гроза», «Осень», «Дом», «Пророки», «Зима», «Гора», «Возвращение», «Холмы» и т.д. Такие заглавия, включаясь в ассоциативное поле культуры, нередко обретают статус «скрытой цитаты, аллюзии, не разгаданного читателем намека» [Джанджакова 1979, 208].
Едва ли не единственным выбивающимся из общей тенденции является заглавие «Рапсодия батареи отопительной системы», нетрадиционная образность которого формировалась под влиянием творчества английского поэта-модерниста Томаса Элиота (ср.: «Рапсодия ветреной ночи»), В целом лексический и морфологический строй заглавий книги «Воздух и ветер» указывает на близость И. Жданова к таким мало экспериментирующим в этой области русским поэтам второй половины XX века, как А. Тарковский, О. Чухонцев, А. Кушнер, О. Седакова. К примеру, у последней, согласно подсчетам ГМ. Колеватых, 70% озаглавленных текстов, из них 30% являются жанрообразующими терминами, а 40% состоят из одного слова с традиционной для ЗФК русской поэзии лексикой [Колеватых 2008, 13].
Прозу в книге «Воздух и ветер» поэт практически не озаглавливает: только шесть миниатюр имеют название (7% от общего числа). Причина этого видится в подключении поэта к литературно-философской традиции, у истоков которой стояли Л. Шестов («Апофеоз беспочвенности») и В. Розанов («Уединенное», «Опавшие листья» и др.). Влияние поэтической культуры на формирование данной традиции, восходящей к стихотворениям в прозе И. Тургенева, дневниковым записям, заметкам, афористическим высказываниям крупных писателей XIX века, обосновал Ю.Б. Ор-лицкий. Помимо неозаглавленности текстов, на связь с данной традицией указывают такие структурные признаки ждановской прозы, как
-
а) миниатюрность,
-
б) фрагментарность,
-
в) отсутствие внешней упорядоченности и тематической систематизации,
-
г) «стирание границ между типами широко понимаемой (литература, философия, религия, наука <.. .>) словесности» [Орлицкий 2002, 260].
Кроме того, неозаглавленность прозы И. Жданова можно объяснить описанной Ю.Б. Орлицким тенденцией в русской литературе второй половины XX века: включение прозаических миниатюр в стихотворный контекст книги или журнальной подборки «приводит к тому, что <.. .> тексты, написанные поэтами, начинают, условно говоря, мимикрировать, приспосабливаясь к контексту» [Орлицкий 2002, 260]. Для стихотворных текстов, как известно, заглавие во многом является факультативным компонентом, функцию которого может выполнять занимающая «сильную» позицию в тексте первая строка [Орлицкий 2008, 74].
Переходя к семантике заглавий, прежде всего хотелось бы указать на наличие датировок в скобках после названий разделов. Они выстраивают в книге временной вектор, совпадающий с этапами творческого пути автора. Характерно, что И. Жданов в книгах до и после «Воздух и ветер» никогда не фиксировал время создания стихотворных текстов. В результате этот элемент ЗФК наделяется дополнительным значением в системе кни-готворчества поэта и не сводится только к выражению композиционного упорядочивания текстов (как, например, в собрании сочинений).
Заглавия разделов условно можно разделить на три группы: к первой относятся стихотворные строки, в которых присутствует одна из форм личного местоимения: «следи за мной, мой первый снег (1968)» [Жданов 2006, 12] -«расстоянье между тобой имной - это и есть ты (1986)» [Жданов 2006, 98] - «мы - толпа одного и того же (1997)» [Жданов 2006, 160]. На грамматическом уровне между местоимениями прослеживается динамическая связь в виде последовательного перехода от единичного («я») к всеобщему («мы») через посредничество «ты». С учетом контекста книги «Воздух и ветер» можно предложить следующую интерпретацию обозначенной динамики в заглавиях разделов: в первом разделе речь идет о начале жизненного (творческого) пути лирического «я» и в то же время об осознании им неизбежности утраты первоначального состояния дореф-лексивной цельности (рая), единения с природным миром, воплощенного в виде образа «первого снега». Во втором - о поиске утраченной цельности в единстве с Другим (возлюбленной, самим собой, Богом, природой и т.д.). Наконец, в третьем - о новой ценностной точке зрения субъекта на мир и место в нем человека, «нераздельного и неслиянного» с Другими.
Ко второй группе были отнесены заглавия остальных разделов, кроме четвертого, объединенных семантикой смерти, распада, небытия: 2) «внутри деревьев падает листва (1971)» [Жданов 2006, 26] - 3) «или смерти коснуться и глаз не закрыть (1974)» [Жданов 2006, 46] - 6) «вечность -миг, неспособный воскреснуть давно (1993)» [Жданов 2006, 140]. Инверсивный образ второго заглавия обозначает зиму, время увядания, смерти природы: по мысли поэта - листопад продолжается круглый год, даже в зимнее время, только внутри деревьев. Заглавие третьего раздела - строка из стихотворения «Поезд», где по сюжету происходит разрушение границы между загробным и здешним миром. В этом контексте касание смерти с открытыми глазами прочитывается, с одной стороны, как пребывание по эту и одновременно по ту сторону бытия, а с другой стороны, как возвращение из загробного мира, что подразумевает смерть с последующим воскресением. Миг же в заглавии шестого раздела является метафорической производной от крылатого выражения «тихий ангел пролетел». Возникшая во время разговора пауза в поэтической оптике И. Жданова расширяется до масштаба «кризиса взаимопониманий людей, общества» [Дойти до полного предела], равносильного духовной смерти, невозможности воскресения, сравним: «Прозревай в слепоту и с нечетной ноги воскресай, / догоняя безногих, / по дороге хромой в заповеданный рай, / ставший адом для многих» [Жданов 2006, 141].
Заглавие четвертого раздела - «Море, что зажато в клювах птиц -дождь», - располагаясь в центре оглавлений разделов, синтезирует на образном уровне концептуальные основания, представленные в выделенных нами группах. С одной стороны, через посредничество птицы осуществляется метаболический синтез земного и небесного как искомого обретения цельности, восстановления единства человеческого и божественного миров, сравним: «Верблюда помнят, а разве Царство / в ушке игольном застрять не может, / когда б решилось пойти навстречу? / Запретный плод облечен в лекарство / от тех сомнений, что жизнь итожит, / но где он спрятан, я не отвечу» [Жданов 2006, 145]. С другой стороны, море, чтобы обрести новое бытие в форме дождя, должно пройти через смерть (трансформацию) и воскресение (возвращение) в новом качестве.
Теперь обратимся к системе заглавий стихотворных и прозаических текстов в книге «Воздух и ветер» с учетом выявленных смысловых закономерностей в номинации разделов. Здесь можно выделить следующие «семантические группы» [Тюпа 2011, 386]: 1) природный мир; 2) человек и его духовный путь; 3) искусство; 4) история и христианская картина мира. При этом некоторые из заглавий можно отнести одновременно к двум или нескольким группам. Наиболее частые корреляции отмечаются между второй и четвертой группами, что обусловливается проекцией духовного пути человека в художественном мире И. Жданова на христианский метафизический вектор развития: «Крещение» - «Плач Иуды» - «До слова» -«Преображение» - «Возвращение» - «Восхождение» - «Воскресение или повторение» - «Воскресение или воскрешение».
Христианская система координат в данных заглавиях включает и историю мироздания («До Слова» - «Воскресение или воскрешение» - «Когда времена проходят»), и историю Христа («Крещение» - «Плач Иуды» -«Преображение» <Господне> - «Воскресение»), и историю духовного опыта отдельно взятого человека («Крещение» - «Плач Иуды» - «Преображение» - «Возвращение» - «Восхождение»), Однако несмотря на очевидную связь заглавий с христианской традицией, художественная философия И. Жданова не растворяется в ней, а по-модернистски осваивает в качестве «духовного опыта человечества». О.А. Дашевская одна из первых проанализировала семантику заглавий стихотворных текстов И. Жданова (на материале книги «Неразменное небо») с точки зрения отражения и преломления христианской метафизики [Дашевская 2005, 111-113]. Исследователь фиксирует трансформацию христианского мифа о земном воплощении души в художественном мире И. Жданова, сохраняющего эвристической потенциал в философской и художественной системах Вл. Соловьева: «воскресение (рождение) - преображение (смерть) - возвращение (воскресение)» [Дашевская 2005, 112].
При этом частотный анализ показал высокое использование лексемы «воскресение» в книге «Воздух и ветер» (26 сл.), что является показателем программного интереса поэта к основному догмату христианской веры.
Но, в отличие от книги «Неразменное небо», интенция воскресения во внутреннем мире шестой книги И. Жданова, с одной стороны, раскрывает смысловой потенциал в аспекте метафизической интуиции и историософских построений поэта, но, с другой стороны, наполняясь авторским содержанием, становится эквивалентной ждановской идее возвращения. Другими словами, поэт сохраняет общую историческую динамику в рамках христианской картины мира, неизбежно ведущую к концу времен как необходимого условия Воскресения (см.: «Поезд»), Последнее подчеркивается в заключительном заглавии книги («Когда времена проходят» [Жданов 2006, 168]). В то же время поэт направляет вектор духовного развития человека на возвращение в дом как прообраз всеобщего единения людей. Это приводит к формированию в его художественных текстах индивидуально-авторского мифа (см.: [Чижов 2017, 209-252]).
Нужно подчеркнуть, что возвращение не приравнивается поэтом к повторению, поскольку последнее в сопоставлении с воскресением в одноименном заглавии программной прозаической миниатюры отвергается как ложное: «Но цель повторения - восстановление утраченного времени, воскресение же всегда владеет нерастрачиваемым временем. Потому что повторение - это ревность, а воскресение - любовь» [Жданов 2006, 132]. В результате в системе заглавий книги «Воздух и ветер» воплощается как линейное мировосприятие автора в рамках христианской традиции, предполагающее конечное и эсхатологическое развитие истории, так и идея возвращения к единству людей и мира, ориентированная на преодоление катастрофической предопределенности исторических событий.
В заглавиях «природного ряда» также прослеживается номинация стихотворных текстов, где присутствует динамика, устремленность: «Ода ветру», «Ты, как силой прилива...», «Плыли и мы в берегах...», «Холмы», «Гора». Если в первых трех заглавиях динамизм природной стихии (ветра и воды) открыто выражается, то в последних двух его актуализация возможна за счет ассоциативного сближения с ситуацией восхождения. Отдельно нужно сказать о ветре, поскольку эта ключевая природная стихия в лирике И. Жданова, программно вынесенная в заглавие рассматриваемой книги, является сюжетообразующим звеном многих стихотворений поэта. Ветер в художественном мире автора книги «Воздух и ветер» - разрушительная, инфернальная сила и в то же время искомый элемент мистериаль-ного преображения человека и мира [Чижов 2017, 23 8-253]: «Один стакан, и тот разбит, / со дна Аленушка глядит, / и ветер шепот шевелит. / Мы молча в шепот сходим / и там себя находим» [Жданов 2006, 33].
Помимо семы динамики, в заглавиях группы «Природный мир» наличествует традиционная для данного сегмента сема цикличности, например: «Осень», «Зима», «День». С циклическим ритмом умирания и возрождения живой природы резонирует бытие ждановского человека, осознающего себя частью всеединого мира. В данном ключе следует рассматривать заглавие стихотворения «На новый год», укорененное в традиции русской рождественской поэзии (например, «Новый год» Н. Некрасова,
«На новый 1816 год» Ф. Тютчева, «Рождественский романс» И. Бродского и др.). Лирическое событие текста - мистериальное обновление мира -имеет мифологическую основу, а именно отсылает к годовым (циклическим) ритуалам: наступающий год тигра лирическому субъекту представляется в образе ковчега (мифологической модели мира), разделенного на ярусы-времена года: «Вооруженный четверней сезонов, / сияющих как ярусы ковчега, / всплывает год под шорохом кометы, / бросающей тигриные следы. / И мы вступаем на помост вседневный: / Мы нижний ярус отведем для снега, / Второй засеем, третий даст нам всходы, / А на последнем будем ждать плоды» [Жданов 2006, 100]. В этих стихах поэт утверждает веру в активизацию жизнестроительных потенций человека на основе восстановления мистериального мировосприятия, сочетающего элементы христианской и языческой метафизики.
Среди «природных» заглавий выделяется «Неразменное небо», поскольку содержащиеся в нем компоненты - определение и определяемое слово - несут семантику статики, стабильности, неизменности, постоянства.
В таком же значении используются поэтом заглавия «Дом» и «Где срок сороков», сравним: «Знать бы, в каком краю будет поставлен дом / тот же, каким он был при роковом уходе, / можно было б к нему перенести тайком / то, что растратить нельзя в нежите и свободе» [Жданов 2006, 125]. Обозначенная семантика в «Неразменном небе» подчеркивается фольклорным подтекстом: неразменный рубль или пятак - сказочный атрибут героя, который при любых условиях возвращается в нерастраченном виде к своему владельцу. В результате в ждановской формуле неба актуализируется неразменность небесной твердыни и преодолевается неподвластная человеческому сознанию (метафизическая) «высота», отделяющая мир земной от мира небесного («паренье и дыбу» [Жданов 2006, 113]). Именно люди в рассматриваемом стихотворении, разрушив стену духовной разобщенности, словно демиург, восстанавливают мироздание, где небо является неразменным и «соразмерным» человеку [Жданов, Шатуновский 1997, 32]: «И по мере того как земля, расширяясь у ног, / будет снова цвести пересверками быстрых дорог, / мы увидим, что небо начнёт проявляться и длиться, / как ночной фотоснимок при свете живящей зарницы, - / мы увидим его и поймём, что и это порог» [Жданов 2006, 102]. Нужно отметить, что О.А. Дашевская обосновала возможность интерпретации образа «неразменное небо» как «аналога дома и человеческого всеединства» [Дашевская 2005, 114].
Неразменностью в лирике И. Жданова наделяется еще и воздух - вторая ключевая стихия, представленная, наряду с ветром, в заглавии книги. Данный образ в текстах поэта, в соответствии с мифологической традицией, символизирует духовную основу бытия, животворную энергию природного мира, сообщающуюся с миром души человека, сравним: «Дуновение же, дыхание связаны с принципом жизни, животворящим духом, эманацией (ср. др.-евр. ruah, др.-греч. яхъици, лат. spiritus - слова, обозна-238
чающие как дыхание, так и дух, а также рус. «дух» и «воздух»; ср. также представление о душе - дыхании)» [Мейлах 1980, 241]. Так, в стихотворении «Ода ветру» мистериальное разрушение ветром мироздания описывается через образные параллели в форме рифмы и анафоры, раскрывающие внутреннюю форму лексемы «воздух»: «И воздух рифмами прошит, / и чернота меня слепит / и за собою тянет. / И, ветром каменным полны, / шуршат седые валуны, / мерцают сжиженные сны, /ив них дыханье вянет» [Жданов 2006, 64].
Неслучайно поэт в одном эссе, размышляя об условиях гармонии, утверждает, что возможность явления красоты, мира зависит от существования «вечности, духа» как первоосновы, на которую наброшена «некая парча», что образует форму. И если в наше время эта парча - «гноище, язвище», то в обретении «гармонии ее прообраза», считает поэт, «остается прорвать ее, и если за ней бездна - пройти бездну, иного не остается» [Жданов 2006, 155]. (На модернистский генезис ждановской мифопоэтической модели мира указывает следующее программное высказывание Вл. Соловьева по поводу поэзии Ф. Тютчева: «Наш поэт одинаково чуток к обеим сторонам действительности; он никогда не забывает, что весь этот светлый, дневной облик живой природы, который он так умеет чувствовать и изображать, есть пока лишь «златотканый покров», расцвеченная и позолоченная вершина, а не основа мироздания» [Соловьев 1914, 125]).
В высказывании поэта для нас важна актуализация двух важнейших компонентов, определяющих идейно-тематическое своеобразие его поэтической системы, - первооснова бытия и мистериальная направленность. На наш взгляд, две эти составляющие в образной форме наличествуют в заглавии книги: воздух, учитывая обозначенный выше мифопоэтический подтекст, выступает в качестве неразменной первоосновы, тогда как ветер, являясь хаотической стихией, становится динамическим элементом ми-стериального преображения (обновления) человека и мира. Причем воздух и ветер, подчеркнем, - стихии соприродные, потому что, как было показано выше, дуновение <ветра> коррелирует с дыханием, духом и душой.
Наконец, обратимся к еще одной группе заглавий в книге «Воздух и ветер», которые в большинстве своем являются жанровыми и относятся к различным видам искусства. Около трети заглавий данной семантической группы отсылают к музыкальному искусству: «Контрапункт», «Концерт», «Джаз-импровизация», «Рапсодия отопительной системы», «Собачий вальс». Известно, что поэт в молодости серьезно увлекался классической и неклассической музыкой, изучал поэтику музыкальных произведений [Козлова, Изотова 2017, 31]. Этот интерес проявился не только в характерных заглавиях, но и в просодии стихотворных текстов, воссоздающей ритмическое и мелодическое своеобразие музыкальных композиций (см.: «Джаз-импровизация» и «Рапсодия отопительной системы»).
Другие заглавия относятся к портретной живописи и фотографии («Портрет», «Портрет отца»), декоративно-прикладному искусству («Орнамент»), иконописи («Оранта»), жанровой системе лирики («Поэма до- ждя», «Ода ветру», «Баллада»), системе литературных персонажей («Персонаж», «По поводу Дон-Кихота»), В результате в заголовочном комплексе книги «Воздух и ветер» возникает в некотором роде синтез искусств, отсылающий к творчеству поэтов-модернистов: например, синтезирующее начало музыки в художественном мышлении символистов и синхронное восприятие культурных эпох в поэзии акмеистов.
Нужно отметить, что во многих стихотворениях с жанровыми заглавиями прослеживается мистериальный сюжет. Так, в «Концерте» процесс возникновения поэтического слова как музыкальная импровизация становится мистериальным действием, направленным на преодоление разобщенности (стены разногласия становятся прозрачными) и восстановление утраченного единства между людьми: «Наполни шорохами звук, / верни его в зерно немое - / пускай он выпадет из рук. / И прорастет, усилясь вдвое, / в молчанье брошенный испуг. / А после стены прорастут / своей прозрачностью, и лица / из тьмы появятся. И тут / никто не сможет поручиться, / что стебли нас не обоймут» [Жданов 2006, 52]. Учитывая, что заглавие в художественном творчестве несет повышенную семантическую нагрузку, замещая основной текст и аккумулируя его смысловой потенциал [Кржижановский 1931, 17], можно говорить о мистериальной основе мира искусства, наравне с миром природы, в ЗФК книги «Воздух и ветер». Неслучайно в некоторых заглавиях стихотворений И. Жданова происходит совмещение лексических компонентов, относящихся к семантическим группам «Искусство» и «Природный мир», в частности, в упомянутой выше «Оде ветру» и «Поэме дождя».
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в семантике заглавий книги «Воздух и ветер» воплощается авторская концепция времени и истории. Ее можно описать как синкретическое совмещение линейной направленности в будущее и мистериального возвращения к актуальному прошлому в зоне самосознания человека как всеискупляющего и гармонизирующего настоящего, освященного духовным единением с Другим (человеком, природным миром, Богом). По большому счету И. Жданов в новых культурно-исторических обстоятельствах пытается решить задачу, что стояла перед старшими модернистами (в частности, акмеистами). Эту задачу поэт формулирует следующим образом в предисловии к книге «Диалог-комментарий пятнадцати стихотворений Ивана Жданова»: «стихи - это то, что, не являясь дневником, имеют отношение к освидетельствованию, к нахождению равновесия между частным существованием и общей историей» [Жданов, Шатуновский 1997, 6]. Именно О. Мандельштам и А. Ахматова стремились восстановить «соотносимость истории и человека» путем синхронизации «нравственно-личностной памятью» в актуальном настоящем эстетического опыта предшествующих эпох: «гетерогенные элементы текста, разные тексты, разные жанры (поэзия и проза), творчество и жизнь, все они и судьба» [Левин и др. 1974, 51].
Отсюда дополнительный смысл обретает датировка заглавий разделов в книге «Воздух и ветер» как не столько фиксация времени создания по-240
этом стихотворных и прозаических текстов, сколько актуализация этапов духовного пути частного человека, остро переживающего трагический ход истории XX века. В этом контексте жанровые заглавия, несущие, подобно заглавиям группы «Природный мир», семантику мистериальности, прочитываются еще и как образ мира большой культуры, куда транслируется поэтом духовный опыт по преодолению всеобщей «немоты», бо-гооставленности, разрыва между людьми и эсхатологической заданности развития истории.
Для нас важно, что С.М. Козлова обосновала генезис ждановского понимания времени и истории с точки зрения онтологической философии поэта, «в основе которой древняя аграрная идея кругооборота природы, вечной смены и возвращения духа и материи в их неразложимом единстве», «ощущение народного христианства», идейная основа учения «Платона и неоплатонизма (Плотин, Августин Блаженный, русская философская традиция)» [Козлова, Изотова 2017, 65-67]. Обнаруженные семантические доминанты заглавий выражают архетипический комплекс народной мифологии аграрной Сибири в качестве мистериальной составляющей онтологической философии автора книги «Воздух и ветер». И если в поэзии акмеистов (1910-1920-х гг.) преодоление трагического разделения истории и человека мыслится творческими силами «авторского “Я”», что «оказывается равновеликим культуре, природе, истории» [Левин и др. 1974, 59], то ждановское «освидетельствование» предполагает поиск единства Бога, людей, природного мира с точки зрения актуализации ми-стериальных ресурсов народной сибирской духовности.
Список литературы Поэтика заглавий в книге Ивана Жданова "Воздух и ветер"
- Веселова Н.А. Заглавия литературно-художественного текста: онтология и поэтика: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.06. Тверь, 1998.
- Веселова Н.А., Орлицкий Ю.Б. Заметки о заглавии // Арион. 1998. № 1. URL: http://www.levin.rinet.ru/ABOUT/vesel-orl.htm (дата обращения 20.05.2019).
- Дашевская О.А. Некоторые аспекты метафизики всеединства в книге И. Жданова «Неразменное небо» // Мифотворчество В. Соловьева и «соловьев-ский текст» в поэзии ХХ века. Томск, 2005. С. 116-127.
- Джанджакова Е.В. О поэтике заглавий // Лингвистика и поэтика. М., 1979. С. 207-214.
- Дойти до полного предела. Иван Жданов отвечает на вопросы Дмитрия Бавильского // Топос. 2003. URL: http://www.topos.ru/article/1170 (дата обращения 20.05.2019).
- Жданов И.Ф. Воздух и ветер. Сочинения и фотографии. М., 2006.
- Жданов И., Шатуновский М. Диалог-комментарий пятнадцати стихотворений Ивана Жданова. М., 1997.
- Колеватых Г.М. Заглавие в русской поэзии 1980-1990-х гг.: автореф. дис. ... к. филол. н.:10.01.01. Калуга, 2008.
- Козлова С.М., Изотова Я.П. Иван Жданов: о себе, о нем, о его творчестве // Русская поэзия Сибири XX века: Иван Жданов: монография (Литературные звезды Сибири; вып. 3) / отв. ред. С.А. Комаров. Тюмень, 2017. С. 16-72.
- Кржижановский С. Поэтика заглавия. М., 1931.
- Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Russian Literature. 1974. № 7/8. С. 47-82.
- Мейлах М.Б. Воздух // Мифы народов мира: Энциклопедия: в 2 т. Т. 1. М., 1980. С. 241.
- Мирошникова О.В. Специфика рецепции и анализа лирической книги // Книга как художественное целое: различные аспекты анализа и интерпретации. Филологические штудии - 3. Учебное пособие / отв. ред. О.В. Мирошникова. Омск, 2003. С. 16-22.
- Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе. М., 2002.
- Орлицкий Ю.Б. Заглавие // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 74-75.
- Соловьев В.С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 7. СПб., 1914.
- Тюпа В.И. «Доктор Живаго»: композиция и архитектоника // Вопросы литературы. 2011. № 1. С. 380-410.
- Фоменко И.В. Практическая поэтика: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. М., 2006.
- Чижов Н.С. Поэзия Ивана Жданова: проблемы поэтики // Русская поэзия Сибири XX века: Иван Жданов: монография (Литературные звезды Сибири; вып. 3) / отв. ред. С.А. Комаров. Тюмень, 2017. С. 158-343.