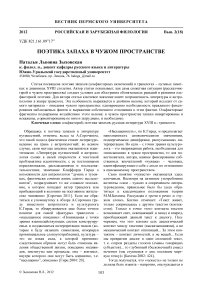Поэтика запаха в чужом пространстве
Автор: Зыховская Наталья Львовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена поэтике запахов (ольфакторных включений) в травелогах - путевых заметках и дневниках XVIII столетия. Автор статьи показывает, как сама сюжетная ситуация (рассказчик-герой в чужом пространстве) создает условия для обострения обонятельных реакций и развития ольфакторной поэтики. Для автора статьи ключевое значение имеет пограничность литературы и антропологии в жанре травелога. Эта особенность выражается в двойном вызове, который исходит от самого материала - описания чужого пространства: одновременно необходимость правдивого фиксирования наблюдаемых фактов и выражение собственного отношения к этим фактам. Ольфакторные фрагменты подвержены воздействию этого вызова: в чужом пространстве запахи инвертированы и искажены, а ориентирование по ним и затруднено, и необходимо.
Ольфакторий, поэтика запахов, русская литература xviii в., травелоги
Короткий адрес: https://sciup.org/14729101
IDR: 14729101 | УДК: 821.161.09"17"
Текст научной статьи Поэтика запаха в чужом пространстве
Обращаясь к поэтике запахов в литературе путешествий, отметим, вслед за А.Сорочаном, что такой подход фактически ставит литературоведение на грань с антропологией; во всяком случае, сами методы анализа оказываются идентичными. «Литература путешествий и антропология схожи в своей открытости к текстовой проблематике идентичности, с ее постоянными перестановками, расхождениями и последовательностями; замечание Клиффорда Гирца о возможности для антропологов “думать о туземцах, фактически сочиняя жизнь самого исследователя”, подразумевает то же сложное положение, в которое попадает автор травелога или прибывающий в колонию на постоянное жительство чиновник» [Сорочан 2011]. Если же обратиться к упомянутому в обзоре А.Сорочана труду известного антрополога и культуролога К.Гирца, то обнаруживается еще более точное понятие для самой «фактуры» травелогов – «насыщенное описание»: «Понимаемая с точки зрения взаимодействующих систем конструируемых и поддающихся интерпретации знаков (которые я буду называть символами, игнорируя провинциальное словоупотребление), культура – это не некая сила, к которой причинноследственным образом могут быть отнесены явления общественной жизни, поведение индивидов, институты или процессы; она – контекст, внутри которого они могут быть адекватно, т.е. “насыщенно”, описаны» [Гирц 2004: 20].
«Насыщенность», по К.Гирцу, и предполагает наполненность символическими значениями, подвергаемыми дешифровке, распутыванию, интерпретации. Но если – с точки зрения культуролога – это напряженная работа, необходимая для «вписывания» в чужое пространство, то для повествователя, автора, важнее фиксирование собственных впечатлений «чужака» – человека, идентифицирующего себя с иным по отношению к описываемому пространством.
Само понятие «чужести» оказывается здесь ключевым. Несмотря на активное употребление антитезы «свое – чужое» в современном литературоведении, правильнее было бы здесь обратиться к классическим положениям теории М.М.Бахтина. Рассуждая о «речи в речи» и «чужом слове», Бахтин отмечает: «Текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад и вперед, приобщающий данный текст к диалогу. Подчеркнем, что этот контакт есть диалогический контакт между текстами (высказываниями), а не механический контакт оппозиций... За этим контактом – контакт личностей, а не вещей... Если мы превратим диалог в один сплошной текст, т. е. сотрем разделы голосов (смены говорящих субъектов)... то глубинный (бесконечный) смысл исчезнет (мы стукнемся о дно, поставим мертвую точку)» [Бахтин 2002: 424].
Тогда получается, что «чужесть» не только не должна быть изжита – напротив, она нуждается в
культивировании и последовательном, многосоставном «отграничении» от повествующего голоса.
Запахи при этом оказываются прекрасным полем для наблюдений за инвариантами «поведения» повествующего путешественника – ведь это запахи чужого пространства. В произведениях прежних веков такого рода одоризмы встречались редко. Но и самих таких текстов было немного. XVIII в. открывает перед русскими огромный мир, и в описаниях этого «чужого» мира обонятельные образы появляются довольно интенсивно.
Можно предположить, что при попадании в чужое пространство активизируется «животное» начало – инстинкт самосохранения «включает» обоняние, помогающее анализировать новое место, чтобы заключить, враждебно (опасно) оно или нет.
Этот любопытный момент «принюхивания» к чужому миру чрезвычайно показателен, например, в «Письмах русского путешественника» Н.М.Карамзина: «Лишь только вышли мы на улицу, я должен был зажать себе нос от дурного запаха: здешние каналы наполнены всякою нечистотою. Для чего бы их не чистить? Неужели нет у берлинцев обоняния? – Д* повел меня через славную Липовую улицу, которая в самом деле прекрасна. В средине посажены аллеи для пеших, а по сторонам мостовая. Чище ли здесь живут, или испарения лип истребляют нечистоту в воздухе, – только в сей улице не чувствовал я никакого неприятного запаха» [Карамзин 1964: 120].
Важно, что герой сознательно старается установить характер запаха чужого пространства. Известное мнение о том, что свой запах человек никогда не замечает, могло бы быть переложено и на ситуацию среды обитания – именно человек со стороны («свежее обоняние») в состоянии определить, что запах дурен или хорош (во всяком случае, нов).
Обратимся к другим травелогам. На излете XVII в. появляется сочинение «Путешествие стольника П.А.Толстого по Европе (1697–1699)», представляющее собой подробнейший отчет о путешествии московского дворянина в жанре путевых записок – как того требовала стратегия Петра I. Ольфакторные включения здесь показывают, что литература путешествий, приближенная к нон-фикшн, провоцирует развитие ольфакторного поля в целом, поиск новых запахов как ориентиров в чуждом пространстве.
Говоря о поездке в Падую, П.А.Толстой замечает: «…видятся те источники горячей воды, якобы в них вода всегда кипела, и бывают от тех горячих вод всегда густые пары, подобны дыму, а имеют те пары дух к обонянию человеческому тяжелой, подобно тому как пахнет нефть горелая или скипидар» [Толстой 1992: 70]. Здесь не только дана характеристика запаха («тяжелый»), но и приведены аналогии, позволяющие уточнить сам характер запаха (возможно, его химическую природу). Можно наблюдать, как старательно и добросовестно автор объясняет свое ольфакторное наблюдение.
В другом случае П.Толстой дает описание обитаемого пространства, ухоженного итальянцами: «…сады и огороды предивные и превеликие построены, в которых много дерев есть розных родов плодовитых, между которыми множественное число виноградов розных родов, белых и красных, и всяких изряднаго обоняния трав и цветов предивных» [там же: 71].
С одной стороны, здесь усматривается традиционный для древнерусской литературы стиль описания «райских кущ», с другой – указание на рукотворность этого рая. Любопытно также, что Толстой использует слово «обоняние» в качестве синонима слову «запах» – хотя только что мы видели более привычное использование этого слова (дух, тяжелый человеческому обонянию). Нет сомнений, что в этот период развития литературного языка авторы стремятся избегать слова «запах», ищут ему подмену, слово «запах» все еще имеет сниженные коннотаты, близко к просторечному. Путешественник в своем травелоге в первую очередь остается повествователем, литератором, а не «рассказчиком», стремящимся представить читателю облегченное сочинение, приближенное по стилю к светской болтовне.
Еще детальнее описан сад в другом месте путевых записок: «Тот ево сад зело велик, построен промеж гор; и зело много в нем дерев лимонных, помаранцовых, аливных, винных ягод, арехов грецких, арехов миндалных, грушевых, сливных, яблоней, шепталы и иных розных родов, каштанов, цукатов, штотов, фиников; также много виноградов розных, белых и красных, и иных фруктов, которые на травах родятся. В том же саду построены огороды изрядные, в которых изрядные благовонные травы и цветы» [там же: 166].
Этот перечень, по-видимому, тоже противопоставлен «скудости» отечественных «кущ», он приводится как пример роскошного сада (отсюда столь добросовестное перечисление всех видов деревьев там); ольфакторное указание включено здесь, скорее, «по инерции», нежели с конкретной целью впечатлить читателя. Однако и «изрядные благовонные травы и цветы», и длинный перечень экзотических для русского человека деревьев и других растений призваны именно
«построить стену» между пространством «чужим» и «своим».
Интересным представляется и включение в текст повествования «ольфакторной легенды»: «И в одном месте на море обонял нас дух великой ентарнаго масла, власно как бы множество ево пролито где было. О том сказывали мне неополитанцы, что в том месте в древние лета был великой город, множество делывали ентарнаго масла; и волею Божиею в древние ж лета тот город и с островом, на котором он стоял, потопило морем; и с того времени и доднесь на том месте обоняется дух ентарнаго масла» [Толстой 1992: 178].
Прежде всего, вводится сам пахнущий объект – «ентарное масло». Комментаторы академического издания не поясняют, о чем идет речь. Однако, скорее всего, «ентарное» (янтарное) масло – это результат сложного по технологии процесса перегонки янтарных смол с последующими добавками разного рода (в том числе и шафрана, придающего маслу янтарный оттенок). Яркий запах этого масла обусловлен добавками ладанной камеди и сандала. Но еще важнее для нас в данном случае сам способ ввода ольфакторной легенды: «обонял нас дух великой». «Обонять» в данном контексте означает «объять», а «дух великой» (означая всего лишь «яркий запах»), тяготеет к выражениям древнерусской литературы о Духе Благом (в «Слове о Законе и Благодати» читаем: «Откуду ти припахну воня Святааго Духа?», что означает «Откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа?» [Библиотека 1997]). Поэтому усилитель «обонял властно» оказывается весьма существенным. Это, по-видимому, первый в отечественной прозе случай использования выражения «властный запах».
Однако остается непроясненным с историкокультурной точки зрения и большой фрагмент, описывающий переезд героя из Неаполя в Рим. Здесь главной темой становится «тяжелый», «тягостный», «злой» воздух, вдыхание которого ведет к страшным болезням и даже к смерти [Толстой 1992: 183 и далее].
Многодневное путешествие приходится превратить в «многоночное», поскольку безопасно можно двигаться только по ночам. Со всеми предосторожностями, употребляя много нюхательного и курительного табака, герой добирается до Рима, где, как он отмечает, воздух тоже «тягостный». Здесь мы видим развитие так называемых «пневматологических мотивов» [Рогачева 2010: 47–57]. Однако, в отличие от поэзии, где «дышать ароматами» вполне уместно, проза путешествий предлагает совсем другой вариант: запах не описывается и не сравнивается с чем-то знакомым, но подается как некий газ, наполня- ющий пространство, тлетворность которого угрожает жизни и здоровью путешественника.
В «Письмах русского путешественника» Н.М.Карамзин предлагает следующую характеристику: «Везде видите дым земляных угольев; везде чувствуете их запах, который для меня весьма неприятен; улицы широки и отменно чисты; везде тротуары, или камнем выстланные дорожки для пеших» [Карамзин 1964: 515]. В этом высказывании появляется негативная характеристика нейтрального запаха (запах углей может восприниматься и как позитивный, и как привычно-нейтральный, но для автора он «неприятен»).
В этом можно усматривать еще одну яркую черту развития ольфактория в травелогах – авторы, стремясь передать свои впечатления от посещения чужих стран и городов, прибегают к личным маркерам; тем самым устойчивый «набор» издающих запах предметов (как части художественного произведения) расширяется.
Показателен другой ольфакторный элемент – привычные предметы на чужбине обладают иным запахом: «Я ходил между тысячами, как в лесу, не зная никого и не будучи никому известен. Однако ж, видя вокруг себя радостные лица, веселился в сердце своем. Наконец ушел ото всех людей, сел под зеленым кусточком, увидел фиалку и сорвал ее, но мне показалось, что она не так хорошо пахнет, как наши фиалки, – может быть, оттого, что я не мог отдать сего цветочка любезнейшей из женщин и вернейшему из друзей моих!» [Карамзин 1964: 360–361]. С одной стороны, несомненно, это элемент стиля рококо, примыкающего к сентиментализму, с его остроумной галантностью (качества фиалки «привязаны» к возможности обрадовать любимую). Но, с другой стороны, возможно, это вполне реалистичное наблюдение – «чужбина» наделяет привычное новыми качествами – в данном случае, не таким приятным, как если бы это было дома, запахом или даже «не-запахом».
Для Н.М.Карамзина важным становится определение приятного «чужого» пространства, где немалую роль играют обонятельные ощущения. Таким приятным пространством становится Прованс (и Лангедок), где всегда все «цветет и благоухает». Но при этом показательно, что путешественнику так и не удается туда попасть! Именно поэтому целый ряд позитивных ольфакторных образов в тексте относится к мечтам, а не к действительности.
Очень возможно, что реальное путешествие развеяло бы эти мечты и представления – в том числе и яркие ольфакторные образы, приближающие стилистику этих фрагментов к древнерусским описаниям райских кущ. В начале путеше- ствия герой сообщает: «Мне хочется пробраться в Южную Францию и видеть прекрасные страны Лангедока и Прованса…» [Карамзин 1964: 328]. Добравшись до Лиона, он восклицает: «Обширные зеленые равнины; по ту сторону Роны, принадлежащие к Дофине, – равнины, где уже оперяется весна, отменно миловидны. Там идет дорога в Лангедок и Прованс, счастливые цветущие страны, где чистый воздух в весенние и летние месяцы бывает напитан ароматами и где теперь благоухают ландыши!» [там же: 343]. Но в связи с обстоятельствами герой вынужден со своей мечтой расстаться, что он делает с пафосом, присущим предромантизму: «Нет, друзья мои! Я не увижу плодоносных стран Южной Франции, которыми прельщалось мое воображение!.. Беккер не получил здесь векселя и, оставшись только с шестью луидорами, решился ехать прямо в Париж. Мне надлежало с ним расстаться или пожертвовать для него своим любопытством, своими мечтами, Лангедоком и Провансом…. Гробница нежной Лауры, прославленной Петрарком! Воклюзская пустыня, жилище страстных любовников! Шумный, пенистый ключ, утолявший их жажду! Я вас не увижу!.. Луга провансские, где тимон с розмарином благоухают! Не ступит нога моя на вашу цветущую зелень!.. Простите, места, любопытные для чувствительного путешественника!» [там же: 361].
Примечательно, что, усвоив по различным источникам мысль о прованском «рае», Карамзин переносит это мнение на описание реалий городов, которые посещает.
Обратимся к чрезвычайно яркому описанию Парижа: «Останьтесь же здесь, если не хотите переменить своего мнения; вошедши далее, увидите... тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира – кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, – зажмете нос и закроете глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость. Ступите еще шаг, и вдруг повеет на вас благоухание счастливой Аравии или по крайней мере цветущих лугов прованских: значит, что вы подошли к одной из тех лавок, в которых продаются духи и помада и которых здесь множество. Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты – так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным [Потому что нигде не продают столько ароматических духов, как в Париже. – прим. Н. М. Карамзина ] и самым вонючим городом» [там же: 373].
Цветущие луга Прованса противопоставлены городским кварталам, где не остается ничего иного, как «зажимать нос». Но еще важнее ольфакторный контраст, выстроенный путешественником: Париж оказывается одновременно самым вонючим и самым благовонным городом. Так же, как лавка мясника с ее отвратительным запахом и деталями соседствует на рынке с лавкой духов и помады, весь город представляет собой сочетание, столкновение, смешение зловония и благовония.
Стоит обратить внимание и на запах трав, льющийся в «суп» путешественника (« Как бы то ни было, только в другой раз рассудил я за благо обедать один в своей комнате, растворив окна в сад, откуда лились в мой Немецкой суп ароматическия испарения сочной зелени» [ Карамзин 1964: 20 ]) , поскольку соединение ольфакторного и густаторного полей – недостаточно развитая часть отечественной словесности вплоть до середины XIX в. В качестве исключения можно привести фрагмент путевых записок Ф.И.Соймонова: «Бросятъ н ѣ сколько пригоршней земли, польютъ нефтью, и зажгутъ бумагою, то загорается сильнымъ пла-менемъ. Надъ пламенемъ ставятъ таганъ, а на таганъ котелъ съ кушаніемъ, которое варится скоряе, нежели дровами. Чемъ больше м ѣ шаютъ землю палкою, т ѣ мъ сильняе горитъ пламя. Но понеже къ сему употребляютъ токмо черную и нечистую нефть: то произходитъ отъ того копоть и худой запахъ: покои отъ того черн ѣ ютъ, однако кушаніе не им ѣ етъ худаго вкусу» [Описание 1763].
Рассматривая ольфакторий поэзии XVIII в., Н.А.Рогачева, ссылаясь на А.Н.Радищева, утверждает мысль о сущностной эстетизации сферы запахов человеком: «Не обладая тонкостью нюха, свойственной животным, человек способен оценить красоту аромата, чем, собственно, и определяется эстетика запаха для “умного” художественного мироощущения» [Рогачева 2010: 46]. Однако анализ ольфактория травелогов показывает, что обоняние суть не только «инструмент изящного», но и серьезное напоминание о том, что природа человека остается биологически животной. Здесь речь идет не столько о поиске изящных и приятных ароматов, сколько о недоверии к ним, стремлении использовать запахи именно как реперы пространства. Разумеется, шкала «аромат – вонь» остается актуальной, но может по-разному маркироваться (приятный запах может означать опасность, а зловоние маркировать убежище). Таким образом, ольфакторная поэтика в XVIII в. серьезно осложняется, трудно говорить о едином направлении ее развития. Литература путешествий позволяет увидеть эту разнонаправленность.
«Насыщенное» описание предполагает постоянное балансирование на грани «фиксирования» фактов в стиле нон-фикшн и художественности, в основе которой – творческий масштаб личности путешественника. Ольфакторий – лишь одна черта этого напряженного балансирования. Но – помимо изоморфической задачи сохранения жанровых кодов – «принюхивание» путешественников к новому для них пространству показывает неустранимость и необходимость вербализации ольфакторных впечатлений, подбора соответствующих художественных средств и постоянного стремления к разрушению стереотипов.
South Ural State University
Список литературы Поэтика запаха в чужом пространстве
- Бахтин М.М. Рабочие записи 60-х -начала 70-х годов//Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т.6. М., 2002.
- Библиотека литературы Древней Руси/РАН. ИРЛИ; под ред. Д.С.Лихачева, Л.А.Дмитриева, А.А.Алексеева, Н.В.Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т.I. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx? tabid=4868 (дата обращения: 27.05.2012).
- Гирц К. Интерпретация культур/пер.с англ. М.: РОССПЭН, 2004. 361 с.
- Карамзин Н.М. Письма русского путешественника//Избр. соч.: в 2 т./вступ. ст. П.Беркова, Г.Макогоненко. М.; Л.: Худож. лит., 1964. Т.1. С.77-620.
- Описанiе Каспiйскаго моря и чиненныхъ на ономъ Россiйскихъ завоеванiй, яко часть исторiи Государя Императора Петра Великаго, трудами Тайнаго Совѣтника, Губернатора Сибири и Ордена святаго Александра Кавалера Федора Ивановича Соймонова, выбранное изъ журнала Его Превосходительства, въ бытность его службы морскимъ Офицеромъ, и съ внесенными, гдѣ потребно было, дополненiями Академiи Наукъ Конференцъ-Секретаря, Профессора Исторiи и Исторiографiи, Г.Ф.Миллера. Въ Санктпетербургѣ при Императорской Академiи Наукъ 1763 года. URL: http://az.lib.ru/s/sojmonow_f_i/text_0030oldorfo.shtml. (дата обращения: 27.05.2012).
- Путешествие стольника П.А.Толстого по Европе (1697-1699)/изд. подг. Л.Ольшанской, С.Травниковым. М.: Наука, 1992. 384 с. [Сер. Лит. памятники].
- Радищев А.Н. О человеке, его смертности и бессмертии//Полн. собр. соч. М.; Л., 1941. Т.II. С.39-144.
- Рогачева Н.А. Ольфакторное пространство русской поэзии конца XIX-XX вв.: проблемы поэтики. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2010. 404 с.
- Сорочан А. Туда и обратно: Новые исследования литературы путешествий и методология гуманитарной науки//Нов. лит. обозрение. 2011. №112. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2011/112/so36.html.