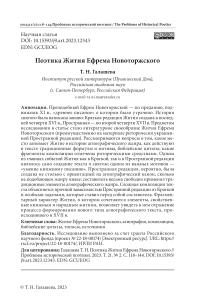Поэтика жития Ефрема Новоторжского
Автор: Галашева Т.Н.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Преподобный Ефрем Новоторжский - по преданию, подвижник XI в., «древнее писание» о котором было утрачено. История святого была написана заново: Краткая редакция Жития создана в последней четверти XVI в., Пространная - во второй четверти XVII в. Предметом исследования в статье стало литературное своеобразие Жития Ефрема Новоторжского (преимущественно на материале риторически украшенной Пространной редакции). Рассматриваются вопросы о том, какое место занимает Житие в истории агиографического жанра, как действуют в тексте традиционные формулы и мотивы, библейские цитаты; какие фрагменты композиции отмечены риторическими средствами. Одним из главных событий Жития как в Краткой, так и в Пространной редакции являлось само создание текста о святом; одним из важных мотивов - «умение книжному писанию». Пространная редакция, вероятно, была создана не столько с ориентацией на агиографический канон, сколько на подобающем жанру языке: составитель весьма свободно применял традиционные элементы агиографического жанра. Сложная композиция текста объясняется прочной зависимостью Пространной редакции от Краткой и особыми задачами, которые ставил перед собой составитель. Фрагментарный характер Жития, в котором сочетаются элементы, свойственные книжным и народным житиям, позволяет увидеть в нем отражение процесса формирования нового типа агиографического текста, происходившего в XVII в.
Житие ефрема новоторжского, агиография, композиция, библейские цитаты, топосы, источники
Короткий адрес: https://sciup.org/147241426
IDR: 147241426 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12343
Текст научной статьи Поэтика жития Ефрема Новоторжского
И стория преподобного Ефрема Новоторжского необычна.
По преданию, святой подвизался в XI в. и был угрином по происхождению, братом Георгия и Моисея Угринов, вместе с которыми он состоял на службе у князей Бориса и Глеба. После убиения князя Бориса и его отрока Георгия Угрина Ефрем взял голову брата и ушел с нею в Торжок, где основал Борисоглебский монастырь. Древнее житие святого утрачено, новое создано при обретении мощей Ефрема в последней четверти XVI в. Житие Ефрема Новоторжского известно в нескольких редакциях, основные из которых — Краткая и Пространная.
В Краткой редакции Жития, созданной в Борисоглебском монастыре в Торжке приблизительно в 1570–1580-е гг., монастырская среда была показана как некнижная [Ключевский: 371]. Архимандрит Мисаил, наиболее вероятный автор первоначального жития, расспрашивал братию о незаписанных чудесах Ефрема и слышал в ответ:
« Како убо нам писати чюдеса преподобного, а мы книжнаго писания не разумѣхом, понеже бо от простых людей »1.
Саму Краткую редакцию также можно назвать простой, фактографичной, лишенной украшений. Биографический сюжет о Ефреме и его братьях-угринах передан в тексте как устный рассказ инока Иоасафа. Похожая скорее на историческую записку, созданную к обретению мощей святого, Краткая редакция Жития не получила распространения в рукописях.
Во второй половине XVII в. широко разошелся в рукописной традиции другой текст — Пространная редакция Жития Ефрема Новоторжского, созданная до 1640-х гг. в том же монастыре [Галашева, 2020]. За прошедший исторический период монастырская среда изменилась: известны, например, книжные вклады в монастырь архимандрита Ионы Волкова (архимандрит в 1609–1634 гг., см.: [Строев: 454], [Колосов: 76])2. Содержание Пространной редакции почти целиком заимствовано из Краткой, однако внешне текст уподоблен образцам книжной агиографии:
Житие снабжено риторическим вступлением, дополнено библейскими цитатами и традиционными мотивами. Такое декорирование, впрочем, не ввело в заблуждение В. О. Ключевского, который называл эту редакцию «поздней и плохой», поскольку она «состоит из бессвязного ряда статей и всего менее говорит о жизни Ефрема» [Ключевский: 335].
Литературное своеобразие Жития, которое до сих пор рассматривалось как исторический источник различной степени достоверности, остается малоизученным: как строится композиция обеих редакций, какую роль играет риторическое вступление, как действуют в Пространной редакции топика и библейские цитаты? Вопрос о поэтике древнерусского текста рассмотрен в русле концепции Д. С. Лихачева как вопрос о месте текста в жанровой системе, о его языке и художественной специфике [Лихачев]. Анализ в большей степени сосредоточен на тексте риторически украшенной Пространной редакции («Житие»), однако Краткая редакция привлекается как текст-источник, заимствования из которого составляют основу Жития.
Композиция Жития
Содержание Краткой редакции3 можно передать следующим образом: об основателе монастыря нет никаких сведений, потому что Торжок подвергался многочисленным нападениям, в том числе был разорен князем Михаилом; обитель пребывала в запустении, впоследствии люди снова начали в ней собираться; в Твери сгорела рукопись с Житием святого. Автор был пострижен в монастыре, стал его архимандритом, был удивлен, что чудеса Ефрема не записаны; нашел изображающую святого фреску; расспрашивал о святом людей и наконец услышал рассказ инока Иоасафа о трех братьях-угринах, служивших князю Борису, о том, что Ефрем избежал убийства и постригся в монахи. Голова рядом с мощами Ефрема, по вере иноков, принадлежит брату Ефрема Георгию.
Таким образом, композиция Краткой редакции была телео-логична: отсутствие «древнего писания» о Ефреме, о котором повествовалось на протяжении всего текста, компенсировалось в его кульминационной вершине — рассказе инока Иоасафа о трех братьях. Письменная история Ефрема была утрачена, но повествование завершалось обретением устного предания о святом. Таким образом, Краткая редакция в некоторой мере представляла собой текст о тексте.
Перед составителем Жития (в его Пространной редакции) стояла новая задача — создать текст о святом. Скудное содержание Краткой редакции при этом было бережно сохранено, что привело к усложненной композиции. Текст построен по традиционному для агиографии анфиладному принципу [Лихачев: 253]. За обширным вступлением следуют пять главок: о престоле во имя Ефрема в церкви Бориса и Глеба, о брате святого Моисее Угрине, о голове брата Георгия Угрина, о преставлении преподобного и о проявлении мощей, — и посмертные чудеса. Все названия глав Жития непосредственно связаны с Ефремом. Первая глава о посвящении святому престола в Борисоглебском храме завершает рассказ о разорении монастыря, начатый во вступлении, и сразу показывает читателю место действия, подводит вплотную к главному герою жития — чудотворному гробу Ефрема. В главах о братьях-угринах выстраивается логическая последовательность: сначала рассказывается о Моисее Угрине, история которого завершается внутри главы о нем, затем о Георгии Угрине, голову которого Ефрем приносит с собой в Торжок и завещает положить с собой во гроб, — эта история перетекает в следующую главку о преставлении святого.
Главам предпослано вступление. Задача говорить в Житии исключительно о святом побудила составителя вытеснить почти все содержание Краткой редакции во вступление: эпизоды о нападении князя Михаила на Торжок и утрате древней рукописи имеют лишь опосредованное отношение к истории святого, как и повествование об авторе-архимандрите и о собирании им сведений для первоначального жития. Вступление мыслится как пограничное по отношению к собственно Житию, заключенному в главках4. Материалом же для последних стал короткий рассказ Иоасафа, дополненный традиционными мотивами.
Явная зависимость Жития от претекста (сначала целиком пересказанного во вступлении, а затем легшего в основу главок) породила повторы и хронологическую путаницу в событиях: во вступлении говорится о том, что происходило в монастыре много позже его основания, первая главка посвящена построению престола в честь Ефрема и сложению службы, затем следуют рассказы о братьях и сразу же — о преставлении святого. Все эти недостатки Пространной редакции были исправлены в поздней тверской редакции XVIII в., обнаруженной в единственном списке Г. С. Гадаловой [Гадалова, 2022]. Редактор не изменял текст, а только переставил его фрагменты, возвратив повествованию хронологическую последовательность: о набеге князя Михаила на Торжок рассказывалось после преставления святого и т. д. Именно сложность композиции Жития, его внутренняя ориентация на текст-предшественник послужили причиной для составления поздней композиционно выстроенной редакции.
Итак, сложная содержательная конструкция Жития находит объяснение в истории текста. Рассмотрим вопрос о том, каким образом передается в Житии это содержание, какие фрагменты композиции оказываются отмечены риторическими средствами, на какую традицию опирается автор Жития, — прямых агиографических источников, из которых были бы заимствованы риторические части текста, нам пока обнаружить не удалось.
Риторическое вступление
Начало Жития «Тайны царевы добро есть хранити, а дѣла Божия подобаетъ явьствено проповѣдати»5 (Тов. 12:7) отсылает прежде всего к началу Жития Марии Египетской, широко доступному по Триодям постным и Торжественникам6: вероятнее всего, именно оно придало этой цитате значение канонического начала агиографического текста.
Вступление представляет собой цепочку традиционных образов. Достаточно необычно то, что библейская цитата о таланте использована в Житии со смещенным знаком отрицания: так, например, в Житии Марии Египетской и происходящем от него Слове похвальном Сергию Радонежскому говорится, что молчать о делах Божиих «погубно есть и блазнено» [Житие Сергия Радонежского: 390], «аз боюся» муки нерадивого раба, сокрывшего талант. Именно такой вид цитата о таланте принимает почти во всех содержащих ее агиографических текстах, согласно исследованию М. К. Кузьминой [Кузьмина: 327–331]. Но в первых строках Жития Ефрема Новоторжского акцент сделан не на страхе и пагубе, а на пользе и праведности:
« Зѣло полезно и праведно не скрывати таланта Господня в себѣ, но прикуп ему сотворити (Мф. 25:14–30)» (л. 34).
Такая инверсия показывает независимость автора от традиции, его свободное обращение с устойчивыми формулами. «Прикуп» влечет за собой продолжение темы доброго дела в тех же образах материального «прибытка»: «полезно и праведно» также уподобиться доброму купцу, идущему «далече на страну» (Лк. 19:12), «купующе и продающе», обретающему «корысть многу» (Пс. 118:162). Духовный смысл спрятан в цепочке образов, связанных темой богатства, и в дальнейшем важной для Жития.
Формула самоуничижения автора принимает преувеличенные черты:
«… не уподобльшуся и персти земныя, и многогнойнаго кала, смрадныя мотылы исполнену » (л. 34 об.)7.
Греховность и беспомощность человека представлены в виде ряда евангельских образов (смоковница, тростник, слепец):
«… достоин мучения в будущия казни и въмѣняюся сухой смокви, не имуще плода добра (Лк. 13:6), и трости, вѣтромъ обносимой (Мф. 11:7); мыслию же подобенъ слѣпцу, не имущему добраго пути вѣдети (Мф. 15:14)» (л. 34 об. — 35).
Подобная риторическая амплификация в целом не свойственна Житию Ефрема Новоторжского. Таким же периодом отмечено только начало раздела чудес, связанное, как и в приведенной выше цитате, с самопрезентацией автора. К древнейшему чуду Ефрема «о бездождии» в Пространной редакции добавляется предисловие, в котором автор обращается к Богу за помощью в прославлении чудес Ефрема:
«… но врагъ своим мечтаниемъ оплете мя, яко серно в тенети (Притч. 6:5), или яко рыбу, увязнуша во мрежу (Еккл. 9:12), но вверженна мя в ровъ погибели (Пс. 54:24), и уязви мя стрелою грѣхопадениемъ » (л. 58 об. — 59).
Обращает на себя внимание сплетение образов, изображающих несвободную душу: пойманный зверь, попавшая в сеть рыба
(в традиционном продолжении топоса — птица), человек, оказавшийся во рве, раненый «стрелой» греха8.
По агиографической традиции сразу за самоуничижением автора во вступлении следует контрастное изображение Ефрема, состоящее из ряда традиционных формул. В композиции Жития, в которой нет последовательного развертывания пути преподобного, а традиционные мотивы распределены неравномерно, это первый из двух «столпов», на которых держится каноничность текста (второй заключен в последних главках Жития — «О преставлении преподобнаго» и «О проявлении честных мощей»):
« Слышахъ мнѣ <…> яко житием бѣ преподобный отецъ нашъ Ефрѣмъ праведенъ, во плоти бо живый и подвизаяся къ Богу, якоже безплотный аггелъ, постомъ же и молитвою тѣло свое удручая, непрестанныя молитвы, и псалъмопѣниемъ, и всенощнымъ стоянием к Богу, и никако же о мирскихъ и тлѣнныхъ и мятеж-ныхъ красотъ пекийся 9 , но чая Бога, спасающаго себе, и прилежа бо-жественыхъ книгъ чтению, собирая на сердечныя своя скрыжали душевную сладость, яко многотрудная пчела от многихъ раз-личныхъ цвѣтовъ собирая себѣ медоточную сладость, и вси бо человѣци дивятся премудрости ея, — тако бо подобаетъ диви-тися и ужасатися и умомъ касатися о великомъ пресвѣтлом свѣтилникѣ и о чюдотворцы Ефрѣме » (л. 35 об. — 36 об.).
Все добродетели, которыми обладает святой, являют образец монашеской жизни; Ефрем уподобляется ангелу, пчеле, светильнику. Особенно интересен мотив любви к книгам, приписанный древнему подвижнику, вступающий в перекличку с дальнейшим повествованием Жития: об увезенной князем Михаилом рукописи, о братии, не умеющей «книжному писанию», об архимандрите, составившем Житие Ефрема, «искусну мужу, и духовну разумомъ исполнену10, божественнаго писания велми умѣюще» (л. 40 об.). Выстраивается соответствие между Ефремом (основателем монастыря) и архимандритом Миса-илом (автором Краткой редакции, первым архимандритом в монастыре), которому посвящена значительная часть вступления.
Этикетный рассказ о святом продолжается кратким пересказом предания Иоасафа об угорском происхождении Ефрема, о служении « Борису и Глѣбу », переходя в традиционный агиографический мотив поиска и обретения места для монастыря. Место « у града Торжка » обретено, обитель основана, и вновь сообщается о поучении святым братии по книгам:
«… яко добрый отецъ наказуя присных чадъ своихъ, и божественными словесы от святаго Евангелия, и от жития святых апостолъ и святыхъ отецъ наказуя ихъ » (л. 37 об. — 38).
Риторическая часть вступления завершается прямой речью святого: « Братие, ищите прежде Царствия Небеснаго и правды, и сия приложатся вам » (Мф. 6:33; л. 38). Второй случай столь же этикетной прямой речи Ефрема появляется в предсмертном наставлении в главке «О преставлении преподобнаго»: « Братия моя и отцы, се, уже азъ отхожу свѣта сего, васъ же предаю в руцѣ Божии » (л. 49 об.) 11 , — что еще раз устанавливает параллель между этими двумя каноничными фрагментами текста.
В дальнейшем текст вступления развивается более динамично — рассказывается о нападении на Торжок Михаила Тверского. Эта часть Жития настолько отличается от предыдущей, что И. У. Будовниц даже выделял ее как древнюю «Повесть о разорении Торжка в 1315 г.» [Будовниц]. Гипотеза не подтверждается текстологически (повесть не бытовала вне Жития), но показывает, насколько неоднородным вышло произведение агиографа о монастырской истории, как повесть, заимствованная из Краткой редакции, просматривается сквозь форму Жития. Повествование в этой части вступления очень живое: прямой речью переданы диалог князя Михаила и отвечающей ему неграмотной братии, а также диалог архимандрита, собирающего сведения о Ефреме, и вновь отвечающей ему братии. И тот, и другой диалоги отнесены к прошлому, время неопределенно и стянуто: «точию слышах се»; «по малѣ же времени»; «малу же времени минувшу»; «прилучися нѣкогда искусну мужу», князь Михаил (по мнению историков, речь идет о нападении на Торжок в 1372 г. [Гадалова, 2015], [Thyrêt, 2014]) и архимандрит, начавший разыскания о Ефреме (Мисаил, 1572–1588 гг., см.: [Строев: 454]), представлены почти как современники12. Тем интереснее, что и монастырская братия отвечает обоим героям практически одинаково, в первом случае «единомыслено рѣша», во втором — «единогласно отвѣщаша» о том, что не нашлось «ни единого» грамотного брата. Оба этих диалога присутствовали в Краткой редакции13, из нее заимствованы вся прямота и динамизм повествования, которые дополнены лишь несколькими библейскими цитатами. Во вступлении, таким образом, агиограф соединяет разнородные элементы, граница между которыми проступает достаточно явно. Сюжетом вступления к Житию становится история создания текста.
Топика в Житии
Житие Ефрема Новоторжского нельзя назвать в полном смысле преподобническим житием. В нем нет пути становления монаха от рождения до преставления. Своеобразие использования топики житий преподобных в Житии Ефрема Новоторжского отметила уже Т. Р. Руди: так, традиционная формула ухода святого в монастырь, «окрилатисте умъ свой» [Руди, 2006: 445]14, в Житии использована в эпизоде о чтении царю Феодору Иоанновичу и митрополиту Дионисию «писания о преподобном». Другая библейская цитата, традиционно передающая «неутолимую жажду принятия святым монашеского пострига» [Руди, 2006: 447], в Житии появляется во вступлении к разделу чудес, перед первым чудом «о бездож-дии»: «яко желаетъ елень на источники водныя сице желаетъ и душа моя (Пс. 41:2) многогрѣшная напитатися духовнаго сего пития» (л. 58 об. — 59).
По замечанию Т. Р. Руди, библейские цитаты, лишенные «сюжетной закрепленности за определенным эпизодом жития», не могут считаться топосами [Руди, 2006: 446]. Тем не менее традиционная формула, на наш взгляд, может отмечать важное в композиции текста место. В случае Жития смещение в использовании библейской цитаты хорошо показывает, что является событием в тексте: не то, что Ефрем становится монахом (это событие не отражено в Житии), но то, что были записаны и приняты его житие и чудеса. В первом случае «окрыление» и благочестивая радость связываются с царем, прослушавшим Житие. Во втором случае под неутолимой жаждой понимается жажда современников знать о чудесах основателя монастыря, — отмечено то же событие создания текста, что и в первом случае.
Житие рассказывает об отдаленном прошлом, древность монастыря — одна из его главных тем. Осознанная и подчеркнутая временная дистанция, отделяющая агиографа от древнего подвижника, позволяет не отражать большую часть традиционного пути святого:
« А в кокова лѣта и времена преподобныи прииде се или гдѣ иночество приятъ, и мнѣ косному умомъ и смысломъ писания о том не обрѣтохомъ » (л. 38).
Однако некоторые терминологические формулы и мотивы в Житии все же задействованы, пусть и очень сдержанно. Мотив усердного посещения церковной службы [Руди, 2006: 470] включен в первое общее описание подвижника, «безплот-ного аггела», во вступлении. Отсутствует мотив божественных знамений на месте будущего монастыря, но есть «обхождение мест»15 для основания обители, в которой Ефрем как «добрый пастырь» поучает братию. Из отмеченных Т. Р. Руди топосов, свойственных житиям основателей монастырей, в Житии представлены «мотив отеческой любви игумена к братии», «мотив предсмертного наставления святого братии», мотив «плача великого» о преставлении игумена [Руди, 2006: 491, 496]. Важно отметить, что главка Жития «О преставлении преподобнаго», в которой одновременно появляются все эти мотивы, включает в себя новые, неизвестные по Краткой редакции сведения, она целиком собрана заново из традиционных формул. В ней же появляются и сведения об ученике Ефрема Аркадии, с которым святой разделял труды:
«… в день бо труждающеся, дѣлающе своима рукама на строение и на обитель свою, нощию же на молитвѣ стояще и колѣно-поклонение творяще » (л. 49, ср. с описанным Т. Р. Руди мотивом «краткого сна» [Руди, 2006: 479–481]).
Очевидно, что при отсутствии основных топосов пре-подобнического жития текст все же имеет целью показать Ефрема как образец монаха и ориентирован на монашескую среду.
В каждом произведении, в котором появляется «легенда о пропавшем житии» [Семячко: 14], задача изображения неизвестной биографии святого решается по-своему. В подобных случаях агиографы, наоборот, могли прибегать к традиционным формулам и канонической структуре: ср., например, в Житии Антония Дымского, в котором причина утраты части сведений о подвижнике почти та же, что и в Житии Ефрема Новоторжского: «Еще же и от бывших пожаров и всяких воинских людей буести и находов, и от своих во обители живущих, всякия скудости и простоты» [Белоброва: 289]. Заимствования из канонических житий создают основу Второй редакции Жития Иннокентия Комельского, тогда как в Первой реда кции текста в центре повествования находился
«Завет» Иннокентия Комельского [Семячко]. Сообщение об утрате текста встречается также в чудесах Герасима Вологодского16, Александра Ошевенского17. Святые без биографии традиционно уподоблялись жителям Небесного Иерусалима [Руди, 2012], [Рыжова], как, например, в Житии Паисия Галицкого, о родителях и происхождении которого агиограф также пишет: «о семъ мы писания не обретохомъ» [Житие Паисия Галицкого: 372].
Ефрем, однако, несмотря на «утрату» древней рукописи о нем, все же является «святым с биографией»: устное предание старца Юрьева монастыря Иоасафа о трех братьях-угринах, содержащееся в нескольких строках Краткой редакции, становится непреложной сюжетной основой Пространной:
« Бысть же сей преподобный родомъ югорьския земли, родомъ же и чиномъ синъклическаго сана, и у великихъ рускихъ князей Бориса и Глѣба чинъ конюшество имѣя » (л. 36 об.).
Вероятно, иноземное происхождение Ефрема может объяснить отсутствие топоса о родителях святого. Вместо этого в начале пути Ефрема появляются святые князья Борис и Глеб, от них начинается путь святого, — как, вероятно, и сам текст берет начало от названия Борисоглебского монастыря.
Отсутствие агиографической схемы, на наш взгляд, говорит о нехватке книжных образцов. В то же время в риторических фрагментах мы видим, что автор владеет соответствующим жанру языком [Лихачев: 81], обладает «церковной памятью» [Гардзанити, 2008: 36].
Библейские цитаты в Житии
В Краткой редакции Жития Ефрема Новоторжского не использова лись цитаты из Священного писания. Автор
Пространной редакции перемежает заимствованный текст библейскими цитатами, тем самым не только украшая, но и абстрагируя вполне конкретное содержание источника. Увезенное из монастыря Житие уподобляется « неистощимому сокровищу » (Прем. 7:14). Об архимандрите, собиравшем материалы для первоначального Жития Ефрема, говорится:
« И вселися благий помыслъ въ сердце архимариту тому, яко о нѣкоемъ многоцѣнномъ сокровищи златомъ, покровенно землею, изыскующе яко драгаго бисера или камени многоцѣннаго » (л. 41–41 об.).
Любопытная параллель к этому фрагменту содержится в Житии Сергия Радонежского, в котором о матери святого говорится, что она «и младенца въ утробѣ носящи яко нѣкое съкровище многоцѣнное, и яко драгый камень, и яко чюдный бисеръ, и яко съсуд избранъ» [Житие Сергия Радонежского: 264]. Сокровище в этом случае — носимый в утробе будущий святой, сокровище в Житии Ефрема — историческая память, писание о древнем подвижнике18. «Сокровищу» в особой главке Жития уподобляются и вновь открытые мощи Ефрема: «… великаго неистощимаго сокровища богатество » (л. 51 об.).
Заданное в первых строках Жития понятие о приобретаемой духовной «корысти», о житии и мощах Ефрема как о «сокровище» можно назвать «основной темой всей композиции» текста [Гардзанити, 2000: 50]. Духовное богатство сополагается с материальным. В уста автора-архимандрита вложена цитата: «Благо мнѣ законо устъ Твоихъ паче тысящъ злата и сребра» (Пс. 118:72; л. 41 об.), которая рифмуется с дальнейшим «сказанием» о создании придела в честь Ефрема, когда граждане Торжка «собраху от имѣний своих злата и сребра, и сотвориша престолъ» (л. 44 об.). Символ обретает воплощение, — проявляется средневековый «реализм», когда, по замечанию Д. С. Лихачева, из двух значений символа «перевес оказывался на его "материальной" части» [Лихачев: 167].
Тема неправедного богатства особенно подробно представлена в обработке чуда об опричнике Деменше Черемисине, в котором греховность разграбления монастыря царскими слугами подтверждается обширным цитатным периодом. И если до сих пор эксплицированные цитаты в Житии «воспоминались», «сбывались», «помышлялись», то в этом случае Деменша «не вспомнил» заповедь:
« …не помня Евангельскаго словесе, глаголюща: "Блажени ми-лостивии, яко тии помиловани будутъ" (Мф. 5:7). Притчами Господь Бог насъ поучает и глаголетъ сице: "Человеку нѣкоему угобзися нива <…> Рече же ему Богъ: "'Безумне, в сию нощъ истяжутъ душу твою от тебе, а яже уготова кому будетъ?'" (Лк. 12:16–20). Се же и онъ окаянный Замятня собра себѣ имѣние от неправды, не погибели (sic!) и не оставили чюждимъ имѣния богатьства своего, по пророку Давиду, глаголюще: "Вскую боюся въ день лютъ? Беззаконие пяты моея обыдет мя. Надѣющеся в силѣ своей и множествомъ богатьства своего хвалящеся" (Пс. 48:6–7) , и паки рече: "Вкупѣ безуменъ и несмысленъ погибнета, и оставитъ чюждимъ богатьство свое, и гроби ихъ — жилище ихъ во вѣки, нарекоша имена своя на земли, и человекъ, в чести сый, не разумѣ, приложися скотом несмысленнымъ и уподобися имъ" (Пс. 48: 11–13) . О семъ да умолчимъ, слова ради продолжения, на предлежащие да возвратимся » (л. 63–64).
В первом случае заповедь продолжена притчей, целым евангельским зачалом; во втором случае цитата из псалма кажется агиографу незаконченной и распространяется еще на несколько стихов. Обе цитаты объединены мыслью о безумии собирания земного богатства.
Подобный цитатный период встречается в Житии лишь единожды: в заключении риторического вступления, где рассказ об архимандрите и поиске утраченной истории Ефрема вновь объяснен «древностью многих лет» и «нахождением на град». Вступление завершается сплетением из четырех цитат, посвященных теме скорби о разорении Торжка. Первое изречение, очевидно, припомнено по памяти (ср.: Иез. 33:11):
« Елико же реченно быша во Святомъ Писании: "Не хощетъ бо насъ благий Владыка нашъ Господь Богъ въ погибели душевной видѣти, но точию обращаетъ к покаянию человеки, скорби и пагубы и напасти подъстрекание бываетъ приходитъ на человеки скорбь и иная лютая, в нерадѣнии сущи от лѣности воставля-ющи". Сего ради Исаия глаголетъ: "Господи, в печали помянут Тебе" (Ис. 26:16). И Господь глагола намъ: "Многими скорьбми подобаетъ внити во Царьство Небесное" (Деян. 14:22). Трие отроцы, в пленении сущи, вопияху: "Яко праведенъ еси о всѣх, Господи, ихъже сотворилъ еси намъ, и вся дѣла Твоя и истинна, и вси судии твои истинни, и судбы истинны сотворилъ еси по вся, яже наведе на ны и на град святыхъ отецъ наших Иерусалим" (Дан. 3:27–28)» (Л. 43–43 об.).
Можно предположить, что библейскими цитатами, и особенно цитатными периодами, усиливается фрагмент текста, требующий особого внимания, являющийся значимым для автора, отмечающий торможение в развитии текста. Слова из Священного писания позволяют остановиться на высказанном и осмыслить его в разных формах. В таком случае следует признать, что разорение города и разграбление монастыря в момент написания Жития были по-прежнему волнующей темой, Смутное время еще не стало далеким прошлым.
Несколько раз в Житии появляются цитаты-ссылки, уподобляющие действующих лиц ветхозаветным героям: Ефрем уходит из дома, где он служил конюшим « Борису и Глебу », в Торжок, « якоже израильтянин от работы фараоня, и по проходѣ Черьмнаго моря даде июдеемъ Богъ обѣтованную землю » (л. 37), тверской князь Михаил нападает на Торжок, « вооружився яростию, яко Исусъ Наввинъ на Ерихонъ » (л. 38 об.), Моисей Угрин оказывается в положении Иосифа Прекрасного, которого « нѣкая жена египтяныня оболга мужу своему » (л. 46). Иосиф Прекрасный выступает агиотипом для образа Моисея Угрина [Панченко: 511], тогда как агиологический образец для самого Ефрема в Житии не эксплицирован.
В первой из приведенных цитат служба святым князьям очевидно не ассоциируется со службой фараону, важен только второй член уподобления: «Торжок — обетованная земля». Во втором случае достаточно необычно именование тверского князя Михаила Иисусом Наввином. С одной стороны, Торжок вновь, как и в первой ссылке, имеет значение обетованной земли, с другой стороны — разоривший Торжок князь Михаил уподоблен воину-завоевателю, вождю Израиля19. По мнению Г. С. Гадаловой, сравнение с битвой при Иерихоне объясняет события наказанием «за грехи новоторов и новгородцев» [Гадалова, 2015: 31]. Однако дальнейшее описание жестоких действий тверского князя все же противоречит такому прочтению. Вероятно, если в первой цитате была важна только сема достижения, то во второй — сема битвы. Эти цитаты должны были украсить и дополнить заимствованный из Краткой редакции текст, поэтому их значение не было подобрано со всей тщательностью.
Заключение
Итак, Краткая редакция проступает сквозь текст Пространной не только содержательно, в прямых заимствованиях, но также и в расстановке смысловых акцентов: обретение истории святого является одним из важнейших событий Жития. Если в Краткой редакции таким «обретением» было устное предание Иоасафа, то в Пространной — письменное житие, созданное Ми-саилом, а также труд, предпринятый самим составителем Пространной редакции. Можно сказать, что авторы текстов о Ефреме выступают более рельефно, чем сам святой (ср., например, с усилением авторского начала в Житии Симеона Верхотурского — [Журавель]). Мысли и чувства древнего подвижника не находят отражения в Житии, в его прямой речи звучит лишь поучение братии.
Исключением является фрагмент «О главѣ Георгиевѣ, брата преподобнаго Ефрѣма», в котором святой впервые предстает действующим лицом, испытывает братскую привязанност ь к Георгию Угрину:
«… но точию обрѣте едину главу Георгиеву по нѣкоему признатну мѣсту <…> И плакася праведный Ефрѣмъ надъ главою брата своего Георгия на многъ часъ. <…> И принесе ю на се мѣсто в Торжокъ, идѣже бѣ обитель преподобнаго <…> И никому не повѣда <…> повелѣ главу брата своего Георгия положити во гробѣ с собою » (л. 47 об. — 48).
Этот текст, построенный на бродячем сюжете, к которому находятся параллели в новеллах и сказках, является литературным созданием автора Пространной редакции [Галашева, 2023]. В нем выражается отмеченная Л. А. Дмитриевым тенденция: в конце XVI — начале XVII в. в новгородской агиографии и севернорусских житиях зарождается новый тип агиографических текстов, в которых «героем жития, святым становится <…> самый обычный смертный, но с необыкновенной, несчастной судьбой» [Дмитриев: 269]. Впрочем, эта особенность сюжета о Георгии Угрине, не проявленная на других участках текста, усиливает лоскутный характер жития.
К новому типу агиографии XVII в. Житие Ефрема Ново-торжского приближается и более свободной композицией, отсутствием традиционной схемы преподобнического жития. Все канонические формулы распределены по двум фрагментам текста: начальной части вступления и двум главам «О преставлении» и «Об обретении мощей» святого. «Стилистическую пестроту житий», «уход от застывшей композиции в сторону свободного повествования» как новые черты агиографии XVII в. отмечала М. Д. Каган-Тарковская [Каган-Тарковская: 132].
Обстоятельства обретения в монастыре древних мощей Ефрема делают его отчасти «святым из гробницы». По определению Е. К. Ромодановской, для этого агиографического типа народной литературы «обязательны явление гроба, более или менее долгая безымянность героя и особая структура, где отсутствует собственно житие и просвечивает исконная связь с документом» [Ромодановская: 151] (в Житии Ефрема Новоторжского роль документа, очевидно, играет Краткая редакция, а первая главка Жития посвящена созданию престола во имя святого над его чудотворным гробом, ср.: [Ромодановская: 144]). Но культ Ефрема был церковный по происхождению, а не народный (и, видимо, так и не получил продолжения в народном почитании). По замечанию А. Б. Мороза, «народная агиография сконцентрирована исключительно на описании чудес, игнорируя то, что жития святых должны служить образцом для подражания» [Мороз: 25]. Однако в канонических фрагментах Жития Ефрема большое значение имеет идея поучения монашескому подвигу. Народную альтернативу Житию в каком-то смысле представляет «Сказание о царе Симеоне» (записанное, скорее всего, независимо от Жития, но включенное в состав его чудес [Галашева, 2022]), в котором Ефрем является в видении архимандриту Мисаилу.
Если по сравнению со «Сказанием о царе Симеоне» Житие выглядит сугубо церковным текстом, то по сравнению с другими житиями, ориентированными на житийный канон, заимствующими целые фрагменты из агиографических образцов (ср., например: [Пак]), Житие читается как свободное от канона сочинение. Вольное обращение автора с топосами и библейскими цитатами, неполное использование их поэтического потенциала говорит о том, что Житие вряд ли было ориентировано на образцы книжной агиографии (за исключением нескольких перекличек с Житием Сергия Радонежского). В то же время автор Жития Ефрема Новоторж-ского несомненно владел необходимым для написания агиографического текста языком, обладал «церковной памятью».
В Житии, отразившем новые черты литературы XVII в., происходит смешение стилей, в нем чередуются живое повествование и канонические фрагменты, темп произведения неравномерен. Можно сказать, что и легендарная повесть, и житие в этом тексте не развиваются в полную силу, накладывая ограничение друг на друга, и в этом особая природа этого текста, запечатлевшего движение и эволюцию литературных форм.
Список литературы Поэтика жития Ефрема Новоторжского
- Белоброва О. А. Две редакции Жития Антония Дымского // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. Т. 50. С. 281–292.
- Будовниц И. У. Повесть о разорении Торжка в 1315 г. // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1960. Т. 16. С. 446–451.
- Викторов В. В. Житие преподобного Ефрема Новоторжского в фондах НИОР РГБ // Записки Отдела рукописей. М., 2008. Вып. 53. С. 61–68.
- Гадалова Г. С. К вопросу о походе под Торжок великого князя Михаила Ярославича Тверского в 1316 г. (текстологический анализ Жития преподобного Ефрема Новоторжского) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. № 4 (62). С. 30–34.
- Гадалова Г. С. Тверской список Сокращенной редакции Жития Ефрема Новоторжского // Словесность и история. 2022. № 1. С. 92–109. DOI: 10.31860/2712-7591-2022-1-92-109
- Галашева Т. Н. К истории текста Жития Ефрема Новоторжского // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Наука, 2020. Т. 67. С. 175–205.
- Галашева Т. Н. Сказание о царе Симеоне Бекбулатовиче в Житии Ефрема Новоторжского // Проблемы исторической поэтики. 2022. Т. 20. № 2. С. 194–210 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1654534557.pdf (20.12.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2022.11022
- Галашева Т. Н. Предания о трех братьях и главе Георгия Угрина в житии Ефрема Новоторжского // Русская литература. 2023. № 3 (в печати).
- Гардзанити М. Церковнославянская агиография в византийском литургическом контексте: священное писание и литургия в литературной композиции Жития Параскевы // Славяноведение. 2000. № 2. С. 42–51.
- Гардзанити М. Библейские цитаты в литературе Slavia Orthodoxa // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Наука, 2008. Т. 58. С. 28–40.
- Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII веков: эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л.: Наука, 1973. 303 с.
- Житие Андрея Юродивого / подгот. текста А. А. Молдована // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 2016. Т. 2. С. 330–359.
- Житие Паисия Галицкого / подгот. текста С. А. Семячко // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 2013. Т. 17: XVII в. С. 372–397.
- Житие Сергия Радонежского / подгот. текста Д. М. Буланина // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 2016. Т. 6: XIV — середина XV века. С. 254–411.
- Журавель О. Д. «Повесть известная и свидетельствованная о проявлении честных мощей и отчасти сказание о чудесех святаго и праведнаго Симеона, новаго Сибирскаго чюдотворца»: модификация агиографического канона // Славянский альманах 2002. М.: Индрик, 2003. С. 311–318.
- Каган-Тарковская М. Д. Развитие житийно-биографического жанра в XVII веке (жития Адриана и Ферапонта Монзенских, Трифона Вятского, Симона Воломского, Серапиона Кожеозерского, Арсения Новгородского, Никандра Псковского) // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. Т. 49. С. 122–132.
- Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М.: Изд. К. Солдатенкова, 1871. III, 465, IV, III с.
- Колосов И. М. Новоторжский Борисоглебский монастырь. СПб.: Тип. Башкова и Брянкина, 1890. 84 с., 3 л. ил.
- Кузьмина М. К. Функции библейских цитат в древнерусских преподобнических житиях XV–XVII вв.: дис. … канд. филол. наук. М., 2015. 630 с.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. 358 с.
- [Ловягин Е.] Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках, переведенные на русский язык ординарным профессором Санкт-Петербургской духовной академии Евграфом Ловягиным. 3-е изд. СПб.: Синод. тип., 1875. [4], IV, 242 с.
- Малыгин П. Д., Кузнецов В. В. Житие св. прп. Ефрема Новоторжского — исторический и литературный источник // «Государева дорога» и ее дворцы: мат-лы межрегион. науч. конф., 19–21 нояб. 2002 г. Тверь: Сивер, 2003. С. 280–289.
- Мороз А. Б. Святые Русского Севера: народная агиография. М.: ОГИ, 2009. 528 с.
- Пак Н. В. Проблема агиографического канона в Житии Александра Ошевенского // Проблемы исторической поэтики. 2022. Т. 20. № 4. С. 7–41 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1669403409.pdf (20.12.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2022.11622
- Памятники старообрядческой письменности / подгот. текстов: Н. Ю. Бубнов, Н. С. Демкова, О. В. Чумичева. СПб.: РХГА, 2000. 384 с.
- Панченко О. В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 54. С. 491–534.
- Пигин А. В. Кирилл Челмогорский // Православная энциклопедия. М.: Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия», 2014. Т. 34. С. 342–348.
- Пигин А. В. Пространная редакция Жития Александра Ошевенского // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. Т. 3. С. 206–309.
- Романенко Е. В. Иосиф Заоникиевский // Православная энциклопедия. М.: Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия», 2011. Т. 26. С. 29–34.
- Романенко Е. В. Максим, блаженный Московский // Православная энциклопедия. М.: Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия», 2016. Т. 42. С. 739–750.
- Романова А. А. Игнатий Ломский, Сарский, Ярославский, Вологодский // Православная энциклопедия. М.: Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия», 2009. Т. 21. С. 93–96.
- Ромодановская Е. К. «Святой из гробницы». О некоторых особенностях сибирской и севернорусской агиографии // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика / отв. ред. С. А. Семячко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 143–159.
- Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 59–101.
- Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 431–500.
- Руди Т. Р. Тема Иерусалима в житийных текстах Древней Руси (из истории литературной топики) // Русская литература. 2012. № 1. С. 31–43.
- Рыжова Е. А. Поэтика русской агиографии: топос происхождения святого в Житиях праведников // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 5 (71). Ч. 1. C. 30–34 [Электронный ресурс]. URL: https://www.gramota.net/materials/2/2017/5-1/7.html (20.12.2022).
- Семячко С. А. Житие преподобного Иннокентия Комельского. Вологда: Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь, 2021. 96 с.
- Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб.: Тип. В. С. Балашева., 1877. X с., 1064, 68 стб.
- Thyrêt I. Economic Reconstruction or Corporate Raiding? The Borisoglebskii Monastery in Torzhok and the Ascription of Monasteries in the 17th Century // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2010. Vol. 11. No. 3. Summer. P. 489–511.
- Thyrêt I. One Town’s Saint is Another’s Worst Nightmare: Saints Cults and Regional Identity in Medieval and Early Modern Russia’s Upper Volga Region // Cuius Patrocinio Tota Gaudet Regio. Saint’s Cults and the Dynamics of Regional Cohesion. Zagreb: Hagiotheca, 2014. P. 335–349.