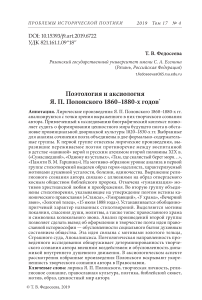Поэтология и аксиология Я. П. Полонского 1860-1880-х годов
Автор: Федосеева Татьяна Васильевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.17, 2019 года.
Бесплатный доступ
Лирические произведения Я. П. Полонского 1860-1880-х гг. анализируются с точки зрения выраженного в них творческого сознания автора. Привлеченный к исследованию биографический контекст позволяет судить о формировании ценностного мира будущего поэта в обстановке провинциальной дворянской культуры 1820-1830-х гг. Выбранные для анализа сочинения поэта объединены в две формально-содержательные группы. К первой группе отнесены лирические произведения, выразившие переживаемое поэтом противоречие между воспитанной в детстве «наивной» верой и русским атеизмом второй половины XIX в. («Сумасшедший», «Одному из усталых», «Там, где скалистый берег моря…», «Памяти В. М. Гаршина»). На мотивно-образном уровне анализа в первой группе стихотворений выделен образ героя-идеалиста, характеризуемый мотивами душевной усталости, болезни, одиночества. Выражение религиозного сознания автора связано с аллюзиями на образ отвергаемого косным обществом библейского пророка. Отмечена «гуманизация» мотивов христианской любви и преображения. Во вторую группу объединены стихотворения, указывающие на утверждение поэтом истины канонического православия («Стансы», «Умирающий», «У храма», «Вечерний звон», «Золотой телец», «15 июля 1888 года»). Устанавливается обобщенно-притчевый характер названных стихотворений. Выделяются мотивы покаяния, спасения души, молитвы, а также топос православного храма и символика колокольного звона. Анализ произведений второй группы позволяет сделать вывод об оформлении в творчестве поэта идеи православной историософии - обусловленности социального бытия духовным состоянием общества. Эта идея связана с мотивами золотого тельца, Страшного суда, Апокалипсиса. Поэтологическая направленность проведенного исследования обнаруживает детерминированность творческого сознания автора внешним воздействием и обусловленность динамикой внутреннего душевного движения. В аксиологическом аспекте рассмотрения избранные произведения Полонского вскрывают укорененность творческого сознания автора в Православии.
Лирика я. п. полонского, творческая личность, религиозное сознание, православная культура, поэтика, библейский сюжет, мотив, образ, ценностный мир автора
Короткий адрес: https://sciup.org/147226223
IDR: 147226223 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2019.6722
Текст научной статьи Поэтология и аксиология Я. П. Полонского 1860-1880-х годов
М ировоззренческую и ценностную многогранность творческой личности Я. П. Полонского отмечали уже его современники, писавшие о том, что он, с одной стороны, устремлен к выражению универсальных ценностей мира, с другой — органично связан с самобытной культурой родного народа (см.: [Покровский: 102–135]). В то же время ставился вопрос об укорененности творческого сознания поэта в национальной религиозной культуре. В частности Ю. И. Айхенвальд не без основания замечал, что в стихах Полонского выражается «смирение», которое «не дышит молитвенностью истинного, религиозного отречения» [Айхенвальд: 79]. Впоследствии в ценностном мире поэта выделялись гражданственность его поэтического чувства, «нравственная физиономия» и внимание к обстоятельствам действительной жизни (см.: [Лагунов]). Современными исследователями ценностный мир поэта конкретизируется и уточняется, более детально рассматривается связь с национальной культурной традицией, гуманизм общественной позиции, обусловленность философскими и религиозными воззрениями (см.: [Я. П. Полонский: творчество, судьба, эпоха…]). В ряде работ проявляется вполне оправданный интерес к вопросу о художественном воплощении в творчестве Полонского отношения человека к Богу и миру, рецепции библейского текста (см.: [Гаричева], [Федосеева, 2019]).
Выделив в качестве предмета изучения творческое сознание автора, мы исходим из важнейшей оценочно-смысловой направленности творческого акта (см.: [Закс], [Мирошниченко]). Учитывая, что процесс творческой деятельности является проявлением духовной активности личности, а результат художественного освоения мира, воспринимаемый читателем в виде
«идеальной реальности», обусловлен комплексом мировоззренческих и ценностных ориентаций творческого субъекта, не можем не заметить их непосредственную связь с религиозными воззрениями автора. Свойственная поэзии Полонского рефлексия самоидентификации и направленность его эстетической мысли в область соединения материи с духом требуют поэтологического исследования, которое в сочетании с аксиологическим позволит установить адекватный диалог современного читателя с автором. Такой методологический поворот обеспечивает бытование текста в пределах «большого исторического времени» без нарушения границ мира произведения, по М. М. Бахтину, мировоззренчески- и ценностно-ориентированного [Бахтин: 331].
Генезис творческой личности Я. П. Полонского и путь его душевного и духовного развития довольно подробно представлены в мемуарах поэта 1890-х гг. Атмосфера, окружавшая поэта в детстве и отрочестве, сочетала церковную религиозность (с регулярным посещением храма и принятием православных тайн) и простонародные верования, а чтение книг Священного писания — с фольклором и лубочными картинками назидательного содержания. Вспоминая самое начало жизни, поэт писал о влиянии «богомольной и патриархальной» семьи, в которой и была воспитана его «наивная» вера1. Анализируя обстановку, в которой шло личностное становление Полонского, нельзя не заметить, что представления о жизненных ценностях были обусловлены русским православным бытом, который, по справедливому замечанию В. Н. Захарова, не ограничивается знанием катехизиса, но включает весь «образ жизни, мировосприятие и миропонимание народа» [Захаров: 149]. Из «наивной» веры развивалось в дальнейшем творческое сознание поэта, нашедшее выражение, прежде всего, в его лирических сочинениях.
Заметное влияние на творческое сознание Полонского раннего периода оказало гегельянство студенческих лет (1838– 1844) и романтические устремления в южный период творчества в Одессе и на Кавказе (1844–1851). В его ранних произведениях усматривается идейно-художественное воздействие предшествовавшей литературной эпохи, которое нами исследовалось через выведенную В. М. Жирмунским концепцию «мистического» чувства как связи сознания поэта с религией в смысле «положительного присутствия бесконечного в конечном, Бога в мире» [Жирмунский: 196] (см.: [Федосеева, 2017, 2019]). Продолжая в данной статье начатое, обратим внимание на поэтологические и аксиологические аспекты сочинений Полонского 1860–1890-х гг., проясняющих эволюцию его творческого сознания. Принимая во внимание затруднительность решения поставленной задачи (индивидуальность автора может быть осмыслена лишь как «первоначальная и неразложимая» целостность), остановимся на биографических факторах, определивших личностное становление поэта, и выберем для анализа те произведения, в которых его творческая личность наиболее последовательно и ясно выразилась, — по словам В. С. Соловьева, «сильнее проявилась и легче чувствуется» [Соловьев: 533].
Поскольку о сознании автора можно говорить, лишь имея в виду целый комплекс его сочинений и учитывая при этом его творческую эволюцию, сформируем две группы анализируемых произведений. К первой отнесем стихотворения, выразившие переживаемое поэтом противоречие воспитанной в детстве «наивной» веры с идейно-философскими брожениями и духовными исканиями русского общества второй половины XIX в.; во вторую — произведения двух последних десятилетий его жизни, указывающие на душевное движение лирического героя к истокам канонического православия и оформление идеи обусловленности социального бытия духовным состоянием общества.
В лирике Я. П. Полонского 1860–1870-х гг. центральной проблемой стало отношение романтически настроенного героя к современному ему прагматичному времени. В своем времени автор находил противодействие не только религии как таковой, но и любым идеальным представлениям о мире. «…Мятежный, — строгій вѣкъ», как писал он, внушает человеку, что «въ твореньяхъ нѣтъ творца, въ природѣ нѣтъ души» («Вѣкъ», 1864)2. Время требовало от поэта рационального мышления и служения общественной пользе. Осознанно вступая с ним в противоречие, Полонский рассуждал о сущности и назначении поэтического искусства, находя его в вечных ценностях мира. По собственному выражению поэта, он вынужден был «плыть против течения»3.
Статью «Стихотворенiя Мея» (1859) Полонский начал с рассуждения о состоявшемся в недавнее время литературном споре между «реалистами» и сторонниками теории «чистого искусства». Этот спор он считал неоконченным и утверждал независимость самого творчества от всех ученых споров: искусство в такой же степени не может быть подчинено ни одной из теорий, в какой не подчиняется ни одной из них природа и сама жизнь. «…Истинное, вдохновенное творчество», писал поэт, всех увлекает именно тем, что оно «есть одно изъ такихъ же положительныхъ свойствъ души человѣческой, какъ умъ, совѣсть, воображенiе, чувство…»4. Искусство, по Полонскому, служит выражению любви к миру и, прежде всего, — к человеку. Он продолжал ощущать себя идеалистом, в то время как его современники увлекались приходившими из Европы идеями материалистической философии и атеизма. Не отгораживаясь от современности, а пытаясь понять ее, поэт стремился к диалогу, искал точки соприкосновения с новой «верой». В одном из писем к дочери приятеля, Софье Сонцевой, он сообщал: «Читаю я теперь Фейербаха <…> атеизм никак не гармонирует с моей натурой, но ум и его признает…»5. Сказано очень точно: новое направление мысли признавал ум, но не принимала душа.
Ряд стихотворений, написанных в означенный выше период, позволяет убедиться в чрезвычайной значимости для самого поэта прочного духовного основания в жизни, того основания, которое так стремительно теряло образованное русское общество. Вне всякого сомнения, вступая в трудный диалог с «веком», поэт сохранял преданность воспринятым в детстве идеалам и ценностям положительной религии, однако нельзя не заметить, что эти ценности и идеалы были в некоторой степени трансформированы гуманистическим пафосом времени.
Так, герой лирического стихотворения «Сумасшедший» (1859) весь устремлен к идеалу любви и мечтает, совсем в духе времени, о «царствии небесном» на земле. При этом он утверждает в достижении мечты совсем не тот путь, на который призывают встать человека идеологи новой «веры», — не дух борьбы и взаимного уничтожения людей, а созидательная сила братской любви провозглашается им в качестве истины, способной привести мир к идеальному устройству.
Монолог «сумасшедшего» развернут в евангельском контексте обновления мира, но не во имя исполнения двух провозглашенных Христом заповедей, а лишь второй — «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39). В его воображении мир уже обновлен, с народов снята «печать проклятья» именно потому, что они отказались от вражды и примирились друг с другом. «Царствие небесное» на земле воплотилось ради человеческого счастья и существует не по дарованной Богом благодати, а по закону, установленному наукой. Наука вытеснила из жизни церковное предание — «вид ѣ нья отошли», а «невидимые херувимы» спустились с небес на землю:
«Настало царствiе небесное, — свѣтло, — Просторно… — На землѣ нѣтъ ни одной столицы, — Тирановъ также нѣтъ, — и все какъ сонъ прошло:
Рабы, оковы и темницы —
Науки царствуютъ — видѣнья отошли, Одни безумцы ими одержимы…
Чу! слышите, — поютъ со всѣхъ концовъ земли Невидимые херувимы» (I, 352).
Образ обновленного мира, восходящий к одному из видений Иоанна Богослова в тексте Апокалипсиса — о «новом небе и новой земле», в стихотворении Полонского получает значение социального рая. Восторжествовавшие в сознании героя всеобщее счастье и благоденствие народов напоминают утопии социалистов, в которых демократическое правление исключает разделение людей на «тиранов и рабов». На эту сторону изобразительности произведения обратил внимание Б. М. Эйхенбаум: «Это была одна из первых попыток Полонского “откликнуться” на то, что он сам называл “веяньями времени”, — попытка очень характерная, поскольку социальная тема дана в психологическом обличье. Утопическая идея всеобщего счастья вложена в уста “сумасшедшего”, который <…> объявляет, что “разрешил задачу”…» [Эйхенбаум: 267].
Ум и сердце героя стихотворения разделены: умом он признает характер социального рая, в то время как сердцу открывается спасительность жертвенной христианской любви. В финале его взволнованного монолога акцент смещается с изображения социального благополучия в область внутреннего человека, единственно предназначенную для утверждения в нем «царствия небесного» («Царствие Божие внутрь вас есть» — Лк. 17:21). Это из сердца героя стихотворения рвется «свободы райской гимнъ»:
«Ликуйте! Вѣчную привѣтствуйте весну!
Свободы райской гимнъ изъ сердца такъ и рвется!..
И я тянусь, тянусь, какъ лучъ, въ одну струну… — Чтд если сердце оборвется?!..» (I, 352).
Сердце обыкновенного человека хрупко и в любой момент может не справиться с той трудной задачей, которую берет на себя. Душа героя Полонского, движимого любовью к человечеству, открыта в бесконечность, и в этом ее сила и слабость одновременно. Она способна вместить в себя весь мир, но, не имея опоры в вере, в любой миг может погибнуть от непомерного груза ответственности. Если сравнивать образ героя Полонского как носителя божественной истины с образами библейских пророков, к чему нас подталкивает привлеченный автором контекст, то легко заметить главное отличие: его «сумасшедший», как герой-романтик, вдохновлен состраданием ближнему, тогда как библейские пророки — Божественной благодатью.
В свое время особенность романтического типа отношения к действительной жизни с точки зрения идеала абсолютной любви была замечена В. М. Жирмунским. Он писал: «Романтическая душа, такая чуткая к дуновениям бесконечности, кажется хрупкой, способной легко разбиться, потому что слишком великое бремя она берет на себя» [Жирмунский: 107]. Это «бремя» выносится с трудом и приводит к «разорванности» сознания, происходящей, по логике исследователя, «не от слабости душевной, а от полноты, от многообразия жизни, от зовов бесконечного, звучащих отовсюду» [Жирмунский: 108]. Таким образом, романтическое сознание не теоцентрично — оно тяготеет к пантеизму, отождествляющему Бога с его творением — земным и небесным миром. Из этого и проистекает душевный надрыв героя-идеалиста.
В других лирических произведениях Полонского, написанных в те же годы, мы видим, что романтически настроенный герой переживает гнетущую его душевную усталость как следствие противостояния идеалистического сознания прагматичному веку. Это особый вид усталости, которая усугубляется одиночеством в окружении людей, сосредоточенных на сиюминутных жизненных целях.
В стихотворении «Одному из усталых» (1862) близкий автору лирический герой Полонского ведет мысленный диалог со своим сверстником и указывает на общую для них разочарованность в обществе — «злой современности»: «повседневную суету», «старческую скупость» сердец и «ребячество» «гордого ума» людей нового поколения. Одинаково чужды автору и его мысленному собеседнику «сонм тиранов и льстецов» и
«…эта кучка маленькихъ бойцовъ, Самолюбивыхъ и въ припадкахъ гнѣва Готовыхъ бить направо и налѣво…» (I, 382).
Под напором новых веяний жизни отступает близкий лирическому субъекту стихотворения причудливый мир «фантазии народной», забывается подвижнический труд священства. Формы народной культуры, принятой некогда романтиками для постижения национального духа, равно как и религиозный мистицизм Средневековья, остались в прошлом, и о них с теплотой и сожалением говорится в стихотворении:
«…Прошли тѣ дни, когда лѣсную глушь
Преданье чудными духами населяло,
Когда отшельника незримо навѣщала
Семья оплаканныхъ имъ душъ,
Когда дитя фантазіи народной,
Со дна рѣки на свѣтъ луны холодной
Всплывала и его дразнила наготой
Русалка блѣдная съ зеленою косой;
Когда подъ шумный говоръ лѣса Пустынникъ, тихую лампаду засвѣтя, Молился, а его, какъ малое дитя, Хранитель-ангелъ блюлъ отъ бѣса, — И одинокимъ не былъ онъ,
Безплотныхъ силъ толпой повсюду окруженъ»
(I, 382–383).
Современного автору человека уже не вдохновляет возвышенность мечты и жизнь духа, он потерял главное свойство, необходимое для искренней и чистой веры — цельность души.
В процитированном отрывке выделяются аллюзии на произведения двух поэтов, занимавших особое место в творческом сознании Я. П. Полонского. Это А. Мицкевич и А. С. Пушкин. Поэма Мицкевича «Дзяды» (1822–1823) принадлежала к числу романтических произведений, прочитанных Полонским в юности и оказавших самое сильное воздействие на его впечатлительную душу6. Очевидно, наиболее ценностно значимым для него было выраженное польским поэтом глубокое и неизбывное страдание отверженной души и, вместе с этим, — абсолютное самоотвержение в любви. В стихотворении Полонского упоминается «отшельникъ», навещаемый «семьей оплаканныхъ имъ душъ», в котором угадывается один из центральных персонажей поэмы, сострадательный священник. Он ежегодно совершает традиционный для народа, хотя и запрещенный церковью, обряд поминовения всех усопших, включая нераскаянных грешников и самоубийц. Упомянутые Полонским «оплаканные» души — как раз те, которые по своим грехам лишены молитвенного поминовения и получают милость от человека, нарушающего церковное установление. Эта безусловная сострадательность и была особенно привлекательна для русского поэта. В процитированном выше отрывке также очевидна аллюзия на пушкинское стихотворение «Русалка» (1819), когда от лица лирического героя описывается «дитя фантазіи народной», дразнящее «пустынника» наготой. При этом снимается свойственный пушкинскому произведению иронический подтекст. Полонский показывает, как искренняя молитва поддерживается небесными силами и защищает «пустынника» от искушения.
Изображенный в стихотворении Полонского мир выстраивается в оппозицию «тогда/теперь»: «тогда», в романтическом прошлом, умами людей владели благородные стремления, возвышенные идеалы; «теперь», в «злой современности», утвердились низменные практические цели и суетные желания. Эта оппозиция уже не включает в себя лирического героя Полонского, который вместе со своим товарищем осознает недостижимость идеалов прошлого, живущих лишь в памяти, но также не может вполне присоединиться к новому времени. Как человек с «разбитой душой», он признает свою неспособность отделиться от общества и в «пустыне», как месте уединенного и свободного от повседневных забот духовного служения, забыть о суетных стремлениях:
«Мы отъ миѳическихъ годовъ съ тобой отстали
И унесемъ въ пустыню за собой
На днѣ души разбитой, но живой
Невыносимыя воспоминанья, Неутолимыя, законныя желанья, И жажду жить и двигаться съ толпой» (I, 383).
Герой Полонского осознает, что лучшей стороной своей души принадлежит прошлому, он дорожит духовной связью с идеалами былого романтизма. Развитие этой темы находим в стихотворении «Стансы» («Там, где скалистый берег моря…») 1866 г.7 Вспоминая русский идеализм 1840-х гг., время своего пребывания в пропитанной духом Пушкина и Мицкевича Одессе, а затем — на Кавказе, Полонский пишет, что тогда чувствовал в себе силы противостоять общественному злу, возвышенное стремление «торжествовать иль погибать»:
«Пора титановскихъ стремленiй, Духъ безкорыстнаго труда, Часы горячихъ вдохновенiй, Куда умчались вы? куда!‥
И вы — наивные титаны —
Гдѣ ваши тѣни!? — я одинъ… Еще брожу, скрывая раны, Какъ тѣнь живая межъ руинъ».
Вдохновленные бескорыстным служением человечеству романтики, полагавшие возможным переустройство мира соответственно идеалу, названные «наивными титанами», подобны Прометею, в нарушение воли Зевса даровавшему людям огонь. В этой аллюзии очевиден намек на тайную деятельность молодых польских патриотов, в которой принимал участие Мицкевич, и на сочувственное отношение Пушкина к идеям декабристов. Б. М. Эйхенбаум связывал эти строки именно с образами декабристов, в частности с М. Ф. Орловым, в 1831 г. получившим разрешение после Милятинской ссылки жить в Москве под жандармским надзором: «В доме Орлова Полонский увидел друзей Пушкина, помнивших 1812 год и переживших события 1825 года. Это было для него важнее философии Гегеля: перед ним встало героическое прошлое России — эпоха борьбы и подвигов…» [Эйхенбаум: 237]. Называя себя наследником «наивных титанов», безвозвратно ушедших в прошлое, поэт с болью говорит о своем одиночестве. Представляя лирического героя в образе «живой тени», он, очевидно, прибегает к аллюзии не только на мифический сюжет о Прометее, но и на поэму «Дзяды». Герой Мицкевича, страстно любивший и разочарованный в любви самоубийца, принадлежит «семье» нераскаянных душ, которые обречены на вечное скитание между тем и этим светом и за которых молился «отшельник» Полонского. Он, подобно прикованному к скале Прометею, вынужден каждый год возвращаться к тем местам, где испытал любовную страсть, которой вечно горит его сердце. Возвращаясь, он, как прежде, вонзает в сердце кинжал и предстает перед людьми с кровоточащей раной в груди.
Выражая ностальгическое сожаление о минувшей «поре титановских стремлений», Полонский принимает как неизбежность для современного человека «жажду жить и двигаться с толпой». В то же время он показывает, насколько агрессивен к человеку может быть «мятежный грозный век» и насколько опасно бывает неподчинение навязываемой им доктрине.
Трагедия человека, в прагматичный век сохранившего преданность вечному идеалу любви к человечеству, показана в стихотворении «Памяти В. М. Гаршина» (1888). Полонского глубоко потрясло известие о самоубийстве писателя, и он в своем стихотворении называет его причину:
«Въ сѣтяхъ любви и пустоты, Въ когтяхъ завистливаго рока, Онъ былъ не властенъ надъ собой; Ни жить не могъ онъ одиноко, Ни за одно брести съ толпой» (II, 370).
В этих строках нельзя не заметить явную перекличку с рассмотренными выше стихотворениями: гибель писателя показана как следствие душевной усталости человека, не смирившегося с духовной «пустотой» современной жизни. Антитезой «любовь — пустота» подчеркнута неразрешимость конфликтной ситуации, в которой оказался герой стихотворения Полонского: он не выдержал вынужденного пребывания в пустоте окружения, живущего без любви.
В начале стихотворения ясно показано болезненное состояние героя:
«Вотъ здѣсь сидѣлъ онъ у окна, Безмолвный, сумрачный… — больна Была душа его, — онъ жался, Какъ бы отъ холода, глядѣлъ Разсѣянно и не хотѣлъ
Мнѣ возражать, — а я старался Утѣшить гостя и не могъ» (II, 369).
Мотив болезни в тексте рассматриваемого стихотворения многозначен. Он служит выражению физического и психического состояния героя, и одновременно получает расширительный смысл. Через конкретную человеческую судьбу мотив болезни накладывается на судьбу поэта как такового, художника, сосредоточенного на возвышенном служении, не понятого и не принятого своим окружением. Автор стихотворения восклицает:
«…“Поэтъ! — больное
Дитя!‥ Ужель въ судьбѣ твоей Есть что-то злое, роковое, Неодолимое!..”» (II, 371).
Писателю всегда важно услышать отклик на сказанное им слово, важно быть оцененным, но довлеющая над ним «толпа» на это не способна. Удручающее одиночество в «толпе» мучило и самого Полонского. В 1884 г. он с горечью писал одному из своих адресатов о невостребованности собственного таланта: «Для толпы нуженъ смѣхъ сатиры Салтыкова или разсказы Горбунова, или нужна трескучая высокопарная риторика со-временнаго вкуса»8.
Наконец, логика авторских рассуждений о причинах трагедии Гаршина приводит к пониманию того, что на самом деле болен не поэт — больно общество; «больной наш свет» требует от поэта невозможного — подчинения таланта злобе дня — и пытается лишить его главного и жизненно необходимого — свободы. Именно так трактуется поэтом жизненная катастрофа конкретной человеческой судьбы, хотя намечена в стихотворении и нереализованная возможность ее избежать.
Перед читателем ставится вопрос о вере, утраченной человеком в век торжествующего материализма и единственно способной исцелить «больную душу». Автор стихотворения с сожалением пишет о том, что путь духовного исцеления для героя стихотворения оказался закрытым:
«Быть можетъ, вѣры въ исцѣленье
Онъ жаждалъ, а не утѣшенья;
Но гдѣ взять вѣры!? — Слово “Богъ”
Мнѣ на уста не приходило;
Молитвъ цѣлительная сила
Была чужда обоимъ намъ…» (II, 370).
Итак, пройдя через увлечение идеализмом 1840-х гг., испытав влияние гуманизма 1860–1870-х, в 1880-х гг. Полонский обозначает путь для исцеления «больной», «разбитой» души современного человека. Этот путь связан с возвращением к той самой «наивной» вере, которую поэт сознавал в себе юношей. Лирический герой Полонского 1880-х гг. отходит от проблем общественной жизни, что послужило основанием для следующих суждений Б. М. Эйхенбаума: «В стихотворениях Полонского последних лет <…> общественные темы почти исчезают — он возвращается к интимной лирике, разрабатывая преимущественно мотивы старости и смерти <…> образы и темы, прямо восходящие к ранним стихам и замыслам» [Эйхенбаум: 274]. Между тем нельзя не заметить, как «узкий» диапазон интимной лирики поэта двух последних десятилетий его жизни разворачивает внимание читателя в область вечного — жизнь духа, веры, истории, поэтического творчества.
К вечным смыслам жизни и православным ценностям устремлен в своей лирике Полонский — автор стихотворений, объединенных нами во вторую формально-содержательную группу: «Стансы», «Умирающий», «У храма», «Вечерний звон», «Золотой телец», «15 июля 1888 года». В них убедительно показаны пути нового обретения евангельской правды жизни.
Так, стихотворение «Стансы» (1888) начинается строками:
«Не нужны Божьимъ небесамъ
Явленья призрачныя… Вѣчность — Одно спасетъ и сохранитъ, —
Божественную человѣчность» (II, 391).
«Божественная человѣчность» Христа в нескончаемой цельности Его любви принадлежит вечности, тогда как «раздробленность» души неверующего человека неминуемо приводит к физической болезни и смерти, без надежды на спасение. Так считает поэт, рассказывая о страданиях умирающего материалиста, жизнь которого проходила в свободе самоутверждения и поисках новых чувственных наслаждений:
«Любилъ онъ книги, но и грубыми дѣлами
Не брезгая, шагалъ въ одномъ ряду съ дѣльцами. Враги, которымъ онъ порой лукаво льстилъ, За злой языкъ его преслѣдовать не смѣли;
Любя какъ эгоистъ, онъ женщинъ не щадилъ, И женщины предъ нимъ благоговѣли»
(«Умирающiй» — II, 331).
Лишь настигшее героя стихотворения физическое страдание заставляет его задуматься о том, что свобода была мнимой, а на самом деле он являлся рабом собственной плоти. Эта истина звучит из уст самого «умирающего»:
«И вотъ, та плоть, которую я холилъ
И услаждать себя неволилъ,
И почиталъ единосущнымъ съ “я”, Началомъ и концомъ земного бытія, — Та плоть, которую любилъ я — повалила Меня, какъ лютый звѣрь, какъ жертву прикрутила Къ постели и заставила стонать…» (II, 333).
Из последующего монолога героя стихотворения читатель узнает, что предсмертные страдания открыли ему глубинный смысл бытия, заключенный в евангельских заповедях Христа о любви к Богу и ближнему:
«Блаженъ, кто вѣритъ до конца, Кого не тѣшитъ временная слава, И чья любовь ко всѣмъ даетъ святое право Сказать: — “Я сынъ Небеснаго Отца”… Но я не изъ числа блаженныхъ:
Униженныхъ и оскорбленныхъ Я братьями своими не считалъ;
По-рабски тѣшился, по-рабски и страдалъ…» (II, 335–336).
В этом монологе разрешается духовная коллизия, обозначенная в стихотворении «Сумасшедший»: любовь к ближнему объединена с любовью к Богу и признанием Его воли. Однако из завершающих поэтический текст строк очевидно, что прозрение героя не привело его к полному покаянию и вряд ли будет спасительным.
Показан Я. П. Полонским и другой путь откровения конечной истины, путь, который дает надежду на возвращение цельности души и ее спасение, — это молитвенный труд, открытый лирическому герою стихотворения «У храма» (1886–1889) и ряда других текстов, написанных в последние годы жизни поэта. Эти стихотворения исследователями советского времени порицались «за повторяемость мотивов, многословность описаний, расслабленность стиха», а также за то, что в них «самодовлеющее значение приобретает религиозная символика». «Она заметна, — писал А. И. Лагунов, — и в поэтических описаниях природы, и в размышлениях, которые иногда облекаются в форму притчи» [Лагунов: 61]. На наш взгляд, именно этой своей стороной — «религиозной символикой»
изображенной поэтом в стихотворениях 1890-х гг. бытовой картины, которая и позволяет говорить о притчевом построении, они могут заинтересовать современного читателя.
Несомненно символично воссозданное в стихотворении «У храма» возвращение сознания автора к канонам церковной жизни: душа лирического героя просится в Божий храм. Трудная дорога возвращения описана поэтом в деталях, близких Крестному пути Христа на Голгофу:
«Душный день догоралъ, Дальній звонъ меня звалъ, И какъ въ рай, въ Божій храмъ Запросилась душа.
И спѣша, и дыша Тяжело, по пескамъ, По лѣсистымъ буграмъ Шелъ я, блѣденъ и хилъ, Точно крестъ волочилъ, И дошелъ до воротъ, Гдѣ тѣснился народъ» (II, 363).
В воображении близкого автору лирического героя встает знакомое ему с детства убранство православного храма:
«Жаждалъ видѣть я рядъ Посребренныхъ лампадъ, Запрестольныхъ свѣчей Седмь горящихъ огней; Созерцать въ золотыхъ Ризахъ лики святыхъ» (II, 363–364).
В нем оживают сохраненные глубоко в памяти впечатления от участия в богослужении: слышна гармония «певчих хоров», вновь испытано блаженное воздыхание «в теплом дыме кадил». Вместе с конкретикой церковных реалий поэтом воссоздается отвлеченное духовное пространство «вѣковѣчныхъ небесъ», куда всецело устремлена душа героя:
«Какъ надъ быліемъ лѣсъ, Надъ землей, надо мной, Надъ церковной главой
Вѣковѣчныхъ небесъ
Разстилалася высь» (II, 365).
Хотя герой Полонского оказывается духовно не настолько зрелым, чтобы оказаться в храме, всем своим существом он расположен к молитве и, находясь вблизи храма, видит себя молящимся внутри:
«И ужъ я сознавалъ,
Что я въ храмѣ стоялъ, — Въ храмѣ, полномъ огней, Перелетныхъ лучей, И невидимыхъ крылъ, И невѣдомыхъ силъ» (II, 365).
В последних произведениях Полонского, наряду с безмерностью духовной области, воссоздается картина воображаемой творческим сознанием поэта действительной жизни, в которой он стремится найти общий закон, связующий материю с духом. В результате привлечения библейских сюжетов им устанавливается очевидная обусловленность внешних обстоятельств жизни духовным состоянием человека и общества.
Ветхозаветный «сюжет о золотом тельце» в мире лирического поэта накладывается на современную картину жизни и позволяет понять, насколько глубоко проникли во все ее основания низменные интересы корысти и обогащения, вытеснившие веру в Бога:
«Обожествленный прахъ земной
Сталъ выше духа, — онъ толпой Такъ высоко превознесенъ, Что геній имъ порабощенъ И праведникъ ему не святъ.
Недаромъ всѣ ему кадятъ…» («Золотой телецъ» — II, 404).
При всей безмерности влияния торжествующего «золотого тельца», поэту ясен исход такой жизни, предсказанный в Откровении Иоанна Богослова: мир, основанный на неправедном предпочтении плотских стремлений духовным, неминуемо рухнет. В финале стихотворения как раз и показано предположительное падение мира, забывшего Бога и поклонившегося «всесвѣтному кумиру»:
«Вѣдь, если-бъ, вдругъ, упалъ такой
Кумиръ всесвѣтный, роковой, Языческій, землѣ — родной, — Какой бы вдругъ раздался стонъ! — Вѣдь помрачился-бъ небосклонъ И дрогнула бы ось земли!‥» (II, 405).
Та же зависимость физической жизни человечества от состояния его духа показана в стихотворении «Вечерний звон» (1890). Полонский проводит параллель между лирой как символом поэтического творчества, обращенность которого к будущему всегда им утверждалась, и колоколом как символом церкви во вневременной ее ценности. В последние годы жизни Полонский постиг, что даже устремленная в будущее поэзия невозможна вне Бога и церкви:
«Но жизнь и смерти призракъ — міру
О чемъ-то вѣчномъ говорятъ, И какъ ни громко пой ты, — лиру Колокола перезвонятъ» (III, 34).
Колокольный звон как символ храма и веры осознан зрелым поэтом в качестве источника творческого вдохновения:
«Вечерній звонъ… — душа поэта, Благослови ты этотъ звонъ, — Онъ не похожъ на крики свѣта, Спугнувшаго мой лучшій сонъ» (III, 33).
В процитированных строках привлекает внимание упоминание автором «лучшего сна». В этом образе очевиден намек поэта на характер собственного сознания юных лет, на то самое умиротворенное состояние духа, которое давала «наивная» вера. Сформированная детским и отроческим опытом в лоне «богомольной и патриархальной» семьи, она была подвергнута испытанию в студенческие годы идеалистической немецкой философией, культивируемой в Московском университете 1840-х гг., а позднее — окружением образованного русского общества 1860-х гг., усвоившего идеи европейского позитивизма и идеологию прагматизма.
Ценностно маркированные образы и мотивы, выделенные в произведениях второй группы избранных сочинений поэта, показывают путь преодоления им воспринятой из контекста времени идеи «гуманизации» религии и обретения вновь церковности религиозного сознания. В лирических произведениях позднего творчества поэт приходит к построению ценностной картины, объединяющей иррациональность канонического православия с духовно просветленным научным мышлением и служением поэтическому дару:
«Жизнь безъ Христа — случайный сонъ. Блаженъ кому дано два слуха, — Кто и церковный слышитъ звонъ, И слышитъ вѣщій голосъ Духа.
Тому лишь явны небеса, Кто и въ наукѣ прозрѣваетъ Невѣдомыя чудеса
И Бога въ нихъ подозрѣваетъ…» («15 iюля 1888 года» — II, 376).
Литературная позиция позднего Я. П. Полонского получила отчетливое и ясное выражение в эстетической дискуссии с Л. Н. Толстым, развернувшейся в 1890-х гг. Известно, что кардинальное расхождение двух умудренных годами писателей в вопросе об отношении искусства к освящаемым церковью жизненным ценностям привело к охлаждению их личных отношений. В ответ на письмо Толстого, зовущего к примирению в этом споре, Полонский был непреклонен и 14 апреля 1898 г. написал: «Между нами прошла пропасть, так как вы отрицаете все для меня святое — все мои идеалы: Россию, как народ и как государство, церковь и проповедь, таинство брака и семейную жизнь, искусство и присущую ему красоту — все это Вы готовы были смести в одну сорную кучу»9.
Подводя итог вышесказанному, заметим, что на протяжении многих лет своей творческой жизни Я. П. Полонский искал образы, способные открыть во всей полноте те жизненные ценности, которые он признавал и которыми щедро делился. Творческое сознание поэта в рассматриваемый период в значительной степени было обусловлено верой в Бога и определялось рецепцией библейского текста. В то же время лирика зрелого творчества поэта отразила сложный период отхождения русского общества от прочных оснований жизни, культивируемых Православием. В ряде стихотворений 1860–1870-х гг. обнаруживается влияние утвердившегося в обществе «гуманистического» сознания. Не отступая от ценностного мира православной церкви, Полонский интерпретирует в духе времени представление о Царствии Небесном как цели совершенствования общественных отношений. Образ лирического героя произведений, отнесенных нами к первой формально-содержательной группе, содержит аллюзии на подвижнический путь не принятых косным обществом пророков и связан с мотивами одиночества, душевной усталости, «сумасшествия» человека «не от мира сего». Произведения, отнесенные ко второй группе, имеют обобщенно-притчевый характер. В них выделяются в качестве смыслообразующих мотивы покаяния, спасения души, молитвы, а также топос православного храма и символика колокольного звона. Мотивы Страшного суда и Апокалипсиса трактуются Полонским в контексте отпадения значительной части современного поэту русского общества от веры и Церкви, ценностно выделенных в лирике последних лет его жизни.
Примечания
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-04-00501-ОГН
-
1 Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания // Полонский Я. П. Проза. М.: Сов. Россия, 1988. С. 365.
-
2 Яковъ Петровичъ Полонскій. Полное собраніе стихотвореній. СПб.: Изданіе А. Ф. Маркса, 1896. Т. 1. С. 438. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома (римской цифрой) и страницы в круглых скобках.
-
3 Полонский Я. П. Письмо М. М. Ледерле. От 10 октября 1891 г. // Архив М. М. Ледерле. ОР РНБ. Ф. 426. Ед. хр. 37. Л. 12.
-
4 Полонскій Я. П. Стихотворенiя Мея // Русское слово. 1859. № 1. С. 67.
-
5 Цит. по: Тхоржевский С. С. Высокая лестница // Тхоржевский С. С.
Портреты пером: исторические повести. Л.: Советский писатель, 1984. С. 464.
-
6 Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания. С. 382.
-
7 Приводим название и цитируем текст по первой публикации: Полонский Я. П. Стансы («Там, где скалистый берег моря…») // Женский
вестник. 1866. № 1. Сентябрь. С. 190. В последующих изданиях он был значительно переработан и получил название «Спустя 15 лет».
-
8 Письмо В. П. Гаевскому. От 23 февраля 1884 года // Архив В. П. Гаевского. ОР РНБ. Ф. 171. Ед. хр. 226. Л. 23.
-
9 Цит. по: Л. Н. Толстой: К 120-летию со дня рождения (1823–1948) / коммент. и ред. Н. Н. Гусева. М.: Гос. лит. музей, 1948. Т. II. С. 214.