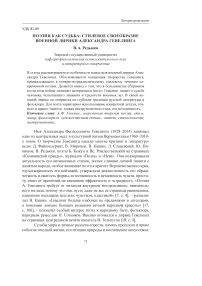Поэзия как судьба: стилевое своеобразие военной лирики Александра Гевелинга
Автор: Редькин Валерий Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности идиостиля военной лирики Александра Гевелинга. Обосновывается концепция творчества Гевелинга, принадлежащего к конкретно-реалистическому стилевому течению современной поэзии. Делается вывод о том, что в большинстве сборников поэта тема войны занимает центральное место. Гевелинг пишет о судьбе человека, испытавшего лишения и трудности военных лет. В своей военной лирике он опирается на глубокие традиции русской литературы и фольклора. Для поэта характерны использование конкретной детали, точного и яркого эпитета, тонкая инструментовка стиха, его мелодичность.
А.ф. гевелинг, современная тверская поэзия, стиль, жанр, фольклоризм, художественная деталь, эпитет, стихосложение, инструментовка
Короткий адрес: https://sciup.org/146281574
IDR: 146281574 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Поэзия как судьба: стилевое своеобразие военной лирики Александра Гевелинга
Имя Александра Феодосьевича Гевелинга (1928–2014) занимает одно из центральных мест в культурной жизни Верхневолжья 1960–2010х годов. О творчестве Гевелинга писали многие критики и литературоведы: Д. Файнгелеринт, В. Миронов, В. Кашин, Л. Сланевский, Ю. Ни-кишов, В. Редькин, поэты Б. Кежун и Вс. Рождественский на страницах «Калининской правды», журналов «Волга» и «Нева». Они подчеркивали актуальность его антивоенных стихов, тесное слияние личной памяти с памятью народа, особое внимание поэта к красоте Верхневолжского края, одухотворенность его пейзажей, утверждали реалистичность его образа, четкость и сжатость формы, естественность и незаемность чувств, простоту, отказ от претензий на внешнюю эффектность и эстрадность. «Поэзия А. Гевелинга требует от читателя внутренне неторопливого, внимательного взгляда, потому что она, пусть даже не все ее страницы равноценны, одинаково насыщена мыслью, чувством, пластикой» [7, с. 4], – размышлял В. Кашин. «Гевелинг больше озабочен не преданиями и легендами, а поисками доныне бьющих родников вечной народной красоты» [17, с. 166], – подмечал особый интерес поэта к народному быту, фольклору, народным ремеслам Н. Сотников. Высоко отозвался о лирике Гевелинга на страницах центральной печати писатель В. Тельпугов [18, с. 4].
Судьбы мира и личные радости-горести, память прошлого и яркие события текущей жизни, поэтизация природы и восхищение искусством, бытовые зарисовки и глубокие раздумья – все это не признаки индивидуальности, а скорее приметы современной поэзии, отражающей и типизирующей многогранность интересов и запросов человека второй половины ХХ века. Характерные проблемы, темы, жанры встретим мы и в творчестве А.Ф. Гевелинга. В чем же его неповторимость? Наверное, в собственной судьбе, характере, биографии поэта.
Вся жизнь, все творчество Александра Гевелинга связаны с землей его прапрадедов – Верхневолжьем. Образ Волги в стихах А. Гевелинга воплощает согласие и гармонию, связывая читателя цепью ассоциаций со всем, что близко и дорого поэту: детством («Река молоденькая вьется в своих кудряшках-берегах», «Здравствуй, девочка, дай на тебя наглядеться»), порой любовью («Река владычествует мной, / не баловством – очарованьем, / а мудрой женской красотой». «И глубина все нарастает, и глубине не прекословь… / Мне глубину напоминает твоя спокойная любовь». Родиной, возникающей то эпическим образом «государыни-реки», то глубоко интимным лирическим портретом любимой девушки, а может быть, дочери: «Голубые глаза нараспашку, / В кулачке луговая ромашка…». «Я приду к тебе, краса моя, / Только взором позови, / Прошептать вот это самое / Объяснение в любви» [6, с. 65].
А. Гевелинг относится к поколению писателей, чье детство пришлось на суровые годы войны. Единство народа перед лицом фашистской агрессии, героизм на фронте и самоотверженность в тылу, своеобразная соборность, братство, которые в то время сложились в нашем обществе, отодвинули классовую, национальную, религиозную вражду на второй и третий план и заложили, видимо, в мирочувствовании поэта такие основы душевной гармонии и красоты, которые не смогли разрушить никакие подлости и предательства властей, сложности быта и личной жизни. Каждая книга стихов А. Гевелинга является оригинальным жанровым образованием, в котором тема войны занимает центральное место. «Книга стихов» как нечто целостное, воплощающее авторский взгляд на ту или иную проблему, – явление «типичное для тверской поэзии» [12, с. 93]. В таком поэтическом сборнике, по словам С. Ю. Николаевой, «присутствует яркий образ автора (лирического героя), выдержано единство тематики и проблематики, реализуется целостный мотивный комплекс, соблюдается определенная последовательность в развертывании сюжетов и образов, продумана композиция» [Там же, с. 94]. Личные воспоминания и автопсихологические мотивы и образы, связанные с военным временем, стали органической частью поэтической системы Гевелинга:
Дома пусты. Глазницы окон строги.
Над «Пролетаркой» вытянулся чад.
– Не вздумайте по Бежецкой дороге:
На бреющем стреляют
И бомбят… [2, с. 15].
Эти строки написаны по личным впечатлениям. На фронте погиб старший брат А. Гевелинга. Суровое время заставило будущего поэта временно прервать учебу. В годы войны ещё подростком Гевелинг работал киномехаником в кинотеатрах «Звезда» и «Новопромышленный», что находился на месте нынешней площади Терешковой. Это был просто-напросто сарай. Во время бомбежек демонстрацию фильма прекращали, но людей не выпускали, чтоб избежать паники. Потом трудился в госпитале с выездами в близкие к фронту медсанбаты. С тяжелым ранением, ожогами провалялся в госпитале больше трех месяцев.
По словам самого поэта, стихи он полюбил рано. «Бессознательно очаровался строгой организацией слов, острой метафоричностью. И, естественно, от любви к стихам до первой попытки сочинять их самому – один шаг» [20, с. 4]. Скупые радости были связаны с творчеством. «В августе 1945 года в «Пролетарской правде» было напечатано мое стихотворение, посвященное солдату, вернувшемуся с фронта, – продолжает Александр Феодосьевич свои воспоминания.
Некоторым стихам Гевелинга свойствен, если можно так выразиться, документализм. «Правилам своим я старался не изменять, всем…». Однако большого значения своим поэтическим упражнениям А. Гевелинг вначале не придавал, – признавался поэт. – Если писал что-то сюжетное, или близкое к сюжетному, тогда не выдумывал». Так, стихотворение «Талант» родилось от конкретной встречи в Сонковском районе со стариком, как-то по-особенному слушающим старые патефонные пластинки. Поэт почувствовал в нем какие-то душевные струнки, подметил его необычность и почти досконально рассказал обо всем в своем стихотворении. Личные впечатления от поездки на Дальний Восток легли в основу стихотворения «Надежда». Старый, отслуживший свой срок корабль покрасили и установили на вершине сопки. Красиво. Но там устроили кабак… С подорвавшимся на мине героем стихотворения «Петька Скурихин» поэт в юности лежал в одной палате госпиталя: «Слеп и глух и без обеих рук. / До крови прикушенные стоны. / Он молчал – И стыло все вокруг…» После публикации стихотворения сержант, все-таки оставшийся в живых, откликнулся, рассказал о своей дальнейшей судьбе. Зрение ему не спасли, но слух наполовину вернули. Врачи ему сделали операцию на утраченных руках так, что лучевые кости стали как клещи и он мог ими что-то брать. Он закончил институт, стал историком.
И герой другого стихотворения – солдат Балакирев – тоже вполне конкретная личность, только в реальности у него была не только медаль. «Я люблю быть документальным, – говорил поэт. – Элемент достоверности, указание места или имени прибавляет веры в то, что это действительно происходило». Конечно, обычно лирику все-таки документальной не называют. У Гевелинга она скорее исповедальна. «Если бы я об этом не думал, если бы меня это не волновало, я бы за перо не брался, – развивает он свою мысль. – Ничего бы не вышло».
Главное ощущение, которое остается у читателя после прочтения произведений А. Гевелинга, – это естественность стиха, непосредственность выражения чувства, непринужденность и раскованность общения. Именно таких поэтов, как Гевелинг, имел в виду А. Твардовский, когда писал: «В поэзии нельзя притворяться взволнованным, если не взволнован по-настоящему, чувствующим так-то, если не чувствуешь так на самом деле» [19, с. 71]. Предельно искренни его стихи о боевом товариществе, о солдатских медальонах – бессмертных свидетельствах утрат. Предельно сжатая строка медальона, свидетеля смерти – лишь имя, адрес и – бесконечно богатая реальная, во многом не сбывшаяся жизнь:
Ну что он пожил?
Девочка-веснушка,
Совсем еще не ясный, школьный взгляд.
А потому – горячая подушка (О ней не знает райвоенкомат). Еще лесные вздохи медуницы, Дымком рыбацким сдобренный закат И Лермонтова тяжкие страницы (Про то не знает райвоенкомат) [1, с. 18].
Все это прошло через его жизнь, через его сердце. Тема войны в его стихах развивается настолько зримо и подлинно, что критик Н. Сотников, невольно впадая в заблуждение, называет и самого Гевелинга «фронтовиком» [17, с. 167]. Действительно, в чем-то эти стихи сближаются со стихами поэтов фронтового поколения Н. Старшинова, М. Дудина, С. Орлова, В. Жукова, но звучат они «на редкость молодо, дерзко, а некоторые строфы даже задорно», тональность, «поэтический эффект возникает в результате наложения двух пластов понятий, связанных с войной и мирной жизнью природы редкая для наших дней» [Там же, с. 168]. Другое дело, что образы, основанные на «фронтовых» ассоциациях, могут быть стертыми, повторяющимися, а могут блеснуть новизной, благодаря поэтическому мастерству автора. Вот к этому и стремится поэт. Стихотворения «Вечный огонь», «Военная кинохроника» хороши своей яркостью, открытой публицистической напористостью: «У вечного огня тревожный свет, / Тревожный блеск – ему покоя нет». За эти стихи в 1970 году автор получил премию на областном литературном конкурсе. Поэт рассказывает о тех, кто прошел войну, и их наследниках, живущих в наше время, развивая мысль о преемственности поколений. Поэт-державник Гевелинг посвящает стихотворение «Застава» и поэму «Верность» пограничникам, охраняющим покой родной земли, воспевая их скромный, но важный труд: «Богатырское слово: Застава – / Щит и меч работящей страны». В этих стихах, по словам Л.В. Сланевского, «восхищение героическим подвигом народа-богатыря органически сочетается с призывом к бдительности» [16, с. 4].
Но большинство стихов, связанных с военной тематикой, сильны всей совокупностью, образной системой. В стихотворном рассказе о бывшей партизанской столице: «Гудит старый шмель на манер бомбовоза», «Рядовой медведь зиму спал в штабной землянке», «И дивятся у межи, что на просеке, в чащах, / Настоящие ежи на ежей ненастоящих». В пейзажном стихотворении «Зацвели подснежники в октябре» сравнение снега со свинцом вносит тревогу, даже драматизм. Именно в этом, как оказалось, залог того, что большинство стихов Гевелинга не устарели. Соловей в центре города у поэта, «словно пуля», пробивает густой моторный рев. И это неожиданное сравнение запоминается, хотя и лежит на грани рационализма. Конечно, у Гевелинга был период ученичества со свойственной 50-м годам риторикой. Но уроки не проходили даром. Если в первых сборниках гроза сравнивалась с орудийным громом, колхозное поле с полем боя, трактор с танком, то позднее он избавился от подобных штампов и выработал свое видение мира.
Для поэта-реалиста поэзия – это святое ремесло. «То ли в пляске пламени и дыма, / То ли в сонном шелесте ольхи / Чудятся неслышимо-незримо / Жаркие бродячие стихи».
Среди выразительных средств в поэзии Гевелинга особую роль играет эпитет. Действительно, эпитет А. Гевелинга чаще всего точен и емок. Саперы – « тревожные дети мира», мина – « терпеливое чудище», « бессонная амбразура» старого дота, на постаменте стоит танк-«трид-цатьчетверка», «как замерший бросок неодолимой стали» и т.д. Появляется ощущение движения, развития всего окружающего: «Вот земли касается новенький АН-2, / Из-под винта спасается бегучая трава». При этом эпитет, чаще всего, эмоционально насыщен: «унылая досада», «теплый уют», «трескучая стужа», «промозглая прохлада», «затерянный путник», «сыпучая дорога», он обычно соотнесен с главной мыслью произведения: «тонкая, бегучая вода», «рыхлая, захватанная» проза, «расплывчатый» утренний свет, «прикушенные» стоны. А в результате возникает живая, яркая картина, динамичная, с прорисовкой не только настоящего, но и прошлого.
Конечно, поэт не отказывается и от метафоры и олицетворения, но не нагнетает их. Можно говорить об оркестровке в поэзии Гевелинга, роль которой выполняют не только ритмико-метрическая и синтаксическая организация стиха, различные повторы и параллелизмы, но и звуковая метафора, ассонанс и аллитерация.
Ассонансы и аллитерации помогают передать ощущение засыпающей осенней природы: «И колышется стая, / Долго тая вдали. / Улетают и тают / Господа журавли». Конечно, чаще оркестровка скрытая и более скромная: «Только где б я чужаком ни проходил, / Возвращался я на Родину опять, / Чтоб поплакать у отеческих могил, / У солдатских обелисков помолчать».
Мы найдем у Гевелинга сильные, волнующие антивоенные стихотворения, ряд произведений, прославляющих Советскую Армию, разгромившую фашизм, защищавшую границы нашей Родины. Прошлое, настоящее и будущее армии неделимо – утверждает он в своем триптихе «Солдаты», а в стихотворении «Старый дот» поэтизирует мальчишек, игравших в войну, будущих носителей славных боевых традиций: «Я славлю эту маленькую крепость / И мальчиков, играющих в войну». Сейчас это увлеченье прошло, сейчас все больше компьютерные игры, но «мода» на защиту себя, своих близких, своей страны, несомненно, возродится. Надо было иметь мужество в годы застоя и всеобщего благодушия написать, например, такие строки: «Мальчишки, / Не рисуйте голубей, / Солдатами Отечества растите». Это не могло понравиться ни лживым миротворцам официальных властей, ни интеллектуалам, сделавшим уже в то время ставку на поражение собственного Отечества в холодной войне с Западом. Террор общественного мнения обычно не меньше давит на поэта, чем, скажем, официальная цензура. Но самостоятельно мыслящий подлинный интеллигент вправе иметь собственное мнение. Для поэта характерно доброе, отеческое, но без снисхождения, отношение к молодым, начинающим воинам. Рассказ о современных саперах, не видевших войны, он начинает строкой «тревожные дети мира», и слово «тревожный» отбрасывает тень своего смысла на все стихотворение, включая его глубоко выстраданный вывод: «Мы выжили в сорок первом, / И нет ничего больней / Сознанья, что мы в резерве / У собственных сыновей» [5, с. 24].
Понятия «дети мира» и «собственные сыновья» сливаются воедино. Для определенных по мысли, реалистических по форме стихов Гевелинга характерна «замкнутая» структура. Чувствуя себя посланцем «тех взорванных, невыплаканных лет», поэт не боится сказать жестокие, но правдивые слова: «Да будет свято ядерное чрево моих всеотрезвляющих ракет».
Вообще, А. Гевелинг любит четкую, сжатую формулировку мысли и часто заканчивает стихотворение афоризмом, который как бы вытекает из предыдущего лирического повествования. Именно так построены стихотворения «По дороге в Нормандию», «Ни строчки сегодня в тетради…», «Январь 1971 года» и другие.
«Чужбиной потому и называется / Глухая неотвязная беда, / Что тело там, возможно, приживается, / Но души / Умирают навсегда» [Там же, с. 79], – заканчивает поэт стихотворение о духовном одиночестве березки-эмигрантки – читай, русского человека, оторванного от привычной среды. И характерно, что первоначальная редакция была утвердительная:
«Тело на чужбине приживается» [4, с. 10], а при редактировании текста поэт вставил это неопределенное – «возможно». Ему трудно поверить, что и физически можно существовать без Родины.
«Красные кресты – не панацеи, / Когда над ними – черные кресты», – по законам гуманизма нельзя судить откровенных носителей зла, делает вывод поэт из факта, что фашисты бомбили, уничтожали раненых. Неожиданно резок, но справедлив вывод о сути приспособленчества и конформизма в нашем обществе в стихотворении «Чайка». Но он не исчерпывает всей глубины произведения. Красивая, вольная птица, променявшая свободу парения над волной на свалку отходов зверофермы, гордая своим «кругло выпирающим брюшком», становится, с моей точки зрения, символом бездуховности застойного времени, ставшего питательной средой беззастенчивого стяжательства и грабежа своего ближнего, свойственного следующей эпохе. «Белый не постиранный убор» падкой на падаль птицы только подчеркивает нравственную нечистоплотность тех, кто втянут в этот процесс. Но суть даже не в грехопадении. Теряется главная ценность – разрушается личность. Это уже «не ворона и не чайка», подчеркивает автор.
Общепризнанна мысль о том, что одна из отличительных черт русской культуры – в ее соборности, в способности ее носителя к сопереживанию. Идея отчуждения подчас господствует в мире, одна среда непроницаема для другой, один индивидуум замкнут для другого: «Не растворится в небе птица, / И не сольются спирт и ртуть. / Вот так. Прочерчена граница / И не посмей перешагнуть», – констатирует поэт. Но он не за стирание личностного начала, как в революционно-романтической поэзии пореволюционных лет, а принципиально утверждает возможность проникновения одного «Я» в другое: «И две среды нерасторжимы. / Все очень просто: / Ты – во мне!» При этом происходит перерастание лирического «Я» в лирическое «Мы», но сохраняется ценность каждого имени. «Мы двадцать миллионов поименно не знаем и узнаем ли навряд», – сетует он о погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Все стихи А. Гевелинга ориентированы на современность. Я – «сегодняшний», – прямо утверждает он в стихотворении «Военная кинохроника», наше время – точка отсчета в стихотворении «Медальон». «И никто не скулил, мол, и это не ладно, и то выше сил», – вспоминает он о войне, а фактически призывает и теперь дело делать, а не разглагольствовать.
Александр Гевелинг умеет найти точную, живописную, запоминающуюся деталь. «Уселась на пенек Наташа или Катя и штопает чулок, распялив на гранате…», «концентратная каша, котелок на двоих» – таковы реальные черты фронтового быта. Рисуя чешский город Табор после дождя, поэт замечает «вспыхнувшую черепицу окрашенных солнцем крыш», подчеркивает яркие детали народного быта. Утверждая мужество в повседневной жизни и верность боевым традициям, он пишет в стихотворении «Братство»: «На армейской подковке просто крепче шаги», а в стихотворении «Меня учили плавать очень бережно…» к обобщениям о сути поэзии он приходит от бытовых штрихов.
Естественно, что и лексику поэт использует не только общелитературную, но и профессионализмы, связанные в основном с солдатской жизнью: обоймы, взрывпакеты, базуки, маневры и т. д. Широко представлено просторечие: «травит рыбацкие байки», «запилила тракториста жена», «отменных кровей зверюга». Впрочем, обсценной лексики, которая сейчас хлынула в печатное слово, Гевелинг не любит. Не спешит он использовать и модное иностранное словечко. Дорог ему русский язык. Любит он его и не хочет разрушать и калечить. Точность в его словоупотреблении отмечала и критика. Так, В. Кашин замечает: «Известно, что жилье возводят. У А. Гевелинга читаем: «В две саперных лопаты / Низводили жилье». Дело всего лишь в одной приставке, крохотное «уточнение» внутри слова, а как оно хорошо и емко, «низводили», – потому что речь идет о блиндаже, потому что – война» [7].
За обычными явлениями жизни у Гевелинга стоят глубокие обобщения, поистине народные характеры. Мысль в произведениях Гевелин-га вытекает из конкретной эпической и лирической ситуации, иногда она формулируется самим поэтом, но чаще постигается читателем исподволь. Поэт испытывает гордость за то, что он представитель русской национальной культуры, хотя ему и бывало горько и обидно, что, скажем, в самолете, следующем рейсом Москва – Париж, надпись «Не курить» дается на французском, английском и немецком языках, а на русском ее нет. А тем более больно видеть надпись на мраморной плите маленького городка в Нормандии, где высаживалась союзническая армия в 1944 году, – «Ключ к освобождению Европы»: «Я печалюсь о смерти / Заморских ребят. / Я скорблю на могилах / Английских солдат. / Мне погибший француз – / По оружию брат. / Только как же забыли тебя, / Сталинград?» [4, с. 28].
«Не может русский человек в своей работе забывать, что он русский», – считает поэт. Гевелинг относится к авторам, о которых известный критик А. Михайлов писал: «Образ России в современной поэзии обретает подлинную конкретность. Поэты воссоздают ее локально-географические, климатические, этнографические и другие особенности» [9, с. 29]. При этом тема малой родины и мысль о державе органично сливаются в творческом сознании поэта. В статье, обращенной к поэтической молодежи, он писал: «Даже видя ничтожно малую часть России, умей так развернуть угол своего зрения, чтобы она всегда перед твоим внутренним оком простиралась вся – от рубежа до рубежа» [3].
В 90-е годы А.Ф. Гевелинг написал немного стихов. Вдумчиво относясь к жизни, к происходящим социальным сдвигам и сложным, до кон- ца не расшифрованным политическим событиям, он не спешит осуждать и очернять советское прошлое нашего народа. Ведь в этом прошлом и его собственная жизнь, где были не только огорчения, но и радости. В 2000е годы усиливается афористичность и емкость поэзии А. Гевелинга. Он обращается к поэтической миниатюре.
О главном качестве стихов А. Гевелинга хорошо в свое время сказал В. Миронов. Их, по его словам, отличает «страстность, которая определяется не количеством восклицательных знаков в конце фраз, а внутренним накалом стиха» [8].
В заключение отметим: данная статья – один из первых опытов литературоведческого осмысления военной лирики Гевелинга, необходимое звено в серии статей о тверской поэзии, которую целенаправленно исследуют в последние годы преподаватели Тверского государственного университета (см., в частности: [10; 11; 13; 14; 15], и др.).
Об авторе:
Список литературы Поэзия как судьба: стилевое своеобразие военной лирики Александра Гевелинга
- Гевелинг А. Дорога. Избранные стихотворения. Тверь: ТОКЖИ, 1997. 160 с.
- Гевелинг А. Жажда. Калинин: Московский рабочий, 1962. 68 с.
- Гевелинг А. И виждь, и внемли // Калининская правда. 1966. 28 окт.
- Гевелинг А. Обелиски зовут. М.: Московский рабочий, 1971. 84 с.
- Гевелинг А. Память. М.: Московский рабочий, 1976. 112 с.
- Гевелинг А. Солнцеворот. М.: Московский рабочий, 1987. 120 с.
- Кашин В. Память поколения // Калининская правда. 1977. 5 марта. С. 4.
- Миронов В. Жажда добрых дел // Калининская правда. 1962. 31 мая. С. 3.
- Михайлов А. Поэтический образ России // Русская советская поэзия: Традиции и новаторство. 1946-1975. Л.: Сов. писатель, 1978. С. 23-35.
- Николаева С. Ю. "Когда минет злоба дня и настанет будущее..".: новые книги тверских поэтов и литературный процесс // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 3. С. 68-81.
- Николаева С. Ю. Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова и Владимира Львова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 1. С. 68-79.
- Николаева С.Ю. Поэтическая книга как жанр в творчестве Г. Степанченко // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 4. Вып. 1.С. 88-96.
- Николаева С.Ю. Художественная философия Н.И. Тряпкина и Ю.П. Кузнецова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010. № 21. Вып. 5. С. 71-81.
- Редькин В. А. Творческая индивидуальность тверской поэтессы Л. Гордеевой // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 10. Вып. 3. С. 61-70.
- Редькин В. А. Художественный мир Анатолия Устьянцева // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 4. С. 102-112.
- Сланевский Л. Голос сердца// Калининская правда. 1971. 14 июля. С. 4.
- Сотников Н. Не только географическое понятие // Волга. 1981. №7. С. 166.
- Тельпугов В. Следы и тропинки // Литература и жизнь. 1959. 4 марта. С. 4.
- Твардовский А. О литературе. М.: Современник, 1973. 344 с.
- Яковлев Ю. Все близко сердцу моему. Интервью у А. Ф. Гевелинга // Смена. 1978. 12 аир.