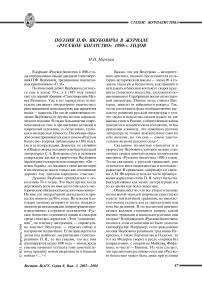Поэзия П.Ф. Якубовича в журнале «Русское богатство» 1890-х годов
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14975055
IDR: 14975055
Текст статьи Поэзия П.Ф. Якубовича в журнале «Русское богатство» 1890-х годов
В журнале «Русское богатство» в 1890-е годы опубликовано свыше двадцати стихотворений П.Ф. Якубовича, традиционно подписанных криптонимом «П. Я.».
Поэтический дебют Якубовича состоялся еще в конце 70-х, а в 1887 году увидел свет его первый сборник «Стихотворения Матвея Рамшева». Уже в тот период поэт сознательно связывает литературное творчество с революционной деятельностью, как выяснится позже — навсегда. Но это не единственное отличие Якубовича от других поэтов народнического издания. В глазах большинства современников он еще и чрезвычайно цельный и одаренный художник, и, безусловно, глубокая и интересная личность. Подобным образом он воспринимается как в самом «Русском богатстве» (первая публикация в 1888 году), так и за его пределами. Думается, не случайно в «Общем очерке истории новейшей русской литературы» С.А. Венгерова суть и основное содержание жизни и творчества Якубовича характеризуется предельно конкретно: «Он — певец борьбы, он понимает свою жизненную и поэтическую задачу только как отстаивание дорогих ему идеалов народного счастья»1.
Духовно Якубович принадлежал к поколению 70-х годов. Это было время, когда жертвовать всем во имя долга считалось «историческою обязанностью целого поколения»2. Но пик его литературной деятельности пришелся именно на 90-е годы. Во многом благодаря личному авторитету поэта, подкрепленному разноплановыми литературными произведениями, к середине десятилетия «Русское богатство» становится одним из лидеров среди «толстых» журналов. «Этот “семидесятник”, по генезису настроения, — справедливо замечает Венгеров, — отразил собою и настроение позднейшее. Если приглядеться к датам под наиболее энергичными стихотворениями П. Я., то мы увидим, что все они группируются около 1890 года — эпохи, когда уныние начинает уступать тому замечательному приливу новой уверенности в близкой победе <...>»3.
Важно, что для Венгерова — авторитетного критика, видного представителя культурно-исторической школы — эпоха 90-х годов не такая уж и бесцветная, как принято о ней думать в ближнем контексте скорого расцвета словесного искусства, заслуженно поименованного Серебряным веком отечественной литературы. Многое здесь, считает Венгеров, зависит от избранного ракурса. Так, «если сопоставить факт необыкновенно высокого развития русской литературы с тем, что наука и искусство относительно не так высоко стоят в России, а общественная жизнь находится в младенческом состоянии, то мы приходим к выводу, что новейшая русская литература не только замечательное само по себе явление, но что она — самое замечательное явление русского духа»4.
Сказанное полностью относится и к творчеству Якубовича, которое можно тоже считать самым замечательным поэтическим явлением «Русского богатства» 1890-х годов. Тесно связанное с русской традицией, оно отличается многоплановостью и многожан-ровостью. В сравнении, например, со стихами А.М. Федорова (столь же часто публикуемыми журналом) стихи П. Я. могут быть охарактеризованы как менее литературные и в то же время как более искусные.
Общеизвестно, что все второстепенные поэты волей-неволей творчески существуют в русле той или иной традиции, не имея достаточного таланта для ее преодоления или хотя бы развития. И по указанной причине самым важным становится вопрос: какой именно традиции и насколько успешно они следуют? В публикуемой «Русским богатством» поэзии в этом отношении не было полного единообразия. Например, если гражданская поэзия Якубовича развивала традицию Некрасова, а также Лермонтова и Надсона, то тот же Федоров творит в русле «лирики без направления», с опорой на Майкова, Фофанова, отчасти — Бунина. Из чего следует, что предметным разговор о поэзии «Русского богатства» может быть лишь при условии
выявления не только общих, но и сугубо «индивидуальных» ее особенностей. Их характеристика позволит как дифференцировать народнических поэтов, так и определить, хотя бы приблизительно, удельный вес каждого в журнале.
Что касается Якубовича и Федорова, то они, точнее, их стихотворные произведения представляют — в указанный период — два поэтических полюса «Русского богатства». Об этом свидетельствуют и характеристики, данные им критикой. Так, Венгеров называет Якубовича — «певцом борьбы», который «понимает свою жизненную и поэтическую задачу только как отстаивание дорогих ему идеалов народного счастья». О существе стихов Федорова отчасти сообщает само название посвященной ему статьи Венгерова — «Стихийность в молодой поэзии». По мнению критика, у Федорова «страстное и бессознательно-яркое чувство стихийности природы и ее жизни прорывается сквозь нежный и как-то детски наивный лиризм. <...> Поэт с живым и бессознательно-глубоким чувством жизни <...>» 5 .
У него, как автора «Русского богатства», звучит гражданственная тема, но с достаточной долей уверенности можно утверждать, что это было своего рода необходимой данью известной традиции, которой неукоснительно придерживалось народническое издание. Для Якубовича же подобные произведения не просто естественны, они составляют суть и нерв его творчества, органично согласуемого с реальной жизнью. В отличие от «всеядности» Федорова (читай — неопределенности или, по крайней мере, эклектичности его творческих взглядов и вкусов), поэзию Якубовича можно определить одним словом: борьба . И в жизни и в творчестве ориентир на нее был выбран очень рано, но без сомнений и бесповоротно: «Первые стихи начал писать в гимназии, причем уже в этих стихах направление его поэзии определилось со всей полнотой: будущий жизненный путь он рисовал здесь как путь борца»6. В Петербургском университете, куда он поступает в 1878 году после окончания гимназии, начинается реальная и весьма бурная политическая деятельность. В этот период им создаются революционные стихи, пользующиеся огромной популярностью у радикальной части столичной молодежи. По воспоминаниям И.И. Попова, «...в 1880 году в студенческих кругах и среди молодежи поэт
“П.Я.” был самым любимым и популярным поэтом, более даже, чем С.Я. Надсон»7.
Кстати, сам Якубович, признавая известную общность его творчества с надсо-новским, так не считал: «...Надсон был несравненно крупнейший поэт, и я быстро потонул в лучах его быстро нараставшей известности»8. Отметим, что Якубович, при всей его тоже весьма немалой популярности, был лишен каких-либо притязаний на особый статус, хотя бы потому, что поэзия и жизнь для него, действительно, были одно: «Эти песни гирляндою роз / Мне чела не украсят, конечно, / Но они создавались из слез / И из крови сердечной...» («Эти песни гирляндою роз...», 1883). Не личная слава, а общественная польза руководит поэтом-народником.
С другой стороны, вышеприведенные слова Якубовича о Надсоне были сказаны не из скромности9. Надсон — вне всякого сомнения — один крупнейших поэтов и, пожалуй, самый популярный в 1880—1890-х годах. К примеру, «сам» Михайловский в «Дневнике читателя» (XIV), размышляя о причинах «небывалого в нашей литературе» успеха Надсона, приходит к выводу, что «главный источник успеха лежит в самой поэзии Надсона»9а. Вообще, сравнивать этих двух поэтов стало своего рода традицией, означавшей, в нашем представлении, феномен поэзии первого и феномен жизни второго.
Поэзия Якубовича, как уже отмечалось ранее, развивала традицию Некрасова, главным в которой было постановка важных проблем общественной жизни. При обращении к народнической поэзии по причине ее вто-ричности трудно обойтись без привычного набора стандартных определений, что и отражают высказывания о ней критиков: «Голосом Некрасова поэтически заявила о себе новая эпоха — эпоха революционно-демократическая, эпоха “мужицких демократов”»10; «Гражданская поэзия Якубовича развивала традиции Н.А. Некрасова. В лирике Якубовича, не лишенной мотивов тоски, настроения мрачного отчаяния, преодолеваются светлой надеждой на конечную победу революционных идеалов. Лирика Якубовича поднимает важные проблемы общественной жизни. Центральной темой его поэзии становится тема подвига ради освобождения народа, а также тема справедливого возмездия за гибель товарищей по революционной борьбе. Якубович поэтизирует индивидуальный подвиг революционера, его порыв в будущее царство свободы»11 и т. д.
В новейшей критике муза Якубовича, как, впрочем, и вся народническая поэзия, оценивается «беспристрастно» и намного суровее: «Стихи Якубовича полностью соответствуют его биографии, они все выдержаны на одной ноте. Пожалуй, единственное, что нарушало этот монолитный облик, — любовь к французскому поэту Шарлю Бодлеру (1821—1867), которого он начал переводить еще на каторге, но Бодлер в его переводах был превращен в борца “со страстным стремлением к свету”». И далее: «Биография человека, “пострадавшего за политику”, сильно подмагничивала совершенно бесцветные стихи Якубовича, состоящие из общих мест и штампов, благодаря ей стихи удостаивались положительных рецензий. Но если Некрасов может служить примером того, с чего начиналась гражданская поэзия, то Якубович — примером того, во что она превратилась в конце своего существования»12.
Многие стихи Якубовича действительно автобиографичны 13, но не это определяет их суть. Если проследить за содержанием «Русского богатства» 1890—1910-х годов, нельзя не заметить, насколько уважаем и ценим был этот поэт, а также прозаик и критик. Без преувеличения, Якубовича можно назвать вторым, после Михайловского, по масштабу личности и значению его работы для народнического журнала. Кстати, не совсем правы те исследователи, когда, в разговоре о поэтах революционного народничества (в число которых обоснованно включается и Якубович), пишут о том, что они обращались к поэзии «главным образом как к действенному средству политической агитации» и видели «в ней своеобразное продолжение и развитие своей революционной работы»14. Признавая справедливость этих слов, все же добавим, что сводить к нему всю многообразную поэзию Якубовича было бы неверно.
С другой стороны, подразделить на какие-нибудь тематические группы стихи Якубовича достаточно сложно. Пишет ли он о юношеской поре (молодости) или о природе, о родных, близких или о друзьях, о большой или малой родине, — все объединяется его личностной судьбой, теми испытаниями и лишениями, которые выпали на долю поэта-революционера. Из произведе ний 90-х годов с пейзажной лирикой можно соотнести лишь несколько стихотворений («Тишина», «Сирень»). К примеру, в «Тишине» [1899, № 6(9)] обычный «природный» план к финалу неожиданно сменяется планом социальным:
Вечер румяный притих, догорая, Лист не шелохнет в лесной глубине. Тучек перистых гряда золотая
В недосягаемой спит вышине.
Тихо мелькнула звезда, и другая...
Ночь надевает свой царский венец. Мука, великая мука людская!
Стихла ли ты, наконец?15
Стихотворение «Сирень» [1899, № 6(9)] — из так называемых лирико-философских этюдов. Тема невозможности счастья и в то же время о безудержном желании его. Когда «сила и радость повержены в прах», и у обоих «снег... уж блестит» в волосах, ничто не властно
...над сердцем, изнывшим в тоске, Видно, бессильны гроза и ненастье: Ветку сирени ты держишь в руке — «Счастья» в ней ищешь, не веруя в счастье!
(С. 218).
И таких стихотворений, где «социальное» проступает сквозь «природное», у Якубовича немало («В деревне», «На родном рубеже», «Пробуждение», «На чужбине далекой тоскуя вдвоем...», «Весенняя песня», «Человек»).
«В деревне» (1897, № 1) — одно из немногих стихотворений Якубовича, где мажорный тон проходит через весь текст. Герой вспоминает свое волшебное детство, «пышнокудрявый лес», удивляющий его «торжественной думой». Видит обязательных участников деревенской жизни: «понурого мужичка» и «нехитрую на вид, мохнатую клячонку». Увиденная «очеловеченная» деревенская жизнь пробуждает горестное признание героя стихотворения:
И сам себе кажусь я чем-то вроде чуда, — Скиталец сумрачный с разбитою ладьей, Обнявший вновь порог отчизны дорогой, Готовый вновь любить и верить в царство света, Печальной родине слагая гимн привета (с. 290).
Начало стихотворения «На родном рубеже» (1897, № 10) напоминает экспозицию «Ада» Данте: герой вступает «в светлый мрак долины / Где темный бор в затишьи полдня спал», и ему грезится «далеких лет <...> прекрасный сон»:
И все, чем грудь в разлуке наболела, Волна надежд, проклятий, жалоб, слез, Все, что навек, казалось, догорело И, как струна, в тиши оборвалось, — В немой душе все зазвучало снова. <...> (С. 109).
Воспоминания обостряют чувство любви, привязанности к «родному рубежу»: Пока дышу, клянусь я петь с любовью Твою лишь скорбь и скорбь твоих друзей. Только вдали, в краю чужом, угрюмом, В любви к тебе мой стих я закалял...
И лес, в ответ, с печально-кротким шумом Мой путь дождем колючим осыпал (с. 109).
Содержание и пафос рассмотренного стихотворения повторяется в «Пробуждении» (1898, № 5). Несколько иначе о любви к родине Якубович говорит в стихотворении «На чужбине далекой тоскуя вдвоем...» [1899, № 8(11)]. Прием, используемый здесь, в сущности, один, и к тому же традиционный, если не сказать заштампованный: сложность жизни героя и жизни вообще выражается посредством противопоставления юга и севера (правда, юг и север находятся в России): «Я лечу на желанный сверкающий юг / Из холодного мрака чужбины»:
Ближе, ближе родная страна — Небо блещет лазурью и светом... Сердце чует: весна, золотая весна! Пахнет белой акации цветом (с. 81).
Стихотворение, как это обычно у Якубовича, автобиографично, и воспроизводит оно, скорее всего, эпизод возвращения из Акатуя. Противопоставление севера и юга, состояния несвободы и свободы мы видим и в стихотворении «Весенняя песня» (1899, №8(11)], герой которого, наблюдая за скворцами, вернувшимися в родные места, остро ощущает свою внутреннюю обездоленность: Звуки счастья гремят, и дразня и маня;
Но о счастьи давно песен нет у меня... Под окном я стою с приунывшей душой: Не бывать, видно, мне на сторонке родной! (С. 180).
Природа в поэзии Якубовича появляется не только не случайно, но и выполняет различные функции. Так, в стихотворении «Человек» (1896, № 10) развивается антиур-банистический мотив: человек и природа противопоставлены. В диалоге-споре между ними, природа оспаривает мысль, что она «раба» человека, а он ее «властитель». И если она захочет, то быстро поставит на место человека: «Я землю потрясу — и разлетится прахом Величие твоих гигантов-городов!»
Природа указывает человеку, как ему жить, исполняя ее безжалостный закон: «Живи ж, как все живет: Минутною волною Плесни — и пропади в пучинах вековых, И не дерзай вставать на буйный спор со мною, Предвечной матерью всех мертвых и живых!» (С. 217).
На этом первая — «природная» — часть стихотворения закончена. Во второй части слово берет человек, который, восстав, «с поднятым челом и с возгласом: “Свобода!” / В обетованный край своих лазурных снов» идет: Сквозь бурю, ливень, мрак, к долине тихой рая, Шатаясь, падая под ношей крестных мук, Вперед идет титан, на миг не выпуская Хоругви мятежа из напряженных рук (с. 218).
Понятно, что такой человек не желает выполнять указания природы, более того, он бросает ей вызов: «На грозный бой тебя, на смертный бой зову я». Уверенность гордому человеку придает вера в силу Разума, при помощи которого он намерен вычеркнуть из жизни «порок», одолеть «тьму», и тогда Природа уже будет служить ему:
Скажу: зажгись, рассвет! Взойди эдем в пустыне, Где пот я засевал кровавого труда!
И будешь ты сама служить моей святыне, Иль я с лица земли исчезну навсегда! (С. 218).
Сюжет подобной «аллегории» был чрезвычайно распространен и популярен в русской поэзии конца XIX — начала XX века, особенно в ее демократическом изводе 16.
Однако далеко не все поэтические произведения Якубовича были такими «боевыми», благодаря которым он вошел в историю русской литературы как представитель революционно-народнической поэзии. Его муза знала и печаль, и уныние (что, с одной стороны, было вызвано определенным влиянием Надсона, а с другой — отражало общий дух, тональность русской поэзии 1880—1890-х годов). Так, в стихотворении «Забытый друг» (1897, № 2) лирический герой, заключенный в «угрюмых» стенах, переживает острей- ший кризис, «и ум был исполнен безумной тоски, / Холодных и горьких сомнений», и вдруг он слышит Музу, «впорхнувшую» в его темницу «сквозь крепкие стены, затворы дверей» и призывающую его воскреснуть:
Она, что была так грустна и бледна, Пугливо глядела рабою забитой, Теперь как царица явилась она, Прекрасна, как сон позабытый... (С. 239).
Появление Музы было для героя поистине спасительным: «И страх и сомнения прогнали мы прочь, / И словно как дети мы стали сердцами». С тех пор герой «уже не был покинут и сир», и если что его страшит, то только разлука с Музой. Стихотворение заканчивается обращением героя к Музе: Дочь света! меня не покинь ты, молю, И в час, как смежит мне потухшие вежды. Пропой мне последнюю песню свою, Прощальную песню надежды!.. (С. 240).
Это стихотворение можно назвать программным в том смысле, что в нем утверждается жизненное и творческое кредо поэта17. Говоря об определенном «ученичестве» Якубовича у Надсона, необходимо понимать, что поэт творчески относился к стихам всеобщего кумира. К примеру, знаменитый надсо-новский мотив «тревоги юных сил» получает у Якубовича несколько иное воплощение: не достаточно сожалеть лишь о преходящей поре юности и несбывшихся мечтах; необходимо вступать в борьбу с жизнью за свои идеалы и мечты, а не прощаться «с горделивой усмешкой презренья» с юностью. Этому посвящено стихотворение «Прощание» (1897, № 6), в котором утверждается необходимость дерзанья, смелости и твердости в достижении своих целей:
Слава победы лишь храбрым дается, Срама не знает погибший в борьбе... Юность, тебе наша песня поется — Вечная слава тебе!.. (С. 234).
Быть взрослым, стать им, по Якубовичу, сможет не всякий, и дело тут не столько в возрасте, сколько в жизненной позиции, в свойствах ума и души человека. Взрослому и разумному человеку необходимо ко всему подходить философски, зная и веря в то, ради чего можно и нужно жить. По Якубовичу, это значит — быть стойким и принципиальным борцом против неправды и несправедливости. Так, в стихотворении «Волна» (1899, № 3) герой, с одной стороны, вы нужден сделать горестное признание: «Погибло наше поколенье, / Любовь угасла, замер гнев», а с другой — он верит, что «...и до поры иной, счастливой / Дойдет волны погибшей плеск»:
И волны новые придут На берег, сумраком повитый, И жизни острые граниты Усилий их не отобьют! (С. 60).
Философский склад поэзии Якубовича выражается, как уже отмечалось ранее, в использовании аллегорического языка. В стихотворении «Радость, как женщина, — жаждет утех...» (1899, № 3) поэт о сложности и мно-готрудности жизни говорит при помощи аллегорий «Радости» и «Горя»:
Радость, как женщина, — жаждет утех, Льнет к золоченым палатам.
Горе людское, в сторонке от всех, С видом стоит виноватым (с. 36).
Первые две строфы — аллегоричны и экспозиционны. В следующих трех картина становится более конкретной, очеловеченной. В этих строфах, заключенных в кавычки, слышим голос alter ego автора:
«В темных подвалах, в мансардах глухих, Миру незримые, льются
Слезы несчастных, голодных, больных, — Силы последние рвутся...» (С. 36).
Аллегоричность никуда не исчезает, просто она социально конкретизируется. Когда «горе людское» протягивает «к радости шумной, с мольбой» «тощие, бледные руки», та отвечает ему «злобным взглядом» и следующими назидательными словами: «Что за навязчивый голос и вид! / Горе должно быть прилично». Подобное отношение в реальной жизни, а не в искусстве, порождало многие трагедии; об одной из них сообщает поэтическая зарисовка «Из жизни» (1899, № 3): Он выстрелил в сердце с рассветом дневным, И грустная новость, как гром, пробежала...
Он не был героем — он был рядовым В толпе несчастливцев. Его угнетала, Как многих, тяжелая лямка труда, Лишений, недугов; он нес молчаливо Ярмо своей доли года и года (с. 126).
Редкие и робкие слова «рядового труженика» о невозможности далее терпеть подобный образ жизни люди встречали «с удивленьем». Обывательская позиция равнодушия и ханжества выражена в следующем фрагменте: «Это — слова. / Терпенье людское — для мудрых задача! / Кнуту покоряясь, не день и не два / Еще проползешь ты, смиренная кляча». Поэт «Русского богатства» саркастически разоблачает ее:
Но мудрость ошиблась — и кляча лежит, Упала, раздавлена жизненным гнетом! (С. 126).
И только теперь люди, «приняв виноватый, растерянный вид», «верят ему, и жалеют о нем...» Стихотворение заключает горькая афористическая сентенция: «Что жизнь отнимала, то смерть подарила!»
В критических штудиях о поэзии Якубовича неизменно отмечается мотив «усталости», которой пронизано мироощущение лирического героя («Молитва», «Поздняя радость» и др.). Герою «Молитвы» (1896, № 2) некий «голос злой» настойчиво твердит: «Что сгибло раз — тому уж нет возврата, / Не верь, чтоб дважды молодость цвела» и что «кого весна не розами венчала — / Тому зима улыбок не дарит». «Злой голос» — это вторая, «темная» сторона души человека, который устал от борьбы и потому уже не способен одолеть «коршунов сомненья», «демонов», его терзающих:
Немногого ведь я прошу от счастья, Немногого... Не сладостных отрав И жгучих нег, — лишь встретить взор участья, К родной груди прижаться, зарыдав! (С. 96).
Близко по звучанию к этому и стихотворение «Поздняя радость» (1898, № 4): «Поздняя радость не радует, / Тайный лишь будит укор». Именно такие чувства испытывает герой стихотворения — узник, вышедший наконец-то на свободу, когда уже жизнь его почти прошла; когда все в прошлом: «Сгибли товарищи смелые, / Юность, отвага, любовь!..»
Образ женщины-революционерки создан в стихотворении «Когда опустив малодушные руки...» (1898, № 12). Его функция, если можно так выразиться, мобилизующая, заставляющая приободриться лирического героя, которого гнетут муки сомнения: «Страдалица скромная! образ твой чистый / Вдали мне сияет укором живым: / Без жалоб идешь ты дорогой тернистой, / Награды не требуя мукам своим». Жертвенность этой женщины потрясает героя: «Всю душу отдавши другим, ты забыла, / Любя, что могла и любимою быть...» — и заставляет его найти силы преодолеть свою слабость. Стихотворение заканчивается апофеозом:
Идешь ты, и долга сознанье — твой щит. Но вижу: венок твой колючий терновый Светлей диадемы алмазной горит! (С. 228).
Позже это стихотворение, частично переработанное, публиковалось под заглавием «Святая».
К «автобиографическим» произведениям у Якубовича относятся, как уже отмечалось, немало стихотворений («В безмолвии ль полночи, в тревоге ли дня...», «Портрет», «Сестре», «Мне снилось сегодня — в безвестном краю...»). В первом перед героем неизменно возникает «кроткое» и «бледное» лицо «родного дитя». Оно не единственное, что беспокоит лирического героя. Ему постоянно снится «мертвая несчастья страна: / Одетая холодом, снегов пелена <...>». Но ничем «другу несчастному» (стране несчастной) герой помочь не может, и потому он лишь шепчет «бессильные проклятья врагу».
Одно из самых трогательных и удачных стихотворений Якубовича из числа опубликованных в «Русском богатстве» 90-х годов — «Портрет» (1895, № 5):
Странная девушка... Вечно веселая, Как ты свой век прожила?
Голос серебряный; косы тяжелые, Смертная бледность чела (с. 73).
Герою невдомек, как спасло это юное создание свою «ясную душу». «А между тем» в душу лирического героя ползет «черной змеею» сомнение: отчего так необычно (самоуверенно?) ведет себя девушка? Ведь впереди «глубокая тьма нерассветных ночей» и «жизнь догорит, как свеча одинокая». «Что же смеешься ты, плача достойная?» — вопрошает недоуменно герой Якубовича, словно боясь, что с нею что-то случится: «Тише! Веселость твоя беспокойная / Мне, как рыданье, страшна!..»
В стихотворении «Сестре» (1895, № 5) выражается сожаление, что жизнь женщины прошла «печально», что «без радостей дружбы, без света любви, / Мелькнули все лучшие годы твои». Ей пришлось жить, «тоскуя, надеясь, мечтая, любя, / И свой лучезарный был мир» у нее:
Но темная сила, пощады не знавшая, Проклятьем на всей твоей жизни лежавшая, Дорогу и в этот лазурный эдем Навеки тебе заградила меж тем:
Иссохли, упали, как плети ненужные, До срока, до времени руки недужные — И гибель, конечная гибель грозой
Нависла над жизнью твоей дорогой... (С. 117).
Но, невзирая на нависшую над ней опасность, женщина отдала «всю душу свою милосердную, нежную / Со всеми дарами любви и тепла / Чужому несчастию <...>». Герою стихотворения жалко эту женщину, и он признается: «Последнюю кровь я отдать бы готов, / Лишь был бы твой жребий не столько суров». В конце концов, приходит к выводу, настолько желанному, насколько же несбыточному:
Но если бы я был судьей над вселенною, Тебя я короной венчал бы нетленною, Тебя б на вершины бессмертья вознес, О сердце великое, полное слез!.. (С. 119).
В 1899 году Якубович был удостоен Пушкинской премии Академии наук за книгу «Стихотворения» (СПб., 1898). В 90е годы Якубович писал, как известно, разноплановые произведения, в том числе и так называемые «юбилейные» стихи. Среди них два произведения, по своему значению выходящие за рамки календарных: «Памяти Белинского. (К 50-летней годовщине смерти)» (1898) и «На праздник Пушкина» (26 мая 1899)18. Так, стихотворение «Памяти Белинского» заканчивается признанием в верности тем, кто жил не для себя, а для народа:
Они, избранники с душой неоскверненной, Любовь свою чужим отдавшие скорбям, — Чьим мукам чистым и слезам Поклонится потомок отдаленный!..19
Стихотворение, посвященное юбилею А.С. Пушкина, состоит из трех частей, каждая из которых связует современность с именем гения. В первой части Пушкину вначале поется слава, а затем он «призывается» в качестве строгого судии нынешней действительности. Во второй части явившийся Пушкин спрашивает: «И где же вы, печальники свободы, / Принявшие мой факел и завет? <...> Иль я забыт? / Иль я отвергнут вами?» В финальной строфе слышится голос самого автора, который, словно держа ответ перед великим поэтом, заявляет:
Нет, нет, поэт! На оргии лукавой К лицу лишь тем победно ликовать, Кто над живой глумиться может славой, Чтоб мертвую цветами убирать!..20
Ориентир на классику у Якубовича вовсе не случаен; ведущий поэт народнического «Русского богатства» и в стихах, и в много- численных критических статьях неизменно и последовательно выступает противником «нового искусства»21. Так, в стихотворении «Поэту-символисту» последнему отказывается в праве называться истинным поэтом:
В искусстве рифм — уловок тьма,
Но тайна тайн, поверь, не в этом:
От сердца пой — не от ума,
Безумцем будь, но будь поэтом!22
Главный изъян модернистского искусства, по мнению поэта-народника, заключается в чрезмерном внимании к форме, за которой фактически остаются в стороне самые важные и актуальные проблемы индивидуальной и коллективной жизни России.
Примечательно, что в 900-е годы именно П.Ф. Якубович редактирует поэзию «Русского богатства». И это несмотря на то, что в самом народническом издании у него, как ни странным может показаться, были противники. Существует мнение, что не совсем ровными были отношения у поэта с Михайловским, и не только с ним. Но это не помешало стать именно его поэтическим и прозаическим произведениям наиболее востребованными в последнее десятилетие XIX века, что объективно обусловило популярность и самого художника, и журнала «Русское богатство» в целом.
Список литературы Поэзия П.Ф. Якубовича в журнале «Русское богатство» 1890-х годов
- Венгеров С.А. Очерки по истории русской литературы. СПб., 1907. С. 102.
- Редько А.Е. П. Я. и Мелыпин//Русское богатство. 1911. № 4. Отд. I. С. 104.
- Венгеров С.А. Указ. соч. С. 103.
- Иванова Евг. Комментарии//Поэзия второй половины XIX века. М., 2001. С. 609.
- Рейсер С.А. Примечания//Вольная русская поэзия XVIII-XIX веков: В 2 т. Т. 2. Л., 1988. С. 641.
- Михайловский Н.К. Полл. собр. соч. Т. 1-8,10. СПб., 1906-1914. Т. 6. С. 587.
- Проскурин О.А. Мечта и жизнь русской поэзии//Жизнь и поэзия -одно: Стихотворения/Сост., примеч. О. Проскурина. М., 1987. С. 11.
- Коровин В. Примечания//Русская поэзия XIX века В 2 т. Т. 2. М., 1974. С. 699.
- Бихтер А. Поэты революционного народничества//Поэты революционного народничества. Л., 1967. С. 3.