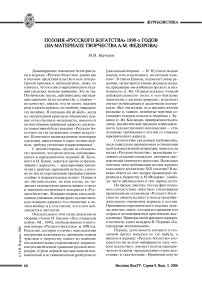Поэзия «Русского богатства» 1890-х годов (на материале творчества А.М. Федорова)
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14975102
IDR: 14975102
Текст статьи Поэзия «Русского богатства» 1890-х годов (на материале творчества А.М. Федорова)
Доминирующее положение беллетристики в журнале «Русское богатство», равно как и весомое представительство в нем литературной критики и публицистики, вовсе не означает, что поэзии в народническом издании уделялось меньше внимания. Это не так. Поэтические тексты, действительно, выглядящие скромнее (и по количеству, а главное — по качеству), играли, тем не менее, важную роль в жизни журнала, по-особому «выражая» его политику. В ситуации «fin de si e cle», когда на литературной авансцене объявились первые отечественные модернисты, именно от поэтов (помимо критиков) зависело, насколько оперативной будет реакция «Русского богатства» на так называемое «новое искусство». В контексте вышесказанного некоторые суждения, вынесенные в адрес поэзии журнала, требуют уточнения и корректировки 1 .
С другой стороны, трудно не согласиться с мнением, что среди поэтов, публиковавшихся в народническом издании (К. Бальмонт и И. Бунин, короткое время сотрудничавшие с журналом, — красноречивое исключение), крупных дарований не было, а потому из-под их пера выходили преимущественно «слабые и подражательные вещи»2. Однако и это обстоятельство, на наш взгляд, не позволяет окончательно решить вопрос о месте и значении поэтического материала в «Русском богатстве». В первую очередь здесь необходимо учитывать литературно-художественную позицию журнала: его отношение к поэзии вообще и к тем стихам, что в нем публикуются в частности.
Показательна в этом плане рецензия на сборник стихов И. Бунина «Под открытым небом» (М., 1898), опубликованная в итоговом номере «Русского богатства» за 1898 год. Рецензия, которую отличает определенная внутренняя полемичность, пронизана теплым чувством к творчеству одного из наиболее последовательных сторонников и защитников реалистической традиции русской литературы: «Среди мертвой пустыни всякой символической и не символической дребедени его
[указанный сборник. — Н. НД смело можно назвать хоть и маленьким, но светлым оазисом»3. В стихах Бунина, подмечает автор рецензии, «встречаются тонкие реальные штрихи, придающие им особенную прелесть и жизненность» (с. 46). Отдавая должное «тонкой наблюдательности» поэта и «его близкому знакомству с жизнью природы», рецензент считает необходимым в заключение подчеркнуть: «Все эти мелкие, но в высшей степени реальные и, главное, неизбитые черточки составляют главную ценность сборника г. Бунина» (с. 46). Как видим, приверженность реализму, реалистической традиции и оригинальность художественного воплощения — суть основные требования к поэзии со стороны народнического журнала.
Соответствие указанным требованиям, последовательно выдвигаемым в отношении всей художественной литературы, является, на взгляд «Русского богатства», важнейшим условием создания социально значимых произведений словесного искусства. Насколько отвечала этим требованиям поэзия журнала в последнее десятилетие XIX столетия? В поисках ответа на этот вопрос правомерно обратиться к творчеству А.М. Федорова4, наиболее часто публикуемого в этот период поэта.
Но прежде заметим, что сам факт неполного соответствия «штатных» стихотворцев программным установкам «Русского богатства» не свидетельствует в пользу пренебрежительного отношения журнала к поэзии. Противники народнического издания думали, конечно, иначе, что нашло отражение в их острых и нелицеприятных критических выступлениях. Примеры такой критики содержит, в частности, книга мемуаров П. Перцова «Литературные воспоминания».
Перцов, деятельность которого в столичной прессе началась не где-нибудь, а именно в журнале «Русское богатство» (покинутого им во имя набиравшего силу «нового искусства»), именует поэтов народнического издания «гражданскими стихослагателями» и «лжепоэтами». Причиной тому не только «партийность» и «тенденциозность» их творчества, но и чрезвычайно низкий уровень поэтической культуры. По мнению Перцова, указанные «изъяны творчества» присущи абсолютному большинству авторов «Русского богатства». А.М. Федоров — не исключение: «Что-то общее с Коринфским было и у менее тенденциозного, но и более бесцветного Федорова — банального, как его фамилия, которого именно поэтому, вероятно, печатали везде и охотно»5. Данный пассаж, несмотря на содержащееся в нем зерно истины, любопытен другим — как образчик, точно передающий характер развернувшейся тогда литературной полемики.
В контексте «воспоминаний» Перцова решение «Русского богатства» вступить в баталию, развернувшуюся с приходом в литературу модернистов, что называется «во всеоружии» — выглядит вполне логичным. Более того, закономерным, если учесть что основная нагрузка в споре различных творческих сил пришлась именно на долю «толстых журналов». Однако важно и другое: публикуемые в «Русском богатстве» малохудожественные стихотворения не остаются без критики «изнутри». При всех объективных трудностях журнал старался не отступать от провозглашенных им принципов.
Подтверждает сказанное и рецензия на первый сборник А. Федорова «Стихотворения» (СПб., 1898), опубликованная в третьем номере «Русского богатства» за 1899 год. По мнению ее автора, творчество Федорова не соответствует необходимым требованиям: «...несмотря на то, что г. Федоров в душе несомненный поэт... песни его пролетают над нами “звенящим роем”, ничуть не задевая и не тревожа сердец... Для этого требуется слишком многое, чем молодой поэт совершенно, по-видимому, не обладает. И прежде всего нужна, хоть в малой дозе, оригинальная поэтическая физиономия»6. Отсутствие последней не компенсируется ни тем, что «г. Федоров безумно любит поэзию», и даже ни тем, что «у него, несомненно, есть и искренность, и версификаторский талант» (с. 61). Как хорошо видно, восприятие «изнутри» во многих отношениях совпадает с оценками сторонних критиков. Но имеются и отличия, поскольку рецензия не исчерпывается указаниями на вторичность творчества Федорова, заставляющего вспоминать «то Фофанова», «то Надсона», «то Полонского». В отдельных произведениях, где речь идет о «социальном», рецензент «Русского богатства» обнаруживает «сим патичную и верно прозвучавшую струну», к которой «и следовало бы всецело прилепиться г. Федорову, как сыну народа». К сожалению, «этот звук очень редко и очень бледно повторяется в его книге» (с. 62).
Отсутствие «оригинальной поэтической физиономии», резонно замечает рецензент, оборачивается для автора «Стихотворений» малоубедительным эпигонством. Так, Федоров «с особенной охотой» развивает «прелестный надсоновский мотив — «тревоги юных сил»», но делает это, увы, крайне неудовлетворительно. Тем не менее над молодым поэтом еще не время произносить «окончательное суждение», поскольку «он искренен, чуток и тем уж одним симпатичен, что не ломается, подобно большинству своих нынешних со-братов» (с. 62).
Укажем и на другие причины наличия в творчестве Федорова традиционных тем и мотивов. Во-первых, эти темы и мотивы были чрезвычайно распространены в поэзии 1880— 1890-х годов. Во-вторых, и это главное: в них отразилась «переходность» литературной эпохи конца XIX века, когда новое в эстетике и формах поэтического мышления только нарождалось, а традиционное еще сохраняло свою актуальность. По глубокому замечанию В.Д. Сквозникова, процесс этот охватывает значительный временной период: «В собственно же лирической поэзии крутой переход к новому качеству, которое всячески (в том числе и в виде манифестов) оформило начало двадцатого века, происходил значительно раньше, еще в последней трети века предшествовавшего»7.
Это утверждение представляет интерес и в методологическом плане. Оно указывает на возможность рассмотрения (и даже предполагает его) «направленческой» поэзии «Русского богатства» 1890-х годов с учетом качественных изменений — наметившихся или уже происходивших — в этом виде литературы. Тем более это верно, когда речь заходит о таком, используя выражение Перцова, «менее тенденциозном» (по сравнению с другими народническими поэтами) авторе, как Федоров. Данный подход предостерегает исследователя от столь привычного, а порой и излишнего стремления «прочитать» журнального поэта в строгом соответствии с «программой» издания. Ведь не секрет, что в индивидуальном творчестве выходы за рамки «предписанных» правил — вещь не такая уж и редкая, и говорить, как важно это учиты- вать для воссоздания истинной его картины, излишне.
Поэтические произведения А. Федорова, опубликованные в «Русском богатстве» 1890-х годов, условно можно подразделить на три тематические группы: любовные, пейзажные и гражданственные стихотворения. Большинство из них сближает мотив неудовлетворенности, которым отмечена едва ли не вся поэзия переходной эпохи. Широко использовался указанный мотив не случайно. Как правило, посредством него передавалась атмосфера всеобщего неблагополучия «конца века»: шла ли речь о частной жизни человека или о жизни всего общества. У Федорова эта связь с эпохой выражена не всегда отчетливо. Например, в стихах о любви она едва улавливается, если вообще имеет место быть.
Из всех стихотворений Федорова, опубликованных в 1890-е годы в «Русском богатстве», к чистой любовной лирике можно отнести лишь несколько произведений, в частности «Я был еще дитя» (1890, № 1) и «Это теплая ночь мне уснуть не дает...» (1890, № 10). В первом стихотворении, окрашенном ностальгическим чувством, говорится о незабываемой поре юношеской влюбленности. Некогда лирический герой испытал удивительное, хотя и мало осознаваемое на тот момент, чувство счастья:
Я был еще дитя, но я тебя любил.
И помню, только мрак на землю опускался, В большой тенистый сад тайком я уходил И там вплоть до зари мечтал и волновался 8 .
Перед нами типичный образчик ранней поэзии Федорова, самой характерной приметой которой является широкое использование клишированных образов; в рассматриваемом тексте — традиционных свидетелей любви героя: «деревьев», что «сочувственно шептали», «соловья», певшего о любви «восторженно в ответ», «ярких звезд», неизменно сиявших «с выси небес».
Тема стихотворения «Эта теплая ночь мне уснуть не дает...» приблизительно та же. За тем исключением, что волнения молодого человека здесь вызваны не воспоминанием о любви, а ее ожиданием. Когда «за открытым окном и звенит, и поет, / И струит аромат чародейка-весна», герою не до сна, поскольку в эту весеннюю «теплую ночь» его грудь «волнуясь, кипит под избытком страстей». Он весь в грезах о «беззаветной любви». Но грезить ему «мешает» природа, словно вознамерившаяся развеять столь сладостные мечты: «А в кустах, как назло, засвистал соловей», которому «в упоении» в ответ «шепчут звезды, цветы, ручеек, камыши...». В этом непритязательном и по содержанию, и по форме произведении Федоров использует кольцевую композицию. Почти повторяясь, первая и заключительная строфы (последняя наращена на два стиха) подчеркивают «околдованность» души лирического героя. Центрирующий образ в стихотворении — образ «чародейки весны». Посредством него передается неповторимое, в романтическом духе, очарование «поры надежд», когда все помыслы о счастье неразрывно связаны с ожиданием любви: «За открытым окном и звенит, и поет, / И струит аромат чародейка весна»...
Значительное распространение в поэзии Федорова 1890-х годов получает тема молодости и, как ее вариант, тема поиска молодым человеком своего места в жизни («Юность», «Возврат», «Молитва» и др.). Так, в лирико-философском стихотворении «Юность» (1896, № 4) центральной является мысль об истинном предназначении человека, призванного самими «богами» к счастливой и свободной жизни. Правда, от него потребуется умение различать относительное и абсолютное в своем земном бытии:
Неудачи, коварство, измена, Груз свинцовый попутных забот — Все, как в бурю налетная пена, По поверхности жизни плывет (с. 198).
И хотя юность — это в первую очередь время любви и радости, последние не способны уберечь молодую жизнь от «налетной пены» пошлого и обыденного существования. Избежать ее можно лишь при наличии высокой мечты, достижению которой должны быть отданы все душевные и духовные силы. Опосредованно эта мысль выражена в заключительной строфе:
Только раз мы мечтой вдохновенной Постигаем восторг не земной.
Только юность к бессмертью вселенной Приобщается чистой душой (с. 198).
Но, как показывает содержание стихотворений «Молитва» (1890, № 8) и «Возврат» (1895, № 9), приобщиться к «бессмертью вселенной» молодому человеку очень непросто, а иногда и невозможно. К примеру, герой первого — исполненного в типично «декадентском» духе — произведения, желая возвратить
«душе измученной» «хотя на краткий миг блаженную отраду», прибегает к молитве:
Но с охладевших уст в отчаянии бессильном Срывались в тишине лишь бледные слова: Казалось, был объят я холодом могильным И для восторга грудь была уже мертва (с. 48).
Текстов, подобных названным, в поэзии «Русского богатства» 1890-х годов изрядное количество. Все они так или иначе отразили внутреннюю неустроенность человека порубежной эпохи.
Что касается стихотворения «Возврат», то, несмотря на схожесть звучания, оно существенно отличается от «Молитвы». Поначалу его герой — «в минуты горести, в минуты озлобленья» — также не верит «ни в себя, ни в правду, ни в людей», и в конечном итоге осмеивает и проклинает «убежденья наивной юности». Результат потери «отваги юности» печален:
Надежды схоронив, с отчаянием скрытым, Я бросился в поток бездушной суеты, Где жег меня разврат дыханьем ядовитым, Тлетворный вихрь губил последние цветы (с. 34).
Но из самой сложной ситуации, считает Федоров, человек может найти выход, но он должен быть способен почувствовать «стыд» и «укор» за происходящее с ним. Правда, одной совестливости мало, необходимы еще решимость и сила, которых герою «Возврата», страстно желающему обрести себя прежнего, истинного, явно не достает; и потому он вынужден обратиться за помощью к братьям по духу:
И я воскрес на миг, и вновь безумным криком Зову вас, спутники священного пути, Зову поднять меня, очистить и спасти
В своем огне нетленном и великом! (с. 34).
Что касается «пейзажной» лирики, то из всех опубликованных в 90-е годы в «Русском богатстве» стихотворений Федорова к ней можно отнести также лишь несколько текстов («Подснежники», «Звуки ночи», «Под шум дождя»). В них, в сущности, выражается то же, что и в ранее рассмотренных произведениях: душевная неудовлетворенность человека. Но на этот раз она передается при помощи природной зарисовки. Следует отметить, что природа у Федорова не всегда только фон; одна из важных функций природных описаний в его стихах — подчеркнуть неистребимость всего живущего на земле. Для пребывающего в смятенных чувствах человека это поэтическое утвер ждение, по замыслу художника, должно восприниматься как императив.
В стихотворении «Подснежники» (1896, № 4), где непосредственно этого природного образа нет, говорится о том, что в «грустном и усталом» сердце человека, который утратил жизненный ориентир, обнадеживающе
Робко зреет, расцветает, Как подснежник белый — Сладко душу опьяняет Аромат несмелый (с. 83).
В «несмелом» аромате пробуждающейся весны (природы) слышится не только «зов к любви нездешней», но и призыв к «песням и свободе». Поэт стремится передать самый момент пробуждения желания новой жизни, появляющегося в душе героя, как только он начинает осознавать насколько прекрасна жизнь: «Точно хмелем, лаской вешней / Все полно в природе».
Увиденная и «осмысленная» полнота природы должна наметить в душе героя постепенный выход из состояния хандры:
Мысли, чувства, — все в разброде.
Грудь щемит без боли...
Сердце к счастью и свободе Рвется поневоле (с. 83).
Стихотворение «Под шум дождя» (1897, № 12) выполнено в импрессионистической манере и напоминает ряд хрестоматийных текстов П. Верлена и К. Бальмонта (например, знаменитую верленовскую «Песню без слов»). Однако в произведении Федорова внутренняя сумятица в душе героя, из-за которой «сердцу жутко от покоя» и «бредит мысль», не просто невнятно им ощущается (в этом моменте тексты французского и русского поэтов сходны); она — «под шум дождя» — фактически преодолевается. Из чего следует, что природный образ используется Федоровым функционально: им художник утверждает законное право человека на достойную и счастливую жизнь:
И под гул дождя ночного Как-то сладостно и ново Мне мечталось и дышалось в мраке у окна.
И казалося, со мною
Речью мягкой и родною
Говорила и сулила счастие весна (с. 266).
Несмотря на различие масштабов дарования Верлена и Федорова, их тексты сопоставимы и в плане поэтической интонации.
У французского символиста поэтическая интонация — импрессионистическая, меланхолическая, передающая «пессимистическое» настроение художника. В произведениях поэта «Русского богатства» она иная: остающаяся импрессионистической, но выражающая оптимистический, жизнеутверждающий настрой автора.
Более конкретные приметы названного качества «пейзажной» лирики Федорова можно обнаружить в стихотворении «Звуки ночи» (1895, № 3). Его герой поначалу также пребывает «в безотчетной печали», переходящей из-за «звуков ночи», которые напоминают вой волков, «в безнадежную тоску». Но уже во второй строфе читателю становится известным «безличный» характер этой дисгармонии. Перед героем проносится «рой бледных и страшных видений»:
Жгли мне душу упреком немым Их от слез потускневшие взоры, И неслись к небесам голубым Этих звуков нестройные хоры (с. 191).
И далее:
И меня на борьбу за собой Звали бледные тени, как брата, На борьбу с беспощадною тьмой Против злобы, насилья, разврата (с. 192).
Однако, как только «печальные тени ушли» и «тревожная ночь замолчала», благородный порыв... оставляет героя: «И опять я, как раб, / Стал бессилен и слаб, / И лишь сердце о чем-то рыдало...».
Это стихотворение, с характерным для порубежной поэзии набором образов и мотивов, занимает, если так можно выразиться, «срединное» положение в творчестве Федорова 1890-х годов. По одну сторону от него располагаются произведения «декадентские» (например, «Молитва»). По другую — стихотворения на социальную тему. «Звуки ночи» являются красноречивым подтверждением чрезмерной «открытости» Федорова самым различным влияниям, и связано это было в первую очередь с трудностью обретения им индивидуального поэтического голоса.
К «социальным» произведениям Федорова безоговорочно можно отнести лишь стихотворение «Слезы» (1895, № 11), о чем сообщает уже его первая строфа:
Слезы людские, как искры горючие, Падают на сердце мне.
Жгут эти слезы, терзая и мучая.
Грудь от них вся-то в огне (с. 37).
Любопытно, что даже в этом — «самом» социальном — тексте герой подтверждения своим благородным чувствам ищет у Бога, причем происходит это в итоговой строфе:
Нет, если б Бог осудил без скончания Мир пресмыкаться во зле, —
Он не вдохнул бы в сердца сострадания
К скорбям чужим на земле (с. 37).
Однако преувеличивать указанный момент не стоит, поскольку в поэзии конца XIX века религиозные образы-понятия активно используются большинством художников без прямого соотнесения с религией.
Не проходит Федоров и мимо темы города, раскрываемой им на контрасте с гармонией природной жизни. Так, в стихотворении «Закрой окно, дитя: пугает ум больной...» (1890, № 5—6) буржуазная цивилизация и природа не просто различаются; они, образуя «контраст чудовищный», противопоставлены:
Повеяло с небес лазоревых; природа Трепещет и живет в наплыве свежих волн И воздух, кажется, тревогой тайной полн, И всюду торжество и светлая свобода, — А здесь, в столице, ум до боли утомлен Ярмом торгашества, позора и неволи, Здесь люди падают под гнетом тяжкой доли, Здесь холод ледяной, здесь жизнь — ужасный сон (с. 134).
Поэт сокрушенно и не без стыда вынужден признать, что «венец творения [человек] беспомощен, забит / И жалок, жалок...».
В других стихотворениях этой группы — «Прости, цветущий край...», «На севере», «Изгнанник» — «общественное» заключается в прославлении патриотизма, в воспевании преданности родине.
В стихотворении «На севере» (1894, № 10) выражением любви к «грустной красоте родной своей страны» (последняя в мечтах лирического героя всегда пребудет «в величии вековечном») дело не ограничивается. Вернувшись на родину и увидев вместо «моря, гор, магнолий и лилий» «заплесневелый пруд с семьею старых ветел / И мельницу — приют столетний голубей!», он испытывает чувство вины:
Мне стыдно, что под плеск чарующего моря, Под шепот тополей и лавров, и олив
Забыл я край родной, — приют нужды и горя, Не видел жгучих слез над всходом тощих нив. О, родина, прости позорное забвенье!
Прости и, просветив меня, благослови На светлую борьбу за дело просвещенья Во имя истины, свободы и любви! (с. 36).
В поэтических текстах Федорова большую роль играет условность. Условным является, в частности, традиционное для русской поэзии XIX века противопоставление чужого «южного края» и родного «севера». Этот прием активно эксплуатируется в порубежную эпоху, в том числе и поэтами «Русского богатства». Для «социальной» (гражданственной) лирики указанное противопоставление экстратерриториально. Им актуализируется не внешнее (географическое) удаление человека от родины, а внутреннее его «отсутствие» в ней, означающее по сути «олитературенное» (пассивное, созерцательное?) отношение к реальным проблемам общественной жизни.
В своем творчестве Федоров не обходит стороной и тему детства. Так, во втором номере «Русского богатства» за 1895 год напечатано его стихотворение «Ночное», воскрешающее волшебный мир детства. Поэту удается передать таинственную и романтическую атмосферу этого мира, в частности, в эпизоде, когда собравшиеся вокруг костра дети, затаив дыхание, слушают сказку своего товарища:
Ночь вплетает в ту сказку свои чудеса, Ароматы и тайны, и звуки...
Страх, иль ветер, порой, шевелит волоса? ...Злой волшебник... царевич... девица-краса... Привиденья... блаженство и муки... (с. 168)
Но в первую очередь народнический журнал интересовала поэзия с отчетливым социальным мотивом. Такого рода произведения есть и у Федорова, например, стихотворения «Поэзия! Тебя в страдальческие ночи...» (1890, № 9) и «Колокол» [1899, № 9 (12)].
***
Рассмотренные в статье произведения А. Федорова на первый взгляд не дают достаточных оснований признать его типичным поэтом «Русского богатства», поскольку не он был самым ярким и последовательным выразителем идеологии народнического издания. С другой стороны, в 1890-е годы Федоров — один из наиболее часто публикуемых в «Русском богатстве» авторов.
Думается, противоречия здесь нет. Во-первых, потому что в отношении поэзии вообще непросто (в силу специфики этого рода литературы) проводить жесткую «направлен-ческую» политику. Во-вторых, нельзя не учитывать переходный характер поэзии 1890-х годов, находившейся в промежуточном поло жении, точно определяемом выражением «между прошлым и будущим». Для творчества второстепенных художников этот фактор стал определяющим, а потому с разной степенью причастности и с разным успехом они существовали «и там и здесь». Уместно сказать, что первое модернистское направление — символизм — оформляется как раз к середине десятилетия.
В силу указанных выше причин поэтам «Русского богатства», испытывавшим затруднения с выработкой собственного творческого почерка, волей-неволей приходилось развивать общеизвестные идеи и темы. Причем, для менее «тенденциозных» из них этот круг идей и тем пополнялся за счет привлечения мотивов, активно культивируемых сторонниками «чистого», а позже — и «нового искусства». Не случайно исследователями литературной истории «Русского богатства» констатируется факт проникновения на его страницы «декадентских мотивов».
Что касается поэзии Федорова, то выявить ее существо окончательно едва ли возможно. Пожалуй, самая характерная примета его «мало прописанного» индивидуального стиля связана с импрессионистической манерой. В целом же в поэтическом творчестве Федорова не был до конца воплощен ни один из актуальных на тот момент эстетических концептов. В многочисленных стихах, посвящаемых самым различным темам и мотивам, обнаруживается всего понемногу. А ведь если доверять «воспоминаниям» П. Перцова, Федоров «особенно нравился» Н.К. Михайловскому. В 1890-е годы поэт публикуется не только в «Русском богатстве», но и в других изданиях (например, в «Русской мысли» и в «Вестнике Европы»).
Список литературы Поэзия «Русского богатства» 1890-х годов (на материале творчества А.М. Федорова)
- Кочергина И.В. В.Г. Короленко и литературная критика и журналистика конца XIX века: Дис.... канд. филол. наук. М., 1997. С. 63, 64.
- Михайловский Н.К. Дневник читателя (1885-1888)//Сочинения Н.К. Михайловского. СПб., 1897. Т. 6. С. 601.
- Ив. Бунин. Под открытым небом. Стихотворения. М., 1898 г.//Русское богатство. 1898. № 12. Отд. II. С. 46.
- Чертков Л.Н. А.М. Федоров//Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 1972. Т. 7. Стб. 912.
- Максимов Д.Е., Помирчий Р.Е. Примечания//Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 617.
- Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890-1902 гг./Под ред. А.В. Лаврова. М., 2002. С. 136.
- А. Федоров. Стихотворения. СПб., 1898 г.//Русское богатство. 1899. ¹ 3. Отд. II. С. 60.
- Сквозников В.Д. Русская лирика. Развитие реализма. М., 2002. С. 115.
- Русское богатство. 1890. № 1. С. 18.