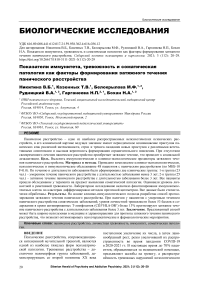Показатели иммунитета, тревожность и соматическая патология как факторы формирования затяжного течения панического расстройства
Автор: Никитина В.Б., Казенных Т.В., Белокрылова М.Ф., Рудницкий В.А., Гарганеева Н.П., Бохан Н.А.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Биологические исследования
Статья в выпуске: 3 (112), 2021 года.
Бесплатный доступ
Паническое расстройство – одно из наиболее распространенных непсихотических психических расстройств, в его клинической картине ведущее значение имеют периодическое возникновение приступов панических атак различной интенсивности, страх и тревога ожидания новых приступов с различными вегетативными симптомами и высокая вероятность формирования ограничительного поведения. При отсутствии своевременного лечения паническое расстройство приобретает затяжное течение, что приводит к социальной дезадаптации. Цель. Выделить иммунологические и клинико-психологические предикторы затяжного течения панического расстройства. Материал и методы. Проведено комплексное клинико-психопатологическое, психологическое и иммунологическое обследование 48 пациентов с паническим расстройством (по МКБ-10 F41.0). По течению и длительности заболевания были сформированы две клинические группы: 1-я группа (23 чел.) – умеренное течение панического расстройства с длительностью заболевания менее 3 лет; 2-я группа (25 чел.) – затяжное течение панического расстройства с длительностью заболевания более 3 лет. Все пациенты прошли обследование у терапевта на предмет выявления соматической патологии. Оценивали уровень личностной и реактивной тревожности. Лабораторное исследование включало фенотипирование иммунокомпетентных клеток по кластерам дифференцировки методом проточной цитометрии. Все данные были статистически обработаны. Результаты. На основе клинико-иммунологического подхода разработан способ прогнозирования затяжного течения панического расстройства. При наличии у пациентов с умеренным течением панического расстройства соматических заболеваний, уровня личностной тревожности более 53 баллов и содержании в крови активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+) более 13% прогнозируют затяжное течение панического расстройства с длительностью заболевания более 3 лет. Заключение. Предложенный способ может быть широко использован в медицине и здравоохранении для прогноза затяжного течения панического расстройства, что позволит оптимизировать психотерапевтические и фармакологические мероприятия.
Паническое расстройство, личностная тревожность, иммунитет, соматическая патология.
Короткий адрес: https://sciup.org/142229974
IDR: 142229974 | УДК: 616.89-008.441:612.017.2:159.938.362.4:616-036.12 | DOI: 10.26617/1810-3111-2021-3(112)-20-29
Текст научной статьи Показатели иммунитета, тревожность и соматическая патология как факторы формирования затяжного течения панического расстройства
Психические расстройства, сопровождающиеся интенсивной мучительной тревогой, являются одной из наиболее тяжелых форм психиатрической патологии. Тревожные расстройства – достаточно полиморфная группа заболеваний, демонстрирующих со второй половины XX века постепенное увеличение их числа, а затем лавинообразный рост, резко увеличивший их распространенность во время пандемии COVID-19 в 2020-2021 гг. В настоящее время до 70% пациентов, обращающихся за медицинской помощью, предъявляют жалобы на тревогу, а распространённость тревожных нарушений нозологического уровня за период пандемии увеличилась на 30% в год по сравнению с исходными (до пандемии) показателями [1, 2, 3, 4]. К числу наиболее распространенных непсихотических психических расстройств, основным диагностическим признаком которых является тревога, относятся паническое расстройство, органическое тревожное расстройство, тревожное расстройство личности, посттравматическое стрессовое расстройство и расстройства адаптации [5, 6]. Если последняя нозологическая форма, имеющая психогенную природу, достаточно хорошо поддается терапии и не представляет большой сложности в плане диагностики, то остальные нозологические варианты тревожных нарушений во многих случаях могут протекать со схожими клиническими проявлениями, которые в одних случаях воспринимаются как основные формы психических расстройств, а в других – как фоновые или сопутствующие. Недоучет клинических и патогенетических признаков и механизмов приводит к ошибкам в диагностике и снижает эффективность терапии и профилактики, пополняя когорты тяжелых хронических больных с трудно решаемыми медико-социальными и психологическими проблемами. Особенно это касается панического расстройства.
В клинической картине панического расстройства определяющее значение имеют периодически возникающие приступы паники – внезапной тревоги пароксизмального характера, сопровождающейся страхом, двигательным возбуждением, неусидчивостью и выраженными полиморфными психовегетативными нарушениями различной интенсивности и локализации в виде сердцебиений, наплывов жара, потливости либо, напротив, зябкости, озноба, а также вегетативными нарушениями другой локализации – чувством нехватки воздуха, удушьем, полиморфными болями, дисфункциями со стороны ЖКТ, тошнотой, рвотой и т.д. Тревожность также может сохраняться и в межприступном периоде, изменяясь по интенсивности. Мучительные тревожные пароксизмы выступают в роли вторичных психотравмирующих обстоятельств, когда происходит фиксация внимания на приступах тревоги и формируется страх перед повторением данных пароксизмов, преобладает тревога их ожидания с частым присоединением астенической, депрессивной или дистимической симптоматики. Психовегетативная симптоматика может носить как устойчивый, так и изменчивый полиморфный характер.
Например, у пациентов, которые прежде жаловались на вегетативные нарушения преимущественно со стороны сердечно-сосудистой или гастродуоденальной системы, на фоне развития пандемии произошло «смещение» фиксации в область респираторных нарушений с развитием гипервентиляционного синдрома и приступов удушья или нехватки воздуха [7]. Сочетание различных, как правило, интенсивных эмоциональных и физических симптомов, подвергается когнитивной переработке и формированию поведенческих нарушений, способствующих ограничениям в социальной сфере и системе личных взаимоотношений. При отсутствии своевременной диагностики данные расстройства часто и безуспешно пытаются лечить специалисты соматической сети, и паническое расстройство приобретает затяжное течение, одновременно снижается доверие пациентов к представителям медицинских служб и происходит ослабление лечебного альянса, что еще более способствует социальной и психической дезадаптации [8]. Для большинства пациентов c паническими расстройствами характерны повторные малоэффективные госпитализации [9], что в сочетании со сложностями субъективного характера приводит к дальнейшему ухудшению приверженности к терапии.
В научной литературе в числе предикторов затяжного течения панического расстройства выделяют личностные особенности индивида, определяющие его уязвимость к стрессовым воздействиям, затрагивающим наиболее значимые отношения личности, и имеющие сходный (стереотипный) характер [7]. Отечественными авторами описаны психологические провоцирующие факторы в возникновении и поддержании патологического процесса при данном расстройстве: ин-тернальность в отношении к болезни, избирательное внимание к неудачному опыту, трудности в построении межличностных отношений, чрезмерная склонность к контролю в сочетании с низкой переносимостью страданий и др. [10]. В наблюдаемых нами случаях часто отмечалось сочетание активного, требовательного поиска пациентами врачей и психологов и в то же время нежелание выполнять требования терапии и соблюдать лечебный режим, что, как показывает практика, связано с искаженным представлением о болезни и биопсихосоциальными причинами.
Таким образом, большая часть пациентов имела биологическую предрасположенность к тревожному варианту реагирования на проблемную ситуацию, спровоцированному внешними и внутренними обстоятельствами. Поиск биологических маркеров данной предрасположенности позволяет разрабатывать и применять превентивные и профилактические меры медицинского и психологического характера.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выделить иммунологические и клиникопсихологические предикторы затяжного течения панического расстройства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Комплексное клинико-психопатологическое, психологическое и иммунобиологическое обследование включало 48 лиц (13 мужчин и 35 женщин), проходивших курс стационарного лечения в первом клиническом психиатрическом отделении клиники НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. Средний возраст пациентов составил 38,36±10,56 года. Диагностическая оценка проводилась по основным клиническим критериям МКБ-10. По течению (длительности) заболевания были сформированы две клинические группы: 1-я группа (23 чел.) – умеренное течение панического расстройства с длительностью заболевания менее 3 лет; 2-я группа (25 чел.) – затяжное течение панического расстройства с длительностью заболевания более 3 лет. Ведущим клиническим синдромом в обеих группах был тревожно-фобический. Все пациенты прошли обследование у терапевта на предмет выявления (исключения) соматической патологии.
Уровень тревожности оценивали по шкале личностной и реактивной тревожности Спилбер-гера-Ханина [11].
Материал для исследования ‒ образцы крови, взятые у исследуемых лиц из локтевой вены утром натощак с использованием стерильной системы однократного применения Vacutainer с антикоагулянтом EDTA (Becton Dickinson, USA).
Лабораторные методы включали исследование субпопуляционного состава лимфоцитов методом проточной цитометрии системы Facs Calibur (Becton Dickinson, USA) с использованием серии реагентов BD Multitest™ (Becton Dickinson, USA).
Определяли: CD3+CD19- (Т-лимфоциты), CD3+CD4+ (Т-хелперы/индукторы), CD3+CD8+ (цитотоксические Т-лимфоциты), CD3-CD19+ (В-лимфоциты), CD3-CD16+CD56+ (натуральные клетки-киллеры, NK-клетки), CD3+HLA-DR+ (активированные Т-лимфоциты) [12]. В качестве контроля были приняты психологические и иммунобиологические данные 75 практически здо- ровых лиц, соответствующих по полу и возрасту пациентам с паническим расстройством.
Статистический анализ включал использование пакетов SPSS Statistics 23.0 для Windows. Анализ таблиц сопряженности признаков осуществлялся с помощью критерия χ² Пирсона. Анализ количественных данных проводили сравнением независимых выборок с помощью U-критерия Манна-Уитни. Критический уровень значимости принимался равным 0,05. Описательная статистика и табличные данные представлены медианой (Ме) и межквартильным интервалом (LQ–UQ).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Клинический анализ показал, что в 1-й группе преобладали пациенты с умеренной степенью тяжести панического расстройства (20 чел., 87%), которая определялась при наличии по меньшей мере четырех панических атак в месяц. Во 2-й группе со статистически значимой более высокой частотой по сравнению с 1-й группой встречались пациенты с тяжелой степенью заболевания, которая была верифицирована при наличии по меньшей мере четырех панических атак в неделю и была диагностирована у 18 пациентов, что составило 72% (χ2=16,9; df=1; р=0,000).
При клиническом обследовании у всех пациентов с паническим расстройством фиксировалось наличие или отсутствие соматических заболеваний. Соматическая патология в 1-й группе была выявлена у 56,5% пациентов (у 43,5% больных этой группы признаки хронических заболеваний отсутствовали) (табл. 1).
У всех пациентов 2-й группы были диагностированы соматические заболевания: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (36,0%) и болезни системы кровообращения (28,0%). Среди нарушений эндокринной системы преобладали заболевания щитовидной железы, при нарушениях в системе кровообращения чаще встречалась гипертоническая болезнь.
Т а б л и ц а 1. Характеристика соматической патологии у пациентов с паническим расстройством в зависимости от типа течения заболевания
|
Класс заболеваний по МКБ-10 |
Пациенты с паническим расстройством |
|||
|
Умеренное течение (1-я группа) |
Затяжное течение (2-я группа) |
|||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
|
|
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |
6 |
26,1 |
9 |
36,0 |
|
Болезни системы кровообращения |
0 |
0,0 |
7 |
28,0 |
|
Болезни органов дыхания |
3 |
13,0 |
4 |
16,0 |
|
Болезни органов пищеварения |
4 |
17,4 |
5 |
20,0 |
|
Отсутствие соматической патологии |
10 |
43,5 |
0 |
0,0 |
|
Всего |
23 |
100,0 |
25 |
100,0 |
П р и м е ч а н и е: χ 2 =17,8; df=4; р=0,001.
Данные психологического обследования пациентов и здоровых лиц представлены в таблице 2. Анализ результатов свидетельствует, что при паническом расстройстве показатели личностной и реактивной тревожности статистически значимо выше таковых показателей у здоровых лиц. В группе пациентов с затяжным течением панического расстройства (2-я группа) по сравнению с пациентами с умеренным течением (1-я группа) выявлен статистически значимый более высокий уровень личностной тревожности - 56 [53-61] баллов (р2=0,000). Различия между показателями реактивной тревожности у пациентов с различным течением панического расстройства не существенны и не достигают уровня статистической значимости.
Таблица 2. Сравнительное распределение показателей личностной и реактивной тревожности у пациентов с паническим расстройством и здоровых лиц (Ме [LQ-UQ])
|
Показатель |
Здоровые лица (n=75) |
Пациенты с паническим расстройством |
P 2 |
|
|
1-я группа (n=23) |
2-я группа (n=25) |
|||
|
Личностная тревожность, баллы |
37 [34-40] |
48 [46-52] р 1 =0,000 |
56 [53-61] р 1 =0,000 |
0,000 |
|
Реактивная тревожность, баллы |
38 [34-41] |
47 [41-52] р 1 =0,000 |
50 [43-52] р 1 =0,000 |
0,365 |
Примечание: р 1 - достоверность различий по отношению к здоровым лицам; р2 - достоверность различий между 1-й и 2-й группами пациентов.
На этапе лабораторного обследования выявлены разнонаправленные изменения между клиническими группами больных с паническим рас- стройством и здоровыми лицами по большинству исследуемых иммунологических параметров (табл. 3).
Таблица 3 . Сравнительное распределение показателей системы иммунитета у пациентов с паническим расстройством и здоровых лиц (Ме [LQ-UQ])
|
Показатель |
Здоровые лица (n=75) |
Пациенты с паническим расстройством |
P 2 |
|
|
Умеренное течение (1-я группа, n=23) |
Затяжное течение (2-я группа, n=25) |
|||
|
Лейкоциты, 10 9 /л |
6,5 [5,7-7,4] |
6,4 [5,6-7,2], р 1 =0,587 |
5,9 [5,1-6,7], р 1 =0,043 |
0,423 |
|
Лимфоциты, % |
36,0 [30,0-40,0] |
38,5 [30,0-45,0], р 1 =0,320 |
39,0 [34,5-44,3], р 1 =0,037 |
0,607 |
|
CD3 + CD19 - , % |
76,0 [68,5-80,0] |
72,0 [64,0-75,5], р 1 =0,026 |
78,0 [76,0-80,8], р 1 =0,051 |
0,000 |
|
CD3 + CD4 + , % |
48,0 [43,5-54,5] |
42,5 [34,0-49,0], р 1 =0,001 |
50,0 [45,0-52,0], р 1 =0,782 |
0,003 |
|
CD3 + CD8 + , % |
24,0 [20,0-29,5] |
29,0 [23,8-32,5], р 1 =0,033 |
28,0 [24,5-30,8], р 1 =0,014 |
0,951 |
|
CD3 + CD4 + /CD3 + CD8 + |
2,1 [1,5-2,7] |
1,5 [1,0-1,9], р 1 =0,002 |
1,8 [1,6-2,1], р 1 =0,029 |
0,113 |
|
CD3 - CD19 + , % |
11,0 [7,5-14,0] |
13,0 [10,8-20,0], р 1 =0,003 |
13,0 [10,0-15,8], р 1 =0,016 |
0,287 |
|
CD3 - CD16 + CD56 + , % |
12,0 [8,5-16,0] |
15,0 [12,0-17,0], р 1 =0,088 |
13,0 [9,0-16,0], р 1 =0,924 |
0,113 |
|
CD3 + HLA-DR + , % |
5,5 [2,0-9,0] |
8,0 [7,0-12,0], р 1 =0,000 |
15,0 [13,0-19,0], р 1 =0,000 |
0,000 |
Примечание: р 1 - достоверность различий по отношению к здоровым лицам; р 2 - достоверность различий между 1-й и 2-й группами пациентов.
У пациентов с умеренным течением панического расстройства по сравнению с контролем установлены статистически значимые различия: снижение количества Т-лимфоцитов CD3+CD19--фенотипа (р1=0,026), повышение В-лимфоцитов CD3-CD19+-фенотипа (р1=0,003) и активированных Т-лимфоцитов CD3+HLA-DR+-фенотипа (р1=0,000). Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+) статистически значимо снижен (р1=0,002) за счет более низкого содержания Т-хелперов-индукторов CD3+CD4+-фенотипа (р1=0,001) и более высокого количества цитотоксических Т-лимфоцитов CD3+CD8+-фенотипа (р1=0,033). При затяжном течении панического расстройства по сравнению с умеренным течением обнаружены статистически значимые различия: на фоне снижения в крови общего количе- ства лейкоцитов (р1=0,043) выявлено повышение содержания Т-лимфоцитов (р1=0,051) и их субпопуляции, обладающей супрессорной активностью (р1=0,014), что привело к снижению иммунорегу-ляторного индекса (р1=0,029), а также увеличено содержание В-лимфоцитов (р1=0,016) и активированных Т-лимфоцитов (р1=0,000). Наиболее существенными особенностями в группе пациентов с затяжным течением панического расстройств по сравнению с пациентами с умеренным течением являются статистически значимые различия: более высокое содержание Т-лимфоцитов (р2=0,000), Т-хелперов-индукторов (р2=0,003) и количества Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+HLA-DR+ - маркером поздней активации (р2=0,000).
Изменения в системе иммунитета при паническом расстройстве могут быть обусловлены нарушением функционирования неспецифических лимбико-ретикулярных модулирующих систем головного мозга разного уровня. Миндалевидное тело играет важную функциональную роль в возникновении страха и тревоги. Считается, что аномалии миндалевидного тела составляют нейробиологическую основу панического расстройства [13, 14, 15]. Лимбическая система мозга в свою очередь входит в состав нервной регуляции функций иммунологической защиты [16]. Чрезмерная активность миндалевидного тела и эмоциональных зон лимбической системы при паническом расстройстве [17, 18] может привести к дезорганизации деятельности всего регуляторного аппарата, нарушению нейроиммунной регуляции, индуцированию патологии функции иммунитета.
На основе полученных данных предложен способ прогнозирования затяжного течения панического расстройства с длительностью заболевания более 3 лет путем выявления у пациентов соматических заболеваний, оценки уровня реактивной и личностной тревожности, определения иммунологических параметров по данным анализа крови. При наличии соматической патологии (болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ), при уровне личностной тревожности более 53 баллов и содержании активированных Т-лимфоцитов (CD3 + HLA-DR + ) более 13% прогнозируют затяжное течение панического расстройства с длительностью заболевания более 3 лет. На этот способ получен патент на изобретение [19].
Выбор трех признаков, таких как наличие соматической патологии, уровень личностной тревожности и количество активированных Т-лимфоцитов, в качестве прогностических критериев затяжного течения панического расстройства определен следующими обстоятельствами. Личностная тревожность представляет собой конституциональную черту, обусловливающую склонность человека воспринимать угрозу в широком диапазоне ситуаций. При высокой личностной тревожности каждая из угрожающих (по субъективной оценке) ситуаций будет обладать стрессовым воздействием на субъекта и вызывать у него выраженную тревогу. Показатель личностной тревожности нарастает с усилением дезадап-тивной симптоматики при адаптации человека к изменившимся условиям жизнедеятельности, что сопровождается установлением новых корреляционных взаимосвязей между личностными характеристиками и компонентами системы иммунитета.
Эти корреляции отражают напряженность функционирования иммунитета при повышении личностной тревожности [20]. Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями [11].
Экспрессия молекул HLA-DR на клеточной мембране - маркер поздней и длительной активации клеток, показатель гиперреактивности иммунитета. Экспрессия этого маркера происходит в ответ на выработку цитокинов активированными иммунокомпетентными клетками, что наиболее полно отражает активационное состояние клеток иммунной системы. [21]. Предполагают, что CD3 + HLA-DR + представляют собой зрелые регуляторные Т-клетки с высокой супрессорной активностью [22], а повышение экспрессии молекул HLA-DR на клеточных мембранах является одним из механизмов реализации апоптоза, особенно в отношении Т-лимфоцитов [23]. Увеличение количества Т-лимфоцитов с фенотипом CD3 + HLA-DR + наблюдается при различных заболеваниях, так как нарушение функционирования иммунной системы является существенным звеном патогенеза многих заболеваний, оказывая негативное влияние на их течение, утяжеляя клиническую картину, снижая эффективность терапии [24, 25, 26, 27]. Нарушения в иммунной системе и наличие соматической патологии осложняют и клиническую картину панических расстройств, способствуя их затяжному течению.
Далее приведены примеры прогнозирования затяжного течения панического расстройства с использованием уровня тревожности, маркера поздней активации системы иммунитета и наличия соматической патологии различных систем организма.
Пациент З., 42 года, частный предприниматель. Диагноз: Паническое расстройство (F41.0). Длительность заболевания на момент обращения к психиатру составила 1,5 года. Соматической патологии не выявлено. По Шкале Спилбергера-Ханина: реактивная тревожность - 47 баллов, личностная тревожность - 46 баллов. Лабораторное обследование: лейкоциты 6,4 Г/л, лимфоциты 30%, активированные Т-лимфоциты (CD3 + HLADR + -фенотипа) 8%. В течение 4 лет после выписки из стационара у пациента не наблюдалось панических атак.
Пациентка С., 51 год, библиотекарь. Диагноз: Паническое расстройство (F41.0). Давность заболевания 5 лет. Данная госпитализация третья по счету. Первое обращение к психиатру - на ранней стадии панического расстройства, длительность заболевания на тот момент составила 8 месяцев. Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь II стадии. Неконтролируемая АГ. Гипертрофия левого желудочка. Риск сердечнососудистых осложнений 3 (высокий). Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, клиническая ремиссия. Желчнокаменная болезнь, хронический калькулезный холецистит. Результаты психологического обследования (по Шкале Спилбергера-Ханина): реактивная тревожность ‒ 52 балла, личностная тревожность – 58 баллов. Лабораторное обследование: лейкоциты 5,0 Г/л, лимфоциты 42%, активированные Т-лимфоциты (CD3+HLA-DR+-фенотипа) 19%.
Пациентка О., 55 лет, лаборант. Диагноз: Паническое расстройство (F41.0). Давность заболевания 4 года. Находилась на лечении в клинике повторно. Впервые паническое расстройство диагностировано 2 года назад. Сопутствующий диагноз: Гипертоническая болезнь II стадии. Неконтролируемая АГ. Ожирение II степени. Дислипидемия. Нарушение толерантности к глюкозе. Атеросклероз брахицефальных артерий, атеросклеротическая бляшка со стенозированием до 15% с обеих сторон. Риск сердечно-сосудистых осложнений 3 (высокий). Неалкогольная жировая болезнь печени, стеатоз. Хронический холангиохо-лецистит. По данным психологического обследования (Шкала Спилбергера-Ханина) реактивная тревожность составила 48 баллов, личностная тревожность – 62 балла. Лабораторное обследование: лейкоциты 5,9 Г/л, лимфоциты 38%, активированные Т-лимфоциты (CD3+HLA-DR+-фенотипа) 17%.
Пациентка Т., 39 лет, преподаватель. Диагноз: Паническое расстройство (F41.0). Давность заболевания 7 лет. Предыдущая госпитализация 6 лет назад с диагнозом: Паническое расстройство. Сопутствующий диагноз: Гипертоническая болезнь I стадии. Степень АГ 1. Дислипидемия. Избыточная масса тела. Риск сердечно-сосудистых осложнений 2 (умеренный). Синдром раздраженного кишечника, смешанный вариант. Хронический аутоиммунный тиреоидит, диффузная форма, эутиреоз. Поллиноз, рецидивирующее течение. Хронический тонзиллит. Данные психологического обследования (по Шкале Спилбергера-Ханина): реактивная тревожность – 53 балла, личностная тревожность – 55 баллов. Лабораторное обследование: лейкоциты 6,9 Г/л, лимфоциты 30%, активированные Т-лимфоциты (CD3+HLA-DR+-фенотипа) 15%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, особенностями случаев с затяжным течением панического расстройства с длительностью заболевания более 3 лет являются наличие соматической патологии (болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, эндокринной системы, рас- стройства питания и нарушения обмена веществ), повышение уровня личностной тревожности и увеличение количества активированных Т-лимфоцитов, что позволяет рассматривать данные признаки в качестве предикторов затяжного течения панического расстройства, определяемых на раннем этапе заболевания. Полученные данные могут быть широко использованы в медицине и здравоохранении для прогноза затяжного течения панического расстройства, что позволит оптимизировать психотерапевтические и фармакологические мероприятия.
Список литературы Показатели иммунитета, тревожность и соматическая патология как факторы формирования затяжного течения панического расстройства
- Мосолов С.Н. Актуальные задачи психиатрической службы в связи с пандемией COVID-19. Современнаятерапияпсихическихрасстройств. 2020. № 2. С. 26-33. https://doi.org/10.21265/PSYPH.2020.53.59536.
- Холодова Ю.Б. Особенности переживания тревоги в период пандемии COVID-19 представителями разных возрастных групп. Международныйжурналмедициныипсихологии. 2020. Т. 3, № 2. С. 114-117.
- Luo M, Guo L, Yu M, Jiang W, Wang H. The psychological and mental impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on medical staff and general public ‒ A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Res. 2020 Sep;291:113190. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113190. Epub 2020 Jun 7. PMID: 32563745; PMCID: PMC7276119.
- Shah SMA, Mohammad D, Qureshi MFH, Abbas MZ, Aleem S. Prevalence, Psychological Responses and Associated Correlates of Depression, Anxiety and Stress in a Global Population, During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic. Community Ment Health J. 2021 Jan;57(1):101-110. doi: 10.1007/s10597-020-00728-y. Epub 2020 Oct 27. PMID: 33108569; PMCID: PMC7590908.
- Бохан Н.А., Гычев А.В., Рахмазова Л.Д., Васильева Н.А. Распространенность непсихотических психических расстройств в Сибирском федеральном округе: взаимосвязь с региональными социально-экономическими трендами развития. Социальная и клиническая психиатрия. 2015. Т. 25, № 2. С. 78-82.
- Незнанов Н.Г., Мартынихин И.А., Мосолов С.Н. Диагностика и терапия тревожных расстройств в Российской Федерации: результаты опроса врачей-психиатров. Современная терапия психических расстройств. 2017. № 2. С. 2-13.
- Тутер Н.В., Тювина Н.А. Клинико-психофизиологический анализ панических атак у пациентов с различными психическими заболеваниями. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2011. № 1. С. 57-65.
- Караваева Т.А., Коцюбинский А.П. Холистическая диагностика пограничных психических расстройств. СПб. : Изд-во«СпецЛит», 2017. 286 с.
- Моор Л.В., Рахмазова Л.Д. Клинико-динамичес-кая характеристика и факторы риска панических расстройств. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2019. № 3 (104). С. 14-20. https://doi.org/10.26617/1810-3111-2019-3(104)-14-20.
- Караваева Т.А., Васильева А.В., Мизинова Е.Б. Белан Р.М., Моргачева Т.В., Гужева О.Б. Алгоритмы диагностики тревожных расстройств невротического уровня (панического, генерализованного тревожного и тревожно-фобических расстройств). В книге: Диагностика и лечение психических и наркологических расстройств: современные подходы. Сборник методических рекомендаций. СПб., 2018. С. 399-431.
- Спилбергер Ч. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги. Тревога и тревожность / под ред. В.М. Астапова. СПб.: Изд-во «Питер», 2001. С. 88-103.
- Хайдуков С.В., Байдун Л.В., Зурочка А.В., Тотолян А.А. Стандартизированная технология «Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови с применением проточных цитофлюориметров-анализаторов». Российский иммунологический журнал. 2014. Т. 8 (17), № 4. С. 974-992.
- Brinkmann L, Buff C, Feldker K, Tupak SV, Becker MPI, Herrmann MJ, Straube T. Distinct phasic and sustained brain responses and connectivity of amygdala and bed nucleus of the stria terminalis during threat anticipation in panic disorder. Psychol Med. 2017 Nov;47(15):2675-2688. doi: 10.1017/S0033291717001192. Epub 2017 May 9. PMID: 28485259.
- Sobanski T, Wagner G. Functional neuroanatomy in panic disorder: Status quo of the research. World J Psychiatry. 2017 Mar 22;7(1):12-33. doi: 10.5498/wjp.v7.i1.12. PMID: 28401046; PMCID: PMC5371170.
- Asami T, Nakamura R, Takaishi M, Yoshida H, Yoshimi A, Whitford TJ, Hirayasu Y. Smaller volumes in the lateral and basal nuclei of the amygdala in patients with panic disorder. PLoS One. 2018 Nov 7;13(11):e0207163. doi: 10.1371/journal.pone.0207163. PMID: 30403747; PMCID: PMC6221356.
- Корнева Е.А., Шанин С.Н., Новикова Н.С., Пугач В.А. Клеточно-молекулярные основы изменения нейроиммунного взаимодействия при стрессе. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2017. Т. 103, № 3. С. 217-229.
- Demenescu LR, Kortekaas R, Cremers HR, Renken RJ, van Tol MJ, van der Wee NJ, Veltman DJ, den Boer JA, Roelofs K, Aleman A. Amygdala activation and its functional connectivity during perception of emotional faces in social phobia and panic disorder. J Psychiatr Res. 2013 Aug;47(8):1024-31. doi: 10.1016/j.jpsychires.2013.03.020. Epub 2013 Apr 30. PMID: 23643103.
- Kaldewaij R, Reinecke A, Harmer CJ. A lack of differentiation in amygdala responses to fearful expression intensity in panic disorder patients. Psychiatry Res Neuroimaging. 2019 Sep 30;291:18-25. doi: 10.1016/j.pscychresns.2019.07.002. Epub 2019 Jul 9. PMID: 31357097.
- Патент РФ на изобретение № 2749487/11.06.2021. Бюл. № 17. Никитина В.Б., Казенных Т.В., Белокрылова М.Ф., Иванова А.А., Цыбульская Е.В., Гарганеева Н.П., Бохан Н.А. Способ прогнозирования затяжного течения панического расстройства.
- Ветлугина Т.П., Никитина В.Б., Невидимова Т.И., Лобачева О.А., Батухтина Е.И., Стоянова И.Я., Семке В.Я. Cистема иммунитета и уровень тревожности при адаптации человека к новым условиям жизнедеятельности. Фундаментальные исследования. 2012. Т. 9 (1). С. 17-21.. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/ view?id=30167.
- Литвинова Л.С., Гуцол А.А., Сохоневич Н.А., Кофанова К.А., Хазиахматова О.Г., Шуплецова В.В., Кайгородова Е.В., Гончаров А.Г. Основные поверхностные маркеры функциональной активности Т-лимфоцитов. Медицинская иммунология. 2014. Т. 16, № 1. С. 7-26. https://doi.org/10.15789/1563-0625-2014-1-7-26.
- Oba R, Isomura M, Igarashi A, Nagata K. Circulating CD3+HLA-DR+ Extracellular Vesicles as a Marker for Th1/Tc1-Type Immune Responses. J Immunol Res. 2019 May 8;2019:6720819. doi: 10.1155/2019/6720819. PMID: 31205958; PMCID: PMC6530242.
- Ярец Ю.И. Интерпретация результатов иммунограммы. Гомель: ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», 2020. 38 с.
- Никитин В.Ю., Сухина И.А., Цыган В.Н., Гусев Д.А., Жданов К.В. Маркеры активации на Т-хелперах и цитотоксических лимфоцитах на различных стадиях хронического вирусного гепатита С. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2007. № 1 (17) С. 65-71.
- Маркова E.B., Савкин И.В., Климова Т.В. Нейроиммунные механизмы психосоматической патологии. Красноярск: Изд-во: «Научно-инновационный центр», 2017. 164 с.
- Dons'koi BV, Tutchenko TM, Chernyshov VP, Stepaniuk KS. HCMV seropositivity is associated with specific proinflammatory immune phenotype in women with implantation failure. Immunol Lett. 2020 Jan; 217:84-90. doi: 10.1016/j.imlet.2019.11.008. Epub 2019 Nov 19. PMID: 31756347.
- Zhang L, Nie X, Luo Z, Wei B, Teng G. The Role of Human Leukocyte Antigen-DR in Regulatory T Cells in Patients with Virus-Induced Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Med Sci Monit. 2021 Mar 2;27:e928051. doi: 10.12659/MSM.928051. PMID: 33651771; PMCID: PMC7936470.