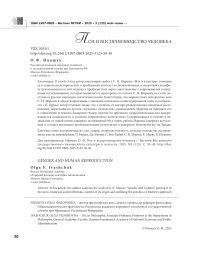Пол и воспроизводство человека
Автор: Иващук О.Ф.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Из истории отечественной философской мысли
Статья в выпуске: 3 (125), 2025 года.
Бесплатный доступ
В своей статье автор анализирует работу С. Н. Мареева «Пол и культура», помещая ее в социально-исторический и проблемный контекст ее возникновения и очерчивая специфику реализованного в ней подхода к проблеме пола через сопоставление с современными гендерными исследованиями, которые появились в одно время со статьей С. Н. Мареева, но стали доступны в русских переводах значительно позже. Констатируя, что марксистская методология вела С. Н. Мареева в одном направлении с анализом социального конструирования пола, в особенности с П. Бурдье, автор отмечает также, что в отличие от вектора развертывания гендерных исследований, обратившихся против «мужского господства», размышление Мареева не приводит его к стремлению устранить бинарный гендер, притом по причинам, принципиальным для воспроизводства социальности в условиях современного капитализма. Совершавшаяся в стороне и независимо от новой волны западных исследований 90‑х годов, работа Мареева содержит актуальный и сегодня потенциал проблематизации результатов «гендерного беспокойства» на Западе.
Воспроизводство, пол, гендер, гетеросексуальность, мужское господство, распределение власти, embeddedness, П. Бурдье, Дж. Батлер, С. Бен-Хабиб, С. Н. Мареев, К. Маркс, К. Поланьи
Короткий адрес: https://sciup.org/144163475
IDR: 144163475 | УДК: 303.01 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-30-40
Текст научной статьи Пол и воспроизводство человека
Проблема пола как модус проблемы господства
Статья С. Н. Мареева «Пол и культура» была написана в 1992 году. Это как раз время второго (после пионерских работ Ж. Лакана, М. Фуко, Л. Иригарэй, П. Бурдье 70-х годов) всплеска гендерных исследований на Западе, который представлен работами Н. Фрейжер, Дж. Батлер, С. Бен-Хабиб и другими, после которых социальная сконструированность пола и связь его с распределением власти стала аксиомой.
В отечественных анналах инициатив такого рода в печати не прослеживалось, проблематика осваивалась по мере перевода этих быстро ставших классическими работ. Поэтому появление неопубликованной статьи С. Н. Мареева интересно прежде всего тем, что документирует существование в те же годы оригинального подхода к полу изнутри советского «творческого марксизма».
В принципе, приложение усилий в этом направлении порождено в обоих случаях одними и теми же причинами – глобальными изменениями в производстве, в ходе которых капитализм, демонстрируя способность продуктивно реагировать на критику без смены своего основания (извлечение прибавочного труда в стоимостной форме), «породил < ^ > обновленный способ извлечения прибыли» [5, c. 16], достигнув «внушительного подъема уровня капиталоотдачи» [5, c. 13].
Произошло это, как показывают Л. Бол-тански и Э. Кьяпелло, благодаря ослаблению регламентирования финансовых рынков и созданию новых финансовых продуктов, позволяющих извлекать прибыль спекулятивно, то есть без инвестирования в производственную сферу. Новые финансовые операторы – такие, как пенсионные фонды, страховые компании, – стали пейсмейкерами глобальной перестройки капитализма. Их задающая роль связана с тем, что, защищаясь от почти неограниченной мобильности инвесторов-финансовых операторов, могущих извлечь свои инвестиции из производств в любой момент, «реальные» производства, лишенные возможности так же быстро перемещать свои активы, вынуждены были мондиализировать-ся, чтобы при реинвестировании финансовые операторы находили повсюду в мире филиалы всё тех же нескольких производственных игроков [5, c. 613–623]. Развитие этой ситуации имело ни с чем не сравнимый вовлекающий потенциал: создав мощные международные финансовые потоки и открыв небывалые возможности использовать не только более дешевую рабочую силу за пределами развитого мира, но и дешево эксплуатировать то, что раньше считалось сугубо личными связями и частной жизнью, эта ситуация проломила почти все до того существовавшие национальные границы и связанные с ними традиционные защиты институтов воспроизводства, включая семью.
В этом же вихре рухнул и Советский Союз, вместе со своим особым путем развития, каковой оказался имеющим общий со всеми телос капиталистического потребительского благополучия.
Эта общемировая тенденция только сейчас по-настоящему обнаруживает свою подлинную революционность [7, с. 9]1 – в переходе от закрепленных индустриальных иерархий – к мобильным и деиерархизирован-ным глобальным сетям в качестве базовой формы организации производства и управления им. Если предыдущей форме капитализма «следовало обеспечить радикальное разделение между частным миром семьи и миром труда, личными и профессиональными отношениями», то с 90-х годов это неприемлемо, потому что неэффективно. А чтобы «научиться жить в сети» [5, c. 168], «требуется, чтобы мы перестали проводить грань между профессиональным и личным, разумом и интуицией, естественным и искусственным» [5, c. 168]. Человек должен быть легок, а семья, как и любые глубоко укоренившиеся и обязывающие привязанности, «представляет собой лишний груз, гандикап» [5, с. 229].
И поскольку фронт западных социальных исследований был нацелен прежде всего на деструкцию иерархий, а среди этих иерархий гетеросексуальный гендер выступал как наиболее показательная твердыня «мужского господства», «фаллогоцентризм» и т. д., то в свержении таких оплотов властных иерархий виделся путь к социальной справедливости. Отсюда «гендерное беспокойство» (Дж. Батлер).
Однако часто в ситуациях межкультурного взаимодействия, интенсифицированного сетями, попытки развитых стран сравнять ие-
-
1 М. Буравой еще в нулевые годы считал ее эпифеноменом. В интервью журналу Экономическая социология он сказал: «Признаться, я не понимаю всего этого ажиотажа по поводу сетей. Это эпифеномен, изучать сети для меня означает упустить реальность» [7, c. 9]
рархию и считаться с культурной спецификой партнеров оборачивались жертвоприношением женщин. Так, попытки американских либеральных судов быть справедливыми с точки зрения культурного плюрализма вызывали «растущую уязвимость самых слабых членов подобных групп, а именно – женщин и детей. Детям всегда, а женщинам – в большинстве случаев, отказывают в полновесной защите со стороны американских законов, потому что их правовое положение определяется прежде и больше всего в свете их членства в общинах, из которых они происходят» [4, c. 103]. Их жребий С. Бен-Хабиб сравнивает с судьбой Ифигении, приносимой в жертву, посредством которой в данном случае «мужчины доминирующей и миноритарной культур подают сигналы о признании и уважении обычаев противоположной стороны» [4, c. 103].
Так обнаруживались неожиданные стороны новой модели производства, в которой отсутствовали привычные социальные защиты от рынка: «новые механизмы, требующие от работников большей самоотдачи, опираются на изощренную эргономику, включающую в себя достижения постбихевиористской психологии и когнитивных наук. Как раз в силу своей большей «человечности» они гораздо больше проникают во внутренний мир личности, от которой требуется, чтобы она <... > полностью «отдавала» себя работе [5, c.192], но которой сети отнюдь не гарантируют воспроизводства этих задействованных личных ресурсов, в классическом капитализме остававшихся вне посягательств. И если в 70-е годы еще казалось, что движение в направлении деиерархизации соответствует запросам тогдашних восходящих элит на самореализацию, творчество, гибкость и так далее, то реализация чаяний оказалась отрезвляющей, прежде всего потому, что обнаружила изнанку процесса: «подтачивание механизмов социальной защищенности» [5, c. 16] всех участников производства.
Главными из этих механизмов-противовесов рынка, как показал К. Поланьи [16], являются национальные государства, их су- веренитет и стабилизированные ими образцы поведения. Эти защиты и поставила под вопрос сетевая глобализация, не создав новых.
И когда в межкультурных и межгосударственных взаимодействиях со спецификой миноритарной культуры не считаются, то, как отметила та же С. Бен-Хабиб, возникающие конфликты, угрожая воспроизводству слабейшей стороны, обретают тоже гендерную окраску, поскольку затрагивают процессы, которые во всех культурах традиционно контролируются женщинами (такие, как рождение и смерть), которые «отражаются на психике человека на изначальном этапе ее формирования и поэтому глубже всего затрагивают главные вопросы идентичности. Такие конфликты, бросая вызов фундаментальному символическому порядку культуры, добираясь до самых ранних и самых потаенных уголков психики, не могут не вызывать сильнейшей эмоциональной реакции. Вследствие этого утрата собственной культуры, искоренение и смешение культур часто представляются в терминах сексуальности: исследователи первобытного мира говорят, что его культура была “изнасилована” навязанными ей новыми и инородными обычаями и манерами» [4, c. 100].
Так антиномичность развертывающейся глобальной революции капитализма именно в проблеме пола нашла одно из самых ярких выражений, выдвигая ее в число насущных.
Поиск решения подобных проблем шел в русле углубления появившегося уже у З. Фрейда осознания того, что ««Половой инстинкт» оказался сложной психосоциальной конструкцией» [18, c. 15].
Инспирированные идеями М. Фуко и П. Бурдье о сконструированности того, что кажется естественным, гендерные исследования 90-х (по крайней мере, у ведущих их представителей, как Н. Фрейжер, Дж. Батлер, С. Бен-Хабиб и др.), основные усилия прилагали к проблеме сплавленности различия мужское-женское с различием господства-подчинения: «Мужское господство гарантировано настолько надежно, что у него нет необходимости искать оправдания <...>. Мужчина (vir) – это особое существо, которое живет как существо универсальное (homo) и фактически и юридически обладает монополией на понятие человека вообще» [8, c. 292].
Поэтому сам по себе вопрос пола как предмет теоретического интереса, возникший в 90-е годы, не очень удивляет.
Изнутри постсоветского пространства
Изнутри постсоветского пространства эта ситуация выглядела, правда, несколько иначе, чем изнутри экспансии сетей. В России в 90-е годы стоял вопрос о выживании после творчества рыночных реформаторов, которых Майкл Буравой, американский социолог, профессор университета Беркли, наблюдавший тогда процесс изнутри в качестве рабочего на нескольких заводах Москвы и Сыктывкара, назвал рыночными утопистами, а сами реформы – откровенно «провальными» [7, c. 10]. Когда для многих на первый план выдвинулись проблемы элементарного выживания, до сексуальности ли было постсоветским теоретикам?
Но не будем торопиться в ожиданиях. Причинами провала реформ М. Буравой называет то, что на «постсоциалистическом переходе», который казался рационально управляемым, «в качестве реакции на административную экономику посткоммунистические правительства избрали идеологию, согласно которой саморегулирующийся рынок – это панацея» [6, c. 276]. Тогда за 2 года были уничтожены почти все государственные институты, защищавшие труд, ресурсы и государственные деньги, так называемые «фиктивные товары» [16, c. 87], необходимые для нормального функционирования любого производства, включая рыночное. Поэтому вместо ожидаемого «самораспространения» эффективного рыночного производства мы получили «великую инволюцию как реакцию России на рынок» [6, c. 274].
Все эти быстрые процессы смогли быть запущены с такой безоглядностью только по-
L
тому, что заинтересованная в проведении нечестной приватизации влиятельная верхушка обладала монополией на средства идеологического насилия и смогла вытеснить из сознания подданных понимание защитной роли институтов, стоявших на пути захвата государственной, то есть общей, собственности верхами и насадить в качестве самоочевидности либе-ралистское (руссоистское) убеждение в том, что всякая организация социальности способна лишь на производство «эффектов Люцифера», а человек «по природе» – это индивид вообще, всюду одинаковый, и как таковой он – животное с биологическими потребностями, которые репрессивная социальность способна только подавлять, порождая фрустрации.
Последнее соблазняет социально слабого мнимой легитимностью правил игры, предлагая и ему считать себя в формально равной позиции с социально сильным и заодно отвращая от всякого политического участия. И эта ситуация отнюдь не новая, она была хорошо осмыслена уже в XIX веке и определена Гегелем как «духовное животное царство» [10, c. 201], но, несмотря на это, на обывателей соблазн подействовал, и в конце века ХХ в России снова «человек сам захотел стать животным» [11, c. 283]. Вот эта, распознанная С. Н. Мареевым, угроза человеческому в человеке и была причиной, побудившей его взяться за эту тему.
Если обывателя убедить в том, что он репрессированное животное, и пообещать «раскрепощение» его «природы», с ним несложно произвести любые действия, направленные на подрыв его воспроизводства с его же согласия, все те действия, которые и были произведены. Для этого нужно только, чтобы в самом же себе он начал видеть потребности, навязанные социально, как изначально природные. И тут якобы природная заданность пола становится самым убедительным средством внушения. Ведь тут все просто: мужчинами и женщинами рождаются, эта разница на уровне тела определяет и «драйвы», которые движут индивидом как орудием поиска своего удовлетворения.
И в тот момент, пожалуй, никто помимо Мареева и не уловил этот деструктивный идеологический нажим, он же попытался, если угодно, деконструировать и демистифицировать этот фетишизм в отношении человеческой «природы», взяв в фокус самое «очевидное» опровержение стопроцентно общественной природы человека, для которой не является исключением и человеческий пол.
То, что рассуждение он строит как опровержение Фрейда и через работы Г. Харлоу 60 – х годов, ничем не отзываясь на имевшие уже место проблематизации оценки инверсии как отклонения, что он не обсуждает подробностей социального конструирования пола, из терминологии использует не «габитус», а «психику», адресуясь в разработке социальных проблем к психологии, – свидетельствует о его незнакомстве с более поздними разработками Ж. Лакана, М. Фуко или П. Бурдье, не говоря о других, современных ему философско-политических или постфилософско-социологических исследованиях новой волны. Может быть, быстрое нарастание исследований этого направления и несколько позже их переводов, которые он не успевал уже осваивать, и было причиной отказа от публикации статьи: Сергей Николаевич остановился на том, что уяснил дело самому себе. Ход мыслей Мареева, развертывающийся скорее математически-спекулятивно, почти вне опоры на эмпирическую конкретику и с опорой на диалектический метод, обнаруживает при этом не просто гомологии с открытиями гендерных исследователей и потенциал их предвосхищения, но и с самого начала – ресурс их проблематизации.
Работы новой волны стали активно переводиться в 2007 году. Тогда вышел русский перевод «Матрицы безумия» М. Фуко [19, c. 384], где Фуко идет в направлении, определенно близком Сергею Николаевичу, показывая технологии, благодаря которым пол, социально учреждаемый именно как (природный) инстинкт, становится средством тотального контроля над индивидом в обход всякого права. В том же году появился перевод работы Г. Гарфинкеля «Агнесс, нормальная женщина» [9, c. 126–193], которая социологически документирует аргумент Мареева, что быть женщиной – это «художественная традиция», в разработке которого Мареев опирается на Ортегу-и-Гассета [17, c. 346]. Наконец, в том же 2007 году вышла уже собственно российская монография С. А. Ушаки-на «Поле пола», где присутствует уже и рефлексия на историю гендерных исследований [17]. Со всеми этими появившимися в русскоязычном пространстве теоретическими и эмпирическими исследованиями мареев-ский набросок 1992 встречается как с чем-то ожидаемым и желательным.
Гендерные исследования как идеология сетевой формы производства
Но после того, как это все появилось, и основные сюжеты статьи уже не кажутся откровением, остается ли еще что-то, что делает эту работу все еще актуальной?
Смею думать, что да. Рассуждение Мареева сохранило независимость и строится по своеобразному вектору, отличному от магистрали гендерных исследований. Тот особый топос, из которого им осмысливалась проблема пола, заставил, а историзм в методологии позволил увидеть кое-что, что даже в этом талантливом и энергичном западном исследовательском напоре осталось ускользающим. Гендерные исследования в какой-то момент пошли по пути превращения в идеологию сетевой формы производства. Составители «Антологии гендерной теории» отмечают, например, что «Концепция Джудит Батлер особенно хорошо была принята гомосексуальными меньшинствами (лесбиянками, геями). Не случайно данный текст считается «классикой» не только постфеминизма, но также и queer theory» [1, c. 300].
Во множестве этих разноплановых исследований повторяется никем не оспариваемый мотив, связанный с отделенностью наслаждения или удовольствия индивида от социально направляемого как гетеросексуальное жела- ния и тем более – от репродуктивной функции тела. Для большинства феминистских и постфеминистских исследований из факта существования таких зазоров следует, что бинарная модель сексуальности конструируется в интересах мужского господства, принуждающего женщину принять положение своего рода низшей расы2. Отсюда уход от бинарной модели или пародирование ее в бисексуальных или гомосексуальных практиках представляется стратегией борьбы за равенство с мужчинами. И даже честно отмечаемое Дж. Батлер «парадоксальное неприятие феминизма женщинами» [1, c. 303] не только не останавливает движение в этом направлении, но радикализирует его.
Ради подрыва «принудительной гетеросексуальности», которая конституирует женщину в координатах мужской власти, Дж. Батлер готова пойти и на подрыв воспроизводства живых человеческих инди-видов3, и после этого опрокидывает «метафизику сущности», из которой возникает требование «быть женщиной и быть гетеросексуальной» [1, c. 324], как «искусственный и излишний продукт» [1, c. 328], имеющий только языковую реальность. Получается, избавить женщину от порабощения – равносильно ее уничтожению. Даже если вместе с нею исчезнет и человеческий род. То обстоятельство, что критерием существования/ бытия/метафизической сущности как раз и является динамическая способность живого самостоятельно воспроизводиться, что если нечто воспроизводит себя автономно, то это и значит, что оно существует, – как-то выпадает из ее поля зрения.
-
2 Дж. Батлер: «Система производит гендерно структурированных субъектов в координатах господства» [1, c. 300]
-
3 «Навязывание сексуальности бинарного характера подавляет многообразие сексуальности, которое способно подорвать установления гетеросексуальности и биологического воспроизводства» [1, c. 321]. Как показывает наш анализ, Дж. Батлер ошибается, считая воспроизводство живых человеческих индивидов «биологическим» воспроизводством.
Зато, похоже, отделенная абстракция наслаждения получает полный простор, поскольку действие возможно без «действующего», без субъекта, самости, личности и даже без индивида. В половой разнородности, в этом «мире наслаждений улыбки, счастье, удовольствия и желания фигурируют <...> как атрибуты без сущности» подобно (здесь отсылка к Фуко, анализирующему случай гермафродитизма [21; цит. по 1, с. 327]4) «улыбке, разгуливающей без кота» [1, c. 327].
Эта погоня за абстракцией удовольствия, которое становится самоцелью, обнаруживает, что в основе рассуждения Дж. Батлер лежит та же субъективистская картезианская схема, которая критикуется как основа мужского господства и которую П. Бурдье называет scholastic fallacy . Тот же непредметный, не схватываемый как сущность, субъект, а все остальное, на что он направлен, декон-струировано до объекта, «производится распределением свойств вдоль установленных культурой линий согласованности» [1, c. 328]. Отсюда видно, что независимо от декларируемых и осознаваемых целей, борьба (пост)феминизма нацелена не на изменение конфигурации господства, а на соревнование и вытеснение с места господства мужской его ипостаси, сама же структура господства при этом никакой опасности не подвергается. И образ избавленной от угнетения, стремящейся исключительно к удовольствию (пост) женщины сильно напоминает самку-изолята из экспериментов Г. Харлоу, проламывающую череп своему – непризнанному – детенышу5.
Что ускользает от (пост)феминизма
Но как же иначе?
Вот это «иначе» и удалось наметить С. Н. Марееву, которого беспокоила как раз возможность производства и воспроизводства человека, в которой полу и форме его социальной положенности принадлежит далеко не последняя роль. Как в условиях «духовного животного царства» человеку остаться человеком?
В ответе на этот вопрос решающим является понимание того, чтó делает человека человеком и как становятся человеком. Путеводную нить дал Загорский эксперимент, теоретической основой которого было марксистское понятие человека как «ансамбля общественных отношений», становящегося в «совместно-разделенной деятельности» [14].
С. Н. Мареев исходит из того, что «Человек прежде всего не является дальнейшим продолжением зоологического развития, а он является его прекращением» [12, c. 14]. Его способ жизнедеятельности – это производство или история, существующая per modem egredientem благодаря тому, что производство – это всегда извлечение прибавочного труда, то есть превышающего органическую нужду. Достигается это извлечение благодаря особой организации человеческой общности, в которой во всякое время можно выделить, как показал К. Маркс, субъекта – непосредственного производителя, вступающего в контакт с природой, и субъекта-организатора производства, чья функция – навязать такие формы этого контакта, которые бы обеспечили извлечение того количества труда, которое достаточно для воспроизводства не только организма данного индивида (удовлетворение его органической нужды), но и самого условия возможности этого удовлетворения и, стало быть, воспроизводства индивида – воспроизводства его общности. Для этого организатор должен взять под контроль способ мыслах мы не могли бы создать суррогатную мать, столь же злую, как эти настоящие матери-обезьяны» [20, p. 545]. – Пер авт.
соединения «вещного» и «личного» «факторов производства», как назвал это Маркс6. Субъекты производства и природа – это первообразы «фиктивных товаров» К. Поланьи, которые должны быть воспроизводимы при всяком производстве, как бы ни было оно организовано.
Первым организатором выступает общность в целом, поэтому чтобы присвоить что-то из природы, человеку уже надо быть присвоенным общностью и подступаться к природе в положенных общностью формах, которые определяются конфигурацией этой общности, способом присвоения индивида общностью, который и есть способ производства человека.
Внутри этой присвоенности уже самое первое удовлетворение органической нужды происходит в человеческой форме и тем самым оказывается формирующим – формирующим из органической нужды человеческую потребность, в том числе и влечение, та или иная модальность которого зависит от того, какой именно модальности требует форма общности. Скажем, если современная сетевая форма извлечения прибыли стремится избавить человека от семьи, то она до определенного времени будет насаждать всевозможные «небинарные» версии сексуальности и гендерные переходы, ставя под угрозу воспроизводство человека в целом до тех пор, пока (если) будут выработаны социальные (возможно, государственные) защиты против этих новых форм рыночного давления.
Самой первой формой производства является не производство орудий или вещей, но производство новых индивидов человеческим способом, то есть таким, в котором контролируется способ их соединения, а значит, должно быть обеспечено и предварительное разъединение, что и достигается в экзогамии. Как это выразил С. Н. Мареев, запрет на «инцест – это первая форма ограничения животности, преодоления немоты родовой общности, утверждения совсем другого типа общности – общности социальной» [12, c. 14], с которым мы вступаем в общение, «которое имеет своей необходимой предпосылкой обязательно сознание. Последнее и является первоначально в форме различного рода запретов, табу, затем ритуал, миф и т. д». Сознание здесь возникает с необходимостью, поскольку сам характер воспроизводства индивида предполагает его живое замыкание на себя только через размыкание в его социальность, оказывается противоречием между воспроизводством единичного и воспроизводством всеобщего; это всеобщее опосредствование его жизненного цикла, индивидуальная способность полагать себя всеобщим образом, и есть в широком смысле мышление, пронизанность которым делает его психику сознанием. Это сознание не всегда имеет положенную рефлексивную форму, первоначальные его фазы таковой не имеют. Как пишет С. Н. Мареев, эти формы «имеют силу инстинкта, но животными инстинктами не являются. Это по форме своего проявления инстинкты, но по сути – формы сознания » [12, c. 14].
Таким образом, человека формирует прибавочное усилие, на которое он, в отличие от животного, становится способен в силу того, что попадает в ситуацию противоречия, которое, с одной стороны, подрывает чисто животное воспроизводство, а с другой, ставя препятствие животности, направляет в собственно-человеческие, разрешающие это противоречие, формы удовлетворения нужд, пересоздавая их как человеческие потребности. Прибавочное усилие делает меня человеком, потому что конституирует в моем горизонте другую личность, заставляет признать ее не в качестве орудия удовлетворения моих нужд, не в качестве придатка организма, а заставляет с ней считаться в ее полной автономии.
Это, собственно, и удалось показать группе исследователей в Загорском эксперименте – показать, что человеческая субъективность возникает именно в противоречии, которое запрещает биологическое воспроизводство, то есть лишает шансов на чисто животное, эгоистическое выживание, но при условии, что сильная сторона общения (а ребенок ею быть не может, не может исходно и быть равным), намерения оказавшихся в роли воспитателей должны быть абсолютно чисты. Но как гарантировать такое поведение взрослого и вообще социально сильного, если учесть, что, как заметил П. Бурдье, все публичные игры являются соревнованием за власть, то есть не могут не быть источником схиз-могенеза [3, c. 75–83], подавления сильной стороной – слабой стороны?
Чтобы не произошло этого подавления, чтобы ребенок получил доступ к усилению своего могущества через смыкание с силой общности, требуется, чтобы и взрослый был признан ребенком не как обслуживающий придаток, а суверенная личность в первых же шагах собственного воспроизводства, и ребенок в том же процессе был признан как представитель человечества, а не как ресурс схизмогенеза для сильной стороны. Это и значит: требуется, чтобы и он, и те, от кого зависит предоставление ему пространства признанности, научились друг друга любить. Малейшее движение в направлении схиз-могенеза и появления властной вертикали убьет человека в зародыше. Научиться любить и означает стать человеком. Но как гарантировать, что сильная сторона общения не злоупотребит своим локальным властным преимуществом? Как удавалось человечеству воспроизводиться в своем человеческом качестве все это время?
Любовь как условие возможности человека
Здесь и выступает в качестве решения то распределение власти, которое П. Бурдье замечательно описал на языке романа В. Вульф «На маяк», в котором отношения между полами даны «очищенными от всех стереотипов и лозунгов» [8, c. 327] и потому выписаны в самых тонких и существенных моментах, но, пожалуй, им же выявленного содержания сам недооценил. Из этого описания вытекает вывод не столько о том, что женщина находится в подножии властной вертикали, сколько о существовании еще одного измерения социального могущества помимо «мужской» вертикали. Даже кабиль-ский миф, который Бурдье толкует как свидетельство легитимации мужского господства, заканчивается знаменательно: «У источника ты (кто господствует); дома – я» [8, c. 319], то есть утверждением циркуляции власти.
Специфика женского статуса действительно достигается благодаря исключению женщины из мужских «игр», построенных вдоль вертикали доминирования. Но именно это исключение создает некое «боковое» пространство для косвенного (Бурдье называет ее роль ролью «серого кардинала») участия женщины в публичных пространствах без вовлечения в борьбу за доминирование, но с вовлечением в заботу об игроках в нем, чей статус не в ее интересах подрывать. Это участие нацелено на то, чтобы дать расцвести и поддержать. Благодаря особой конфигурации заряженности в поле власти, женщина, не ослепленная очарованием этой власти, обретает «прозорливость» [8, c. 333] и «дарует незаменимое специфическое признание, оправдывая существование того, кто является его объектом, и его право существовать так, как он существует» [8, c. 340].
Но это как раз означает, что длительное и достаточно устойчивое, чтобы сформировать соответствующий эксис, исключение женщины из мужских игр помимо подчинения содержит гарантию того, что социальное пространство признания, условие становле- ния человеком, будет создано для ребенка. Женская бинарная ипостась человека – это элемент embebbed-экономики, без которой, как показал К. Поланьи, не может функционировать никакая экономика – момент производства самого субъекта производства.
И отсюда тезис С. Н. Мареева, который без проникновения с надлежащей методологией в суть ансамблевых отношений мог бы показаться спорным и далеко не очевидным, вырастает со всей убедительностью: человек начинается с любви, а «так называемая половая любовь, которая сама по себе является исключительно историческим продуктом, есть только особенный случай проявления этого человеческого чувства <...>, и если оно не сформировалось с самого начала как нормальное чувство, а формируется оно с самого начала как любовь к матери, к отцу, к братьям и сестрам (почему полезно иметь не одного ребенка), то у человека впоследствии не формируется и нормальной половой любви. Человеку трудно полюбить женщину как жену, если он раньше не полюбил ее как мать. Психологические эмоциональные механизмы здесь одни и те же. И если их нет вообще, то их нет и ни в каком особенном случае» [12, c. 13].
И это ставит проблему, которая определенно достойна приложения дальнейших усилий: каково место и функция «бинарной» женственности в сетевой модели капитализма, если последняя стремится вытеснить семью, под предлогом поддерживаемого семьей мужского господства? И какой вид должна принять защита производителя, особенно со стороны воспроизводства его долговременно обретаемых компетенций, если при всех антииерархических декларациях сетевая модель отличается сбрасыванием ответственности за воспроизводство своих сотрудников на критикуемое за иерархичность государство? Чем сетевая модель сможет компенсировать утрату пространства материнской любви, если это не удалось пока ни одному детдому?