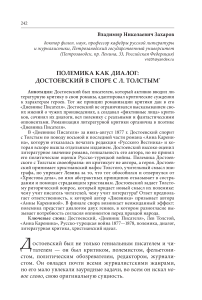Полемика как диалог: Достоевский в споре с Л. Толстым
Автор: Захаров Владимир Николаевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.11, 2013 года.
Бесплатный доступ
Достоевский был писателем, который активно вводил литературную критику в свои романы, адаптировал критические суждения к характерам героев. Тот же принцип романизации критики дан в его «Дневнике Писателя». Достоевский не ограничивался высказыванием своих мнений о чужих произведениях, а создавал «фиктивные лица» критиков, сочинял их диалоги, вел полемику с реальными и фантастическими оппонентами. Романизация литературной критики органична в поэтике «Дневника Писателя». В «Дневнике Писателя» за июль-август 1877 г. Достоевский спорит с Толстым по поводу восьмой и последней части романа «Анна Каренина », которую отказалась печатать редакция «Русского Вестника» и которая вскоре вышла отдельным изданием. Достоевский высоко оценил литературное значение романа, гениальность его автора, но не принял его политические оценки Русско-турецкой войны. Полемика Достоевского с Толстым своеобразна: он критикует не автора, а героя. Достоевский принимает христианский пафос Толстого, учительный смысл эпиграфа, но упрекает Левина за то, что тот обособился и отвернулся от «Христова дела», во имя абстрактных принципов отказывает в сострадании и помощи страдающим христианам. Достоевский задает Толстому риторический вопрос, который придает новый смысл их полемике: чему учит писатель читателей, чему учит литература? Ответ предполагает ответственность, к которой автор «Дневника» призывает автора «Анны Карениной». В финале спора возникает неожиданный эффект: полемика предстает диалогом двух гениев, в котором разногласие вызывает потребность согласия оппонентов перед правдой народа.
Достоевский, "дневник писателя", лев толстой, "анна каренина", русско-турецкая война 1877—1878, полемика, диалог, литературная критика, христианский идеал
Короткий адрес: https://sciup.org/14748864
IDR: 14748864
Текст научной статьи Полемика как диалог: Достоевский в споре с Л. Толстым
Д о стоевский был не только гениальным писателем и читателем — он был критиком, полемистом, фельетонистом, политическим обозревателем, редактором, журналистом. Он овладел почти всеми журналистскими жанрами, но его мало увлекали заурядные задачи, во всем он искал новое слово , свою оригинальную сущность.
В наследии Достоевского есть литературная критика, но в чистом виде этот жанр представлен лишь в журналистике и инициирован текущими редакционными потребностями «Времени», «Эпохи», еженедельника «Гражданин». Его критика, как правило, анонимна или скрыта под псевдонимами. Достоевский мало ценил свои критические опыты, не собирал и не переиздавал их. В отличие от писателя их ценят исследователи: цитируют, изучают, дорожат каждым словом.
Достоевский охотно включал критику в свои сочинения, наделял своих героев проницательными суждениями об искусстве и поэзии, адаптировал их к характерам, персонифицировал их полемику. Критика была предметом изображения в его произведениях.
Поэтическая трансформация критики произошла уже в первом романе Достоевского «Бедные люди» — и начался этот процесс с первых строк, с шутливого эпиграфа романа со ссылкой на князя В. Ф. Одоевского:
Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже; читаешь... невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил ( Д18 , 1; 11) 1 .
Бесспорно, это игровая ситуация в тексте: запретил бы, невольно задумаешься, дребедень лезет в голову … — и вместе с тем не писать невозможно.
Все литературно-критические эпизоды романа (а это пародия на чтения и сочинения Ратазяева, отзывы Макара Девушкина о «Станционном смотрителе» Пушкина и «Шинели» Гоголя, суждения героев о литературе) исполнены глубокого смысла. Что стоит за профанными суждениями героя, показал С. Г. Бочаров, раскрывший в безыскусных словах героя ключевую коллизию развития русской литературы сороковых годов XIX века (Пушкин или Гоголь) [1].
В творчестве Достоевского литературная критика стала художественной: в серьезном, ироничном и пародийном осмыслении она входит во многие, почти все, сочинения писателя.
О взаимоотношениях Достоевского и Толстого сказано много: кажется, ничто не скрылось от внимания исследователей. И всё же изучено то, что сказано, но не осмыслено, как сказано, а это ( как сказано) имеет принципиальное значение в диалоге Достоевского с Толстым.
«Дневник Писателя» за июль-август 1877 г. начинается сугубо личными откровениями автора: разговором с московским знакомым, «святыми воспоминаниями» детства, которые раскрываются под знаком «Детства и Отрочества», «Войны и Мира» Л. Толстого, предстают в контексте личных переживаний автора «Дневника Писателя». 19 июля 1877 г. проездом из Москвы Достоевский отправился в Даровое, по его признанию, «места первого моего детства и отрочества — деревню, принадлежавшую когда-то моим родителям, но давно уже перешедшую во владение одной из наших родственниц» ( Д18 , 12; 157).
Даровое — не случайная завязка темы номера:
Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, но всё никак не мог, несмотря на то что это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями (Д18, 12; 157).
Достоевский проникновенно объясняет читателю, что значит «память детства» в жизни каждого человека:
Что святые воспоминания будут и у нынешних детей, сомнения конечно быть не может, иначе прекратилась бы живая жизнь. Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. Иной по-видимому о том и не думает, а всё-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горькие, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души. Человек и вообще так создан, что любит свое прожитое страдание. Человек, кроме того, уже по самой необходимости наклонен отмечать как бы точки в своем прошедшем, чтобы по ним потом ориентироваться в дальнейшем, и выводить по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания. При этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства. А потому и сомнения нет, что воспоминания и впечатления, и, может быть, самые сильные и святые, унесутся и нынешними детьми в жизнь. Но что именно будет в этих воспоминаниях, что именно унесут они с собою в жизнь, как именно сформируется для них этот дорогой запас — всё это конечно и любопытный и серьезный вопрос. Если б можно было хоть сколько-нибудь предугадать на него ответ, то можно бы было утолить много современных тревожных сомнений, и, может быть многие бы радостно уверовали в русскую молодежь; главное же — можно бы было хоть сколько-нибудь почувствовать наше будущее, наше русское столь загадочное будущее. Но беда в том, что никогда еще не было эпохи в нашей русской жизни, которая столь менее представляла бы данных для пред-чувствования и предузнания всегда загадочного нашего будущего, как теперешняя эпоха. Да и никогда семейство русское не было более расшатано, разложено, более не рассортировано и не оформлено, как теперь (Д18, 12; 157—158).
Говоря о Даровом, Достоевский вспоминает Толстого, его Ясную Поляну, памятные места, описанные в «Детстве и Отрочестве». Его волнует, что останется в памяти современных детей:
Где вы найдете теперь такие «Детства и Отрочества», которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например, нам свою эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в «Войне и Мире» его же? Все эти поэмы теперь не более лишь как исторические картины давно прошедшего . О, я вовсе не желаю сказать, что это были такие прекрасные картины, отнюдь я не желаю их повторения в наше время, и совсем не про то говорю. Я говорю лишь об их характере , о законченности, точности и определенности их характера, — качества, благодаря которым и могло появиться такое ясное и отчетливое изображение эпохи, как в обеих поэмах графа Толстого. Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности. Современное русское семейство становится всё более и более случайным семейством. Именно случайное семейство — вот определение современной русской семьи. Старый облик свой она как-то вдруг потеряла, как-то внезапно даже, а новый... в силах ли она будет создать себе новый, желанный и удовлетворяющий русское сердце облик?
Иные, и столь серьезные даже люди, говорят прямо, что русского семейства теперь «вовсе нет». Разумеется всё это говорится лишь о русском интеллигентном семействе, т<о> е<сть>, высших сословий, не народном. Но, однако, народное-то семейство, — разве теперь оно не вопрос тоже? ( Д18 , 12; 158).
Прежде было родовое семейство, крестьянское и дворянское, «ныне» — « случайное семейство ».
Обозначив вопросы времени, ставшие перед народом в пореформенной России, Достоевский задает ключевой вопрос, своего рода вопрос вопросов:
…кто ответит на эти вопросы народу? Кто готов у нас отвечать на них, и кто первый выищется, кто ждет уже и готовится? ( Д18 , 12; 158).
Претенденты на статус учителей и помощников несостоятельны:
Духовенство всего ближе стоит к народу, Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — кроме этих, и увы, весьма кажется немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы — ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них ( Д18 , 12; 158—159).
Скептичен Достоевский и в оценке способностей сельских учителей:
…к чему годятся и к чему готовы наши сельские учителя? Что представила до сих пор эта, лишь начинающаяся впрочем, но столь важная по значению в будущем, новая корпорация, и на что она в состоянии ответить? На это лучше не отвечать (Д18, 12; 159).
В обществе преобладают случайные ответы, хаос в умах и настроениях, но есть надежда, что «и без ответчиков и при ответчиках» Россия найдет выход из кризиса.
Риторический вопрос, кто ответит на «страшные» и «неслыханные» вопросы, трансформируется в новый вопрос: кто верит в Россию и понимает ее назначение?
Могуча Русь и не то еще выносила. Да и не таково назначение и цель ее, чтоб зря повернулась она с вековой своей дороги, да и размеры ее не те. Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она всё решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей такою же прежнею, святою нашей Русью, как и была до сих пор, и, сколь ни изменился бы, пожалуй, облик ее, но изменения облика бояться нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто верит в Русь, тому даже стыдно это. Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения столь ясно (особенно теперь, в нашу эпоху, в теперешнюю минуту главное), что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех сомнений и опасений. «Здесь терпение и вера святых», как говорится в священной книге (Д18, 12; 159).
Указание на «священную книгу» знаменательно и не случайно, о чем речь впереди.В таком контексте возникает полемика Достоевского с Толстым,
…несмотря, — как признается автор, — на всё мое отвращение пускаться в критику современных мне литераторов и их произведений ( Д18 , 12; 160).
В то утро, когда автор нанес визит «московскому знакомому», в котором исследователи не без оснований узнают И. С. Аксакова, он впервые прочитал в газетах объявление о выходе отдельным изданием восьмой и последней части «Анны Карениной», отвергнутой редакцией «Русского Вестника»
…за разногласие ее с направлением журнала и убеждениями редакторов, и именно по поводу взгляда автора на Восточный вопрос и прошлогоднюю войну ( Д18 , 12; 159).
Эту книгу автор «Дневника» «немедленно положил купить и, прощаясь с моим собеседником, спросил его о ней, зная что ему давно уже известно ее содержание» (Там же).
Московский знакомый нашел ее «самой невиннейшей вещью», Достоевский по прочтении — вовсе не столь «невинною» ( Д18 , 12; 160).
О чем, собственно, возник спор?
Обозревая современную смуту и кризис в обществе, Достоевский исходит из того, что состояние России прискорбно:
Великой мысли нет (утратилась она), великой веры нет в их сердцах в такую мысль. А только подобная великая вера и в состоянии породить прекрасное в воспоминаниях детей, — и даже как:
несмотря даже на самую лютую обстановку их детства, бедность и, даже самую нравственную грязь, окружавшую их колыбели! ( Д18 , 12; 164).
Писатель возвращается к своей прежней художественной идее, уже исполненной в романе «Подросток», — к идее случайности русского семейства. Причину кризиса современного семейства писатель видит в том, что современные отцы утратили идеал, ввергли себя и детей в хаос, нравственный беспорядок.
Поездка в Даровое напомнила ему грустную судьбу овдовевшего отца, утвердила его в чувстве сыновьей признательности:
О, есть такие случаи, что даже самый падший из отцов, но еще сохранивший в душе своей хотя бы только отдаленный прежний образ великой мысли и великой веры в нее, мог и успевал переса-ждать в восприимчивые и жаждущие души своих жалких детей это семя великой мысли и великого чувства, и был прощен потом своими детьми всем сердцем за одно это благодеяние, несмотря ни на что остальное. Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь ( Д18 , 12; 164).
Достоевский знал исход из беспорядка и способ исцеления современного общества и семейства: восстановить идеал, воскресить воспоминания детства, осознать положительное и прекрасное .
В жизни, к сожалению, совсем не так. Автора «Дневника» тревожат другие примеры: родители из заботы о будущем детей преподают им уроки цинизма, атеизма и безнравственности, современных родителей судят за жестокое обращение с детьми («Дело родителей Джунковских с родными детьми»). Присяжные оправдали нерадивых родителей. В назидание им Достоевский сочинил «Фантастическую речь председателя суда». Вот ее финал, в котором он раскрыл спасительный смысл прощения:
Итак да поможет вам Бог в решении вашем исправить ваш не успех. Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших.
Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними. Да и самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях перед детьми, сделав так, что детей нельзя не любить. Да и как не любить их? Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить и что станется тогда с нами самими? Вспомните тоже, что, лишь для детей и для их золотых головок, Спаситель наш обещал нам « сократить времена и сроки». Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся наконец страдания и недоумения цивилизации нашей! ( Д18 , 12; 175).
В таком тоне, высказав самые заветные убеждения, автор «Дневника Писателя» начинает спор с автором «Анны Карениной». Его поразило, как он пишет, «отпадение такого автора, отъединение его от русского всеобщего и великого дела, и парадоксальная неправда, возведенная им на народ в его несчастной восьмой части, изданной им отдельно» ( Д18 , 12; 183).
Полемика своеобразна: оспаривая Толстого, Достоевский спорит с его героем. Отмечая близость взглядов автора и героя, Достоевский их различает:
…лицо самого Левина, так как изобразил его автор, я всё же с лицом самого автора отнюдь не смешиваю ( Д18 , 12; 176).
Достоевский вдохновлен толстовским Левиным, который хоть не совершенен, но честен в поиске ответов на «вековечные вопросы человечества» «о Боге, о вечной жизни, о добре и зле и проч.», о «вере и неверии» ( Д18 , 12; 184), страдает от того, что не верующий, что «всё еще не совершенен, всё еще чего-то недостает ему, и этим надо было заняться и разрешить» ( Д18 , 12; 184). Он «не может успокоиться на том, на чем все успокоиваются, т<о> е<сть> на интересе, на обожании собственной личности или собственных идолов, на самолюбии и проч<ем>. Признак великодушия, не правда ли?» ( Д18 , 12; 184).
Герой симпатичен, наконец, тем, как в сомнениях он обретает, наконец, мужицкую правду и сознает народную веру:
жить для души, помнить Бога, жить по правде, по-Божью , избирает путь добра.
Казалось бы, что может быть праведнее? выше? честнее?
О чем же тогда спор Достоевского с Толстым и его героем? Поначалу и спора как такового нет.
Литературное значение романа огромно. Достоевский дает оценку художественных достоинств романа. Для одного «из любимейших наших писателей», под которым он явно имеет в виду А. И. Гончарова, это «первая вещь» во всех европейских литературах последних лет. Для Достоевского роман Толстого — факт мирового значения, бесспорное свидетельство не только нашей способности сказать «свое собственное слово», но и готовности «договорить его», когда «придут времена и сроки», когда в мировой истории исполнится Евангельское пророчество и Откровение о Втором Пришествии.
Такова безусловная оценка художественного уровня романа.
Духовный смысл романа задан евангельским эпиграфом: «Мне отмщение, и Аз воздам».
Эпиграф выражает авторский взгляд на «виновность и преступность человеческую».
В Европе этот вопрос решается «повсеместно двояким образом». Первое решение — безоговорочное исполнение закона, который «дан, написан, формулирован, составлялся тысячелетиями»; кто преступает закон, «тот платит свободою, имуществом, жизнью, платит буквально и бесчеловечно» (Д18, 12; 182). Другое решение: «преступник безответствен, и преступления пока не существует»; «ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью» (Д18, 12; 182).
Иная точка зрения у «русского автора», которая выражена «в огромной психологической разработке души человеческой, с страшной глубиною и силою, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения»:
…нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, который говорит: «Мне отмщение и Аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешности, не пришли еще времена и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что, он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью если сам он держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосердию и Любви (Д18, 12; 182—183).
В романе Толстого исход есть:
Он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа еще в предпоследней части его, в сцене смертельной болезни героини романа, когда преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев всё простивших друг другу, в существа которые сами, взаимным всепрощением сняли с себя ложь, вину и преступность, и тем разом сами оправдали себя с полным сознанием что получили право на то» ( Д18 , 12; 183).
Что выше евангельских истин?
Достоевский принимает откровение художественной правды Толстого, оттого так остро реагирует на его «парадоксальную неправду».
«Несмотря на очевидность», Толстой отрицает патриотический подъем и христианское самопожертвование народа, его готовность заступиться за братьев-славян:
Он просто отнимает у народа всё его драгоценнейшее, лишает его главного смысла его жизни ( Д18 , 12; 183).
Автор «Дневника» не принимает политическое значение романа Толстого.
По Достоевскому, объявление Россией войны за освобождение славян от турецкого ига — факт огромного значения: подвиг России бескорыстен и велик, цель войны невероятна:
Эта неслыханная война, за слабых и угнетенных, для того чтоб дать жизнь и свободу, а не отнять их, — эта давно уже теперь неслыханная в мире цель войны, для всех наших верующих явилась вдруг, как факт, торжественно и знаменательно подтверждавший веру их ( Д18 , 12; 178).
В движении в пользу славян Достоевский видел «русское, национальное, настоящее наше», указание на « всемирность России»:
...весь народ, сочувствуя угнетенным христианам, совершенно знал, что он прав ( Д18 , 12; 192).
Толстовского Левина Достоевский назвал «парадоксалистом». Парадоксалист — излюбленный литературный тип Достоевского, но писатель категорически отверг однозначное решение героем «восточного вопроса».
Автор «Дневника» уязвлен:
«чистый сердцем Левин» ударился в обособление и разошелся с огромным большинством русских людей ( Д18 , 12; 176).
Обсуждая вопрос, убить или не убить турку, убивающего ребенка, Достоевский осуждает Левина, который в соответствии со своими убеждениями «должен» сказать и поступить:
Нет, нельзя убить турку. Нет уж пусть он лучше выколет глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кити ( Д18 , 12; 199).
К слову сказать, к этой полемике Достоевский вернулся в романе «Братья Карамазовы». Иван провоцирует Алешу рассказом о злодеяниях турок, убивающих детей, спрашивает, расстрелять или нет генерала, затравившего озорника борзыми собаками.
Алеша отвечает: «Расстрелять!», — и ловит себя на слове, оговаривается:
— Я сказал нелепость, но...
— То-то и есть что но... — кричал Иван. — Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит и без них может-быть в нем совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем что знаем! ( Д18 , 13; 201).
Императив братьев Карамазовых — расстрелять «для удовлетворения нравственного чувства», и вместе с тем неизбежно сомнение («но…»).
Так и в «Дневнике Писателя».
Достоевский опровергает мнимое противоречие евангельской заповеди и человеческого закона в суждениях героя:
Ведь у Левина у самого есть ребенок, мальчик, ведь он же любит его, ведь когда моют в ванне этого ребенка так ведь это в доме вроде события; как же не искровенить ему сердце свое слушая и читая об избиениях массами, об детях с проломленными головами, пол- зающих около изнасилованных своих матерей, убитых, с вырезанными грудями. Так было в одной болгарской церкви, где нашли двести таких трупов, после разграбления города (Д18, 12; 201).
По Достоевскому, этого нельзя допустить:
…чтобы пресечь навсегда злодейство, надо освободить угнетенных накрепко, а у тиранов вырвать оружие раз навсегда ( Д18 , 12; 200).
Мщение исключено — Достоевский призывает и к злодеям проявить милосердие:
Осмелюсь выразить даже мое личное мнение, что к репрессалиям против турок, уличенных в убийстве пленных и раненых, лучше бы не прибегать. Вряд ли это уменьшило бы их жестокости. Говорят они и теперь, когда их берут в плен, смотрят испуганно и недоверчиво, твердо убежденные что им сейчас станут отрезать головы. Пусть уже лучше великодушное и человеколюбивое ведение этой войны русскими не омрачится репрессалиями ( Д18 , 12; 200).
Достоевский был заядлым полемистом, в полемике не щадил оппонентов. Его полемика с Толстым не в пример учтива и уважительна. Отдавая должное гению, Достоевский не принял Левина, отверг заблуждения автора.
Спор Достоевского с Толстым имел религиозную подоплеку. Возражая Толстому и его герою, автор «Дневника» считал, что, не зная истории и географии, необразованный народ понимает страдания восточных христиан, сочувствует и сострадает им; не зная катехизиса, предан Православию, любит Христа.
Обнаруживая парадоксальную неправду убеждений автора и героя, Достоевский «исправил» роман Толстого. Он сочинил сцены и реплики героя, раскрыл противоречивую логику его характера, тактично предложил иное завершение сюжета.
Достоевский упрекал Левина в том, что тот отвернулся от «Христова дела».
Изумившись, как бесчувственно к народному движению Левин «закончил свою эпопею», Достоевский обращается к Толстому не как оппоненту, а как к соратнику и единомышленнику:
Его ли хочет выставить нам автор как пример правдивого и честного человека? Такие люди, как автор Анны Карениной — суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики их. Чему ж они нас учат? ( Д18 , 12; 201).
Для каждого из авторов ответ на этот вопрос — их личная и творческая судьба, общая в русской словесности.
Романизация литературной критики органична в поэтике «Дневника Писателя».
Примечания
* Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012—2016 гг.
-
1 Сочинения Достоевского цитируются в тексте статьи с указанием условных обозначений, тома и страницы по изданию:
Д18 — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 18 т. М., 2003—2005. Т. 1—18.
Vladimir Nikolaevich Zakharov
Список литературы Полемика как диалог: Достоевский в споре с Л. Толстым
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 18 т. М., 2003-2005. Т. 1-18.
- Бочаров С. Г. Пушкин и Гоголь («Станционный смотритель» и «Шинель »)//Проблемы типологии русского реализма. М., 1969. С. 210-240.
- Bocharov S. G. Pushkin and Gogol ("The Stationmaster" and "The Overcoat") [Pushkin i Gogol ("Stantsionny smotritel" i "Shinel")]. Problems of Typology of Russian Realism [Problemy typologyy russkogo realisma]. Moscow, 1969, pp.210-240.