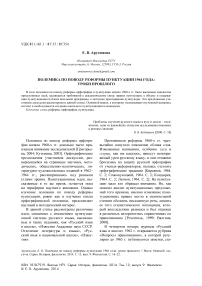Полемика по поводу реформы пунктуации 1964 года: уроки прошлого
Автор: Арутюнова Елена Вячеславовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
В ходе полемики по поводу реформы орфографии и пунктуации начала 1960-х гг. было высказано множество продуктивных идей, касающихся требований к академическому своду правил пунктуации, к объему и содержанию пунктуационного блока школьной программы, к методике преподавания пунктуации. Эти предложения участников дискуссии рассмотрены в данной статье. Основной вывод, к которому подталкивает изученный материал, состоит в необходимости создания школьного пунктуационного минимума.
Реформа, орфография, пунктуация
Короткий адрес: https://sciup.org/147219195
IDR: 147219195 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Полемика по поводу реформы пунктуации 1964 года: уроки прошлого
Проблемы изучения русского языка в вузе и школе – несомненно, один из важнейших стимулов исследования языковых и речевых явлений.
В. В. Бабайцева [2000. С. 10]
Полемика по поводу реформы орфографии начала 1960-х гг. довольно часто привлекала внимание исследователей [Григорьева, 2004; Кузьмина, 2003]. Орфографические предложения участников дискуссии, развернувшейся на страницах научных, методических, общественно-политических, литературно-художественных изданий в 1962– 1964 гг., рассматривались под разными углами зрения. Пунктуационные идеи, высказанные в то же время, остаются пока на периферии научного внимания. Однако изучение полемики по поводу реформы пунктуации, равно как и изучение опыта орфографической полемики, представляет научный и методический интерес.
В данной статье рассмотрены различные идеи, связанные с изменением пунктуационной системы русского языка, высказанные в таких изданиях, как «Русский язык в школе», «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», «Русский язык в национальной школе», «Известия».
Противников реформы 1960-х гг. чрезвычайно напугало изменение облика слов. Измененные написания, особенно заец и огурци , как им казалось, нанесут непоправимый урон русскому языку, и они отчаянно бросились на защиту русской орфографии от ученых-реформаторов, пытаясь отстоять орфографические традиции [Кирсанов, 1964. С. 2; Спасокукоцкий, 1964. С. 2; Кондырев, 1964. С. 2; Леонов, 1964. С. 2]. На пунктуацию мало кто обращал внимание. Но, как показал анализ пунктуационных предложений того времени, именно изменение пунктуационных правил могло в значительной степени обеднить письменную речь, лишить ее того стилистического потенциала, который впоследствии развился и был отражен в различных авторитетных справочниках по правописанию [Розенталь, 1999; Валгина, 2000].
В четвертом номере журнала «Русский язык в школе» 1962 г. открывается рубрика «Вопросы правописания», в которой регулярно до 1965 г. публикуются заметки, ста-
Арутюнова Е. В . Полемика по поводу реформы пунктуации 1964 года: уроки прошлого // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 9: Филология. С. 16–22.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 9: Филология
тьи, письма и обзоры писем, посвященные возможной реформе орфографии и пунктуации. Именно на страницах этого издания было сформулировано наибольшее количество новаторских идей по реформированию русской пунктуации. Обратимся к возможным нововведениям.
В. В. Осокин, кандидат педагогических наук, методист, предложил отказаться от правила, допускающего постановку тире между однородными сказуемыми и между частями в сложносочиненных предложениях типа Я вышел , не желая его обидеть , на террасу - и обомлел или Я спешу туда -а там уже весь город [1963]. Тире в этих синтаксических ситуациях разрешено в том случае, если во втором из компонентов «содержится неожиданное присоединение или резкое противопоставление по отношению к первому» 1. Невозможность «безошибочно почувствовать их [знаки тире] на слух, скажем, при написании диктанта» методист считает важным аргументом против этого правила.
Неоправданным В. В. Осокин считает и пунктуационное разграничение междометий и омонимичных с ними усилительных частиц. В «Правилах русской орфографии и пунктуации» [1956] (далее – Правила-1956) 2 сказано: «запятыми отделяются междометия эй , ах , о , ох , эх , ну и т. п.» 3 и «не являются междометиями и, следовательно, не отделяются запятыми частицы: о , употребляемая при обращении, ну , ах , ох и т. п., употребляемые для выражения усилительного оттенка» 4. По мнению В. В. Осокина, не всегда можно «с полной ясностью сказать: вот тут частица о , или ох , или ах и т. д., а тут – междометие» 5, а значит, и те, и другие слова нужно обособлять. Интонационную и смысловую разницу в предложениях типа О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным ; О, дорогой мой, как это прекрасно! ; О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? автор считает несущественной.
В. В. Осокин, а также учитель средней школы И. И. Потерин [1963] и канд. филол. наук В. Т. Шкляров [1962] единодушно согласились пожертвовать грамматическими нюансами и отказаться от правила о необо-соблении деепричастий и деепричастных оборотов, которые «по значению приближаются к наречиям» 6. На большом количестве примеров, взятых из пособий по пунктуации, В. Т. Шкляров показывает, что условий обособления / необособления деепричастий и деепричастных оборотов, которые должен учитывать пишущий, слишком много, они «расплывчаты», и «даже специалисту нелегко разобраться в пунктуации примеров [приводимых в сборниках пунктуационных правил]». Вот некоторые предложения, на которые опирается автор: Спросил не здороваясь и Спросил, не поздоровавшись. Говорил улыбаясь и Думал, улыбаясь. В. В. Осокин пишет о неопределенности и субъективности критерия «приближается к наречию»: «Например, деепричастие в предложении: Он встал, негодуя по мнению одних, “приближается к наречию”, по мнению других, - нет».
Кандидат филологических наук А. Ф. Кулагин [1963] и один из ведущих специалистов по русской пунктуации проф. А. Б. Шапиро [1962] отметили неудобство правил, допускающих вариативность в пунктуационном оформлении конструкций с перечислением типа Самые скороспелые грибы, например: березовики и сыроежки - достигают полного развития в три дня (пример А. Ф. Кулагина) и Во всем: и в природе и среди полей - чувствовалось что-то незаконченное, недовершенное (пример А. Б. Шапиро) . Согласно правилам7, возможно двоякое оформление таких предложений. Сравните: Самые скороспелые грибы , например березовики и сыроежки , достигают полного развития в три дня и Во всем - и в природе и среди полей - чувствовалось что-то незаконченное, недовершенное.
А. Ф. Кулагин, указывая на недостаток правил, в которых «очень нечетко проводится различие между обособленными уточняющими членами предложения при уточняемых словах и однородными членами предложения при обобщающих словах», допускает двоякую постановку знаков, но задается вопросом: как же разграничивать эти структуры? А. Б. Шапиро рекомендует «установить единую пунктуацию», т. е. «после обобщающих слов и перед обобщаю- щими словами всегда ставить тире, а также выделять посредствам тире однородные члены, стоящие внутри предложения» [1962. С. 474].
Учитель школы рабочей молодежи В . С . Ва-рухин [1962] предложил не проводить различий между однородными и неоднородными определениями 8, а любые определения, относящиеся к одному слову, считать однородными и ставить запятые даже в таких выражениях, как «синий, ситцевый платок», «длинный, товарный поезд».
А. Б. Шапиро, А. Ф. Кулагин, а также учитель А. Р. Синдицкий [1963] настаивали на кардинальном упрощении правила о постановке тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии связки 9. «Все это сложно, – пишет А. Б. Шапиро о разных условиях непостановки тире. – А главное – не так уж важно. Нужно установить единое правило: во всех подобных случаях отделять состав сказуемого от состава подлежащего знаком тире» [1962. С. 474].
В. Т. Шкляров предлагал избавиться от исключений из многих правил, связанных с особым синтаксическим положением фразеологизмов (см., например, правило о выделении сравнительных оборотов 10, деепричастных оборотов 11, однородных членов с повторяющимися союзами 12 – во всех этих правилах оговаривается, что устойчивые обороты не обособляются и внутри них запятые не ставятся). Границу между связанным сочетанием и свободным, по мнению В. Т. Шклярова, провести не всегда легко, а значит, и пунктуационные правила, основанные на разграничении фразеологизмов и свободных сочетаний, нужно отменить.
Также трудно описать отличия вводных слов от омонимичных невводных, поэтому В. В. Осокин и А. Б. Шапиро сочли, что «нет надобности в выделении знаками пре- пинания вводных слов и словосочетаний» [Шапиро, 1962. С. 473].
Не вполне понятны критерии постановки тире в неполном предложении 13. Следовательно, по мнению одного из читателей журнала «Русский язык в школе», нужно ставить такое тире всегда [Епифанская-Казюк, 1964. С. 91].
По мнению В. Т. Шклярова, нужно отказаться от вариативности, разрешенной правилами, в постановке / непостановке запятой между однородными членами, соединенными повторяющимся союзом и . Правила допускали отсутствие запятой между однородными членами, образующими «тесное смысловое единство» 14. Ученый считал, что критерий «тесной смысловой связи» является очень субъективным.
А. Ф. Кулагин предлагал отказаться от обособления определений, стоящих в препозиции по отношению к определяемому слову и имеющих дополнительный обстоятельственный оттенок значений 15.
Кандидат педагогических наук И. А. Агейкин [1963] видит серьезный недостаток школьных правил в том, что они не соответствуют практике письма: «…в школе одно, а в школьной пунктуации другое». Например, «где по школьным правилам следует ставить тире [в бессоюзном сложном предложении], там в тексте двоеточие, и наоборот». Он выдвигает требование «не фетишизировать школьную пунктуацию», а дать учащимся ту же пунктуационную свободу, которой пользуются взрослые: «школьная пунктуация должна быть связана с жизнью, должна в большинстве случаев совпадать с тем, что имеется в области пунктуации в современном русском языке». Проблему выбора между тире и двоеточием между частями бессоюзного сложного предложения И. А. Агейкин предлагает решить, зафиксировав в правилах, что взаимозамена знаков ошибкой не является.
Итак, кажется очевидной общая тенденция к устранению тех правил, в которых пишущему необходимо прибегать к сложному семантическому и грамматическому анализу. Большинство реформаторских предложений, сделанных в 1962–1964 гг., связаны с переходными языковыми явлениями:
для того чтобы расставить знаки препинания, пишущему необходимо отличить деепричастие от деепричастия, «приближающегося к наречию», однородные определения от неоднородных, вводные слова от не вводных, свободные сочетания от связанных, установить смысловые отношения между компонентами предложения. Но всегда ли это легкая, более того – доступная школьнику задача? «Как может разобраться школьник в такой пестроте и путанице расстановки знаков препинания… если и взрослому, хорошо грамотному человеку не понять всех бесчисленных тонкостей?» – восклицает И. И. Потерин, завершая большую подборку примеров, которые иллюстрируют сложность русской пунктуации.
В. В. Бабайцева спустя почти сорок лет после орфографической дискуссии в монографии, посвященной явлениям переходности в грамматике русского языка, пишет: «…Исследователи грамматического строя русского языка, преподаватели вузов и средних учебных заведений постоянно обнаруживают речевой материал, не помещающийся в строгие рамки даже самых детальных классификаций. В живом языке и речи преобладают факты, у которых нет полного набора дифференциальных признаков какой-либо одной грамматической категории» [2000. С. 4]. В своем исследовании В. В. Бабайцева демонстрирует объективные сложности разграничения языковых явлений, соединенных широкой зоной переходности. Однако в середине ХХ в. идея недис-кретности языка еще не была осознана достаточно широким кругом специалистов. Сторонникам пунктуационной реформы хотелось абсолютной ясности, простоты критериев для принятия пунктуационных решений, и ради этой простоты они считали возможным пожертвовать передачей нюансов – смысловых, грамматических, интонационных.
Главным аргументом за упрощение правил становится апелляция к школьнику, не способному справиться с задачами, для которых нет однозначных решений и у профессиональных лингвистов. Таким образом, в текстах статей, посвященных реформе пунктуации, постепенно намечается следующее требование к правилам: правила должны быть ориентированы исключительно на те критерии, которые доступны детям, они должны обеспечить учащемуся возможность безупречно написать диктант 16.
Безусловно, принцип реформирования пунктуации, который способствовал бы реализации данного требования к правилам, полностью соответствовал идеологии реформы в целом, как видели ее представители власти и – часто – учителя и методисты 17. Но предложенные пунктуационные упрощения, отказ от вариативности лишили бы пунктуационную систему гибкости. Между тем пунктуационная вариативность неизбежна и необходима в связи с наличием переходных явлений в языке. Об этом важном свойстве пунктуации писал Д. Э. Розенталь: «Присущая ей [пунктуации] сложность связана, как правило, не с несовершенством отдельных формулировок, а с самой ее природой: пунктуация призвана отражать смысловую сторону речи со всеми ее оттенками, во многих случаях выполняет стилистическую функцию, характеризует индивидуальный стиль автора. Синтаксическая основа русской пунктуации не препятствует выражению при помощи знаков препинания экспрессивных и интонационных оттенков речи» [1964. С. 12].
В наше время кажется странным в оценке необходимости того или иного правила пунктуации исходить исключительно из потребностей школы, возможностей учеников в овладении системой письма. Ведь пунктуация нужна не для учеников, а в первую очередь – для читающих. «Пунктуация, как составная часть письма, наряду с графикой и орфографией, является одним из материальных элементов письменного языка и, как и все другие его элементы, служит целям общения между людьми (в данном случае между пишущим и читателем). <…> Пунктуация является средством, при помощи которого пишущий выражает определенные значения и оттенки, вкладываемые им в свое письменное высказывание, а читающий, видя пунктуационные знаки в написанном (напечатанном) тексте, на основании их воспринимает выражаемые ими значения и оттенки», – писал проф. А. Б. Шапиро в книге «Основы русской пунктуации» [1955. С. 65]. Однако задача, определенная партией, – выпустить из школы абсолютно грамотных людей 18 – заставляла исполнителей, учителей, методистов искать пути ее решения. И большинство увидело только один путь – упрощение правил, подгонку их под уровень лингвистической компетенции среднего школьника.
Реформа не состоялась. Предложения по изменению как орфографии, так и пунктуации остались не реализованы. Пунктуация по-прежнему сложна и направлена на передачу всего синтаксического разнообразия русской письменной речи, на выражение множества смысловых нюансов.
При этом дискуссия, вызванная идеей реформировать правописание, была чрезвычайно полезна для развития теории и практики кодификации пунктуационных норм. Кодификаторам пришлось признать, что правила 1956 г. неудовлетворительны из-за их неудачной структуры и неполного, неясного описания критериев, на которые должен опираться пишущий 19. В появившихся впоследствии сборниках правил был изменен принцип подачи информации. Авторы новых справочников и пособий пытались найти более четкие, понятные формулировки, более подробно, детально описать пунктуационную систему русского языка 20.
Но та методическая проблема, которая стала побудительным мотивом реформы – невозможность усвоить все законы и правила русской пунктуации в школе, осталась не решена. По-прежнему любая пунктуационная ошибка – вне зависимости от сложности пунктограммы – приводит к снижению оценки по русскому языку. Детальные критерии оценки грамотности, учитывающие пунктуационную вариативность и уровень трудности правил, не разработаны. Оценивание грамотности происходит учителями, часто не знакомыми с полным сводом правил пунктуации и поэтому не способными учесть все ее тонкости (автору статьи не раз приходилось видеть в работах учеников правильное написание, исправленное на правильное, и даже правильное, исправленное на неправильное 21; оценка в обоих случаях, естественно, снижалась).
Критерии оценки грамотности должны основываться на том, какие пунктуационные правила и аспекты правил изучаются в школе. Очевидно, что изучить пунктуацию в полном объеме, со всеми ее вариантами, как систему, обладающую стилистическим потенциалом, систему эволюционирующую, в школе невозможно. Это уровень редакторов, корректоров, филологов. И проблемные пунктуационные зоны были выделены в дискуссии 1960-х гг. Так почему же не отказаться от постановки невыполнимой задачи?
Полный свод правил [Правила…, 2006] на данный момент у нас есть (хотя, вероят- но, и он требует некоторых дополнений 22). Школе же нужен краткий свод правил – школьный минимум. Эти правила должны учитывать уровень знаний школьника о грамматике русского языка и его возможности в понимании семантических нюансов.
Эта идея была высказана уже в дискуссии 1960-х гг. авторитетными филологами. Так, С. Г. Бархударов пишет: «Абсолютно грамотных людей не бывает… Не так уж трудно установить для каждого класса тот орфографический минимум, который можно требовать от каждого ученика» [1963. С. 18]. Здесь ученый упоминает минимум орфографический, но в материалах дискуссии слово орфография часто использовалось в более широком значении – как правописание в целом. В. Ф. Иванова выдвигает ту же идею: «Представляется важным предъявлять разумные требования к школьникам, изучающим лишь основы наук… Было бы рациональным четко определить и объем требований по орфографии и пунктуации, предъявляемых для поступающих в вузы» [1963. С. 26]. Д. Э. Розенталь, признавая необходимость внести некоторые частные изменения в свод пунктуационных правил, обратил внимание и на потребности школы: «…Нельзя также забывать, что школьники не могут овладеть всеми тонкостями нашего правописания, знакомство с которыми нужно типографскому корректору или издательскому работнику. Критерием грамотности учащихся не может быть усвоение несущественных подчас деталей, отступление от которых не должно караться “по всем строгостям закона”. Давно уже было сказано, что ошибки “не подсчитывают, а взвешивают”. При правильном подходе к нормам оценок письменных работ учащихся школа не потребует создания “облегченного” правописания, идущего вразрез с природой нашего письма» [1964. С. 13].
Следующий принцип составления пунктуационного минимума был предложен тогда же В. В. Осокиным: «Что касается школьной программы и учебников, то они, естественно, возьмут из него [полного сво- да] только то, без чего не может обходиться любой грамотный человек в своей повседневной жизни». Необходимо отобрать те правила, которые регламентируют наиболее частотные в стилистически нейтральной и деловой речи пунктуационные ситуации.
Известный методист, автор учебников Т. А. Ладыженская предлагает еще одно важное методическое решение в области пунктуации: в школьной практике (и, надо сказать, до сих пор) не принято говорить о пунктуационной вариативности. В результате, человек, покидая школу, чаще всего уверен, что в пунктуации все однозначно. Либо знаки правильны, либо нет. Третьего не дано. Однако у школьников нужно формировать представление и о вариативности пунктуационной системы, ее стилистических возможностях. Т. А. Ладыженская считала, что нужно в некоторых случаях, оговоренных правилами, ввести свободные написания. «С одной стороны, это позволит показать учащимся, что язык постоянно развивается и совершенствуется и что поэтому в нем есть много переходных случаев, когда трудно регламентировать правописание. С другой стороны, сознательное владение некоторыми правилами, допускающими двоякое написание… требует внимания к смысловой стороне речи. И учитель должен показать, что от того, как ты напишешь, зависит то, как тебя поймут» [1964. С. 3]. Конечно, о вариативности и пунктуационной стилистике в полном объеме в школе рассказать не получится, и это не нужно, но показать, что вариативность есть и чем она вызвана, стоит. Поэтому в школьный минимум должны быть включены некоторые правила, допускающие различные знаки в зависимости от смысла и интонации.
Список литературы Полемика по поводу реформы пунктуации 1964 года: уроки прошлого
- Агейкин И. А. Пунктуация в школе и в языке // Русский язык в школе. 1963. № 3. С. 90-91.
- Бабайцева В. В. Явления переходности в грамматике русского языка. М.: Дрофа, 2000.
- Бархударов С. Г. Не ломка, а улучшение нашего письма // Русский язык в школе. 1963. № 1. С. 15-19.
- Биргер Э. И. Давно назревшая задача // Русский язык в школе. 1962. № 4. С. 100-104.
- Валгина Н. С. Русский язык: Трудности современной пунктуации. 8-11 классы. М.: Дрофа, 2000.
- Варухин В. С. О некоторых вопросах Правила русской орфографии и пунктуации. М.: Учпедгиз, 1956.
- правописания и преподавания русского языка в школе // Русский язык в школе. 1962. № 4. С. 104-105.
- Григорьева Т. М. Три века русской орфографии. М., 2004.
- Епифанская-Казюк В. Н. Обзор статей и писем по вопросам пунктуации // Русский язык в школе. 1964. № 2. С. 87-91.
- Ефимов А. И. Красноречие и орфография // Известия. 1962. 23 марта (№ 71). С. 3.
- Иванова В. Ф. О русской орфографии и путях повышения грамотности // Русский язык в школе. 1963. № 1. С. 19-26.
- Кирсанов С. Вопреки букве и духу… // Литературная газета. 1964. 1 окт. (№ 117). С. 2.
- Кондырев Л. Едва ли это благотворно // Литературная газета. 1964. 1 окт. (№ 117). С. 2.
- Кузьмина С. М. История и уроки кодификации русской орфографии в ХХ веке // Русский язык в научном освещении. 2003. № 6 (2). С. 173-192.
- Кулагин А. Ф. Упорядочить и упростить пунктуацию // Русский язык в школе. 1963. № 2. С. 97-99.
- Ладыженская Т. А. Для учителя и ученика // Известия. 1964. 30 сент. (№ 234). С. 3.
- Леонов Л. М. Прошу слова // Литературная газета. 1964. 3 окт. (№ 118). С. 2.
- На повестке дня: школа // Известия. 1962. 25 окт. (№ 175). С. 1.
- Осокин В. В. О пунктуационной части русского правописания // Русский язык в школе. 1963. № 6. С. 90-92.
- Пахомов В. М., Свинцов В. В., Филатова И. В. Трудные случаи русской пунктуации. Словарь-справочник. М.: Эксмо, 2012.
- Потерин И. И. Об упрощении русского правописания // Русский язык в школе. 1963. № 3. С. 80-83.
- Правила русской орфографии и пунктуации: Полный академический справочник / Н. С. Валгина и др. М.: Эксмо, 2006.
- Розенталь Д. Э. Вопросы русского правописания: Практическое руководство. М.: Изд-во МГУ, 1962.
- Розенталь Д. Э. О реформе русского правописания // Русский язык в национальной школе. 1964. № 2. С. 3-13.
- Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 1999.
- Синдицкий А. Р. О совершенствовании русского правописания // Русский язык в школе. 1963. № 6. С. 85-86.
- Спасокукоцкий А. Берегите русский язык // Литературная газета. 1964. 1 окт. (№ 117). С. 2.
- Фигуровский И. А. Радикально упростить орфографию // Русский язык в школе. 1962. № 5. С. 96-98.
- Шапиро А. Б. Немаловажный вопрос (к спорам о русском правописании) // Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. / Под ред. Д. Д. Благого и др. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 21, вып. 6. С. 465-580.
- Шапиро А. Б. Основы русской пунктуации. М., 1955.
- Шкляров В. Т. Пунктуация тоже нуждается в упорядочении // Русский язык в школе. 1962. № 6. С. 89-91.