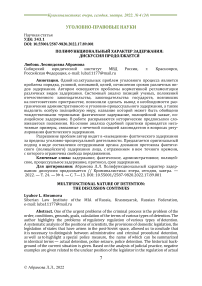Полифункциональный характер задержания: дискуссия продолжается
Автор: Абрамова Любовь Леонидовна
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4 (24), 2022 года.
Бесплатный доступ
Одной из актуальных проблем уголовного процесса является проблема порядка, условий, оснований, целей, исчисления сроков различных видов задержания. Автором освещаются проблемы нормативной регламентации различных видов задержания. Системный анализ позиций ученых, положений отечественного законодательства, законодательства государств, возникших на постсоветском пространстве, позволили сделать вывод о необходимости разграничения административного и уголовно-процессуального задержания, а также выделить особую полицейскую меру, название которой может быть обобщено тождественными терминами: фактическое задержание, полицейский захват, полицейское задержание. В работе раскрываются исторические предпосылки сложившегося положения. На основе анализа судебной практики приводятся негативные примеры, связанные с нечеткой позицией законодателя в вопросах регулирования фактического задержания. Разрешение проблем автор видит в «выведении» фактического задержания за пределы уголовно-процессуальной деятельности. Предлагается оригинальный подход в виде составления сотрудниками органа дознания протокола фактического (полицейского) задержания лица, с отражением в нем точного времени, с которого ограничена свобода передвижения.
Задержание, фактическое, административное, полицейское, процессуальное задержание, протокол, срок задержания
Короткий адрес: https://sciup.org/143179570
IDR: 143179570 | УДК: 343.1 | DOI: 10.55001/2587-9820.2022.17.89.001
Текст научной статьи Полифункциональный характер задержания: дискуссия продолжается
Задержание — одна из самых противоречивых в уголовном процессе мер. В правоприменительной деятельности правоохранительных органов отраслевая нормативная закреплённость применяемой меры, а также её цели не всегда очевидны на момент применения. Это происходит по причине того, что на момент задержания в силу объективных причин не всегда возможно оперативно определиться с правовой оценкой произошедшего события1. Для каждого вида задержания в рамках административного или уголовнопроцессуального производства должны быть установлены свои цели, основания, условия. Очевидно, что целью административного задержания является проверка лица на причастность к совершению соответствующего правонарушения, уголовно-процессуального — проверка на причастность к совершению преступления. Негативные последствия «смешения» целей очевидны. Использование административного задержания для целей уголовного процесса и задержание лица в порядке ст. 91 УПК РФ при формировании административного производства одинаково недопустимы. Содержание же полицейского захвата состоит в доставлении лица для последующего выяснения его причастности к уголовному преступлению или правонарушению. В этой связи крайне важно для правоприменителя определить цель и сущность той меры, которую он собирается применять. Эти и другие вопросы послужили предметом дискуссии в настоящей статье.
Основная часть
В соответствии со ст. 22 Конституции Российской Федерации, арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению2. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ3, задержание подозреваемого — мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.
Моментом фактического задержания считается момент фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления (п. 15 ст. 5 УПК РФ), производимого в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Предписания ст. 10 УПК РФ указывают, что до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Суд, прокурор, следователь обязаны немедленно освободить содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного УПК РФ. В соответствии со ст. 94 УПК РФ, по истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении него не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания.
Казалось бы, достаточно подробно изложенные постулаты должны в полной мере обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан, вовлекаемых в различные правовые отношения. Однако приведенные положения не в полной мере раскрывают содержание меры уголовнопроцессуального принуждения «задержание», не дают исчерпывающего представления о порядке исчисления сроков. Сложность состоит еще и во введении в качестве основных понятий «момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления», без определения места и роли.
По мнению С.Б. Россинского, проблема задержания порождена доктринальными ошибками. Ученый отмечает, что наблюдается подмена понятий, смешивание принципиально различных по своей природе правовых механизмов: фактического задержания (захвата) и администра- тивного задержания, осуществляемого в порядке производства по делам об административных правонарушениях, в соответствии со ст. ст. 27.3– 27.6 КоАП РФ4. Некоторые ученые-процессуалисты предлагают считать фактический захват и доставление подозреваемого к следователю административным задержанием, подпадающим под режим, установленный КоАП РФ. Такой подменой, скорее всего, и было обусловлено приравнивание авторами действующего УПК РФ трехчасового срока, установленного для составления протокола задержания подозреваемого в уголовном судопроизводстве, к сроку, отведенному для административного задержания в производстве по делу об административном правонарушении. Полностью согласны с мнением, что административное задержание не может служить для исполнения нужд уголовного судопроизводства. По своему содержанию предусмотренное КоАП РФ административное задержание является аналогом уголовно-процессуального. И как показывает правоприменительный опыт, фактический захват и доставление лица предшествует обоим видам задержания [1, с. 75—77].
Говоря о предпосылках сложившегося нормативного регулирования следует отметить, что подобное разграничение непроцессуальной и процессуальной деятельности несвойственно процессуальному законодательству других стран континентальной модели, например, для Франции и Германии. Так, во Франции первоначальное дознание проводится в условиях «неочевидности» преступления, в процедуре его осуществления нет строго регламентированных требований: в законе не определены формальные поводы для его начала, чётко не прописан порядок проведения процессуальных действий, но при этом допускается задержание подозреваемого, а также потерпевших и свидетелей для получения от них сведений о событии. Примечательно, что строгих сроков проведения первоначального дознания не установлено. Нетрудно заметить, что описанный вид деятельности имеет розыскной характер, схожий с оперативно-розыскной деятельностью. При этом результаты такой деятельности оформляются протоколом.
Исследуемая проблематика разрешена в законодательстве стран постсоветского пространства следующим образом. Согласно ст. 329 УПК Узбекистана, в ходе проведения до-следственной проверки могут быть истребованы дополнительные документы, объяснения, а также произведены задержание лица, осмотр места происшествия и экспертиза5. Ст. 173 УПК Республики Беларусь до возбуждения уголовного дела допускает помимо получения объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребования дополнительных документов, назначения проверок финансово-хозяйственной деятельности, производства осмотров, освидетельствования, эксгумации, экспертиз производить задержание и личный обыск при задержании 6. В УПК Республики Казахстан имеется норма — ст. 129 «Доставление», которая позволяет ограничить свободу передвижения лица на срок не более трех часов в целях выяснения причастности к уголовному преступле- нию. Причем в ч. 2 упомянутой статьи указано, что при подтверждении причастности лица к уголовному правонарушению орган уголовного преследования вправе осуществить процессуальное задержание7. Важно отметить при этом, что при исчислении общего срока задержания в него включается срок доставления лица.
Историко-сравнительный анализ национального законодательства позволил выявить условия, предопределившие современную модель возбуждения уголовного дела, и спрогнозировать перспективы её развития. Действующий УПК РФ воспринял от советской модели первоначальную стадию возбуждения уголовного дела, а вместе с этим и проблему разграничения дела разных мероприятий (непроцессуальных и процессуальных), выполняемых фактически одними и теми же должностными лицами, по крайней мере, подчинёнными одному и тому же ведомству. В этой связи надо признать, что фактическое задержание (полицейский захват) зачастую происходит за рамками уголовного процесса. Это своего рода превентивная полицейская мера. Причём УПК РСФСР (ст. 122. Задержание подозреваемого в совершении преступления) расценивал задержание как прерогативу органа дознания8. И только на современном этапе развития уголовнопроцессуального законодательства практика постепенно стала складываться так, что обязанность применения уголовно-процессуального задержания возложили на следователя.
Еще в 2008 году процессуалиста- ми признавалась возможность применения органами дознания принуждения при проверке сообщения о преступлении. Так, А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский отмечают, что до вынесения постановления о возбуждении дела следователем, дознавателем или должностным лицом органа дознания могут быть проведены непринудительные процессуальные, а также предусмотренные иными нормативными актами — федеральными законами «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 6)9, «О Федеральной службе безопасности» (ст. 13)10, Законом РФ «О милиции» (ст. 11)11, непроцессуальные действия. Анализ этих статей показывает, что до принятия решения о начале расследования возможно фактическое (полицейское) задержание и доставление лиц, подозреваемых в совершении преступлений [2, с. 331].
Рассуждая в своей работе о процессуальных действиях, проводимых в стадии возбуждения уголовного дела, Я.П. Ряполова допускает проведение фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления; доставления задержанного лица в орган дознания или следо- вателю, полагая необходимым предусмотреть составление протокола доставления в орган дознания или к следователю задержанного лица [3, с. 11].
Нормативная нерешенность вопросов полицейского захвата (доставления) нарушает не только права задержанных, но и дезорганизует работу правоохранительных органов, обрекая следователей на многочисленные жалобы участников, отказы суда в удовлетворении ходатайств о заключении под стражу из-за нарушений при исчислении сроков задержания, частные определения и т.п.
Примеры судебной практики также указывают на то, что временной промежуток между полицейским захватом лица и доставлением его к следователю закон не регулирует. Именно поэтому происходит ограничение прав и свобод, личной неприкосновенности граждан, когда исчисление 48-часового срока задержания происходит с момента доставления в полицию, к следователю или даже с момента уголовно-процессуального задержания, а не с момента фактического ограничения свободы передвижения лица.
На наш взгляд проблема может быть разрешена снятием запрета применения задержания до принятия решения о возбуждении уголовного дела. В уголовном процессе традиционной является позиция, согласно которой меры принуждения применяются только с момента принятия решения о возбуждении уголовного дела. Однако, как мы убедились, в практической деятельности распространены случаи, когда на период предварительной проверки удерживают лицо в неопределенном статусе (например, пока должностные лица проводят длительные оперативнорозыскные или проверочные мероприятия, исследования и т.д.). Чтобы нивелировать нарушения, следователи вынуждены составлять протокол задержания с указанием сроков фак- тического задержания с искажением, не с момента фактического ограничения свободы передвижения, как это предписано в статье 5 УПК РФ, а с момента доставления задержанного к следователю, который, как правило, совпадает с моментом передачи материалов проверки следователю. Иногда приходится «затушевывать» нарушения при задержании, если оно осуществляется в труднодоступных, отдаленных местностях, куда затруднено оперативное прибытие следователя и откуда доставление задержанного к следователю объективно требует длительного времени. Опросы практиков показывают, что действия сотрудников органа дознания, проводящих предварительную проверку по сообщению о преступлении, в ряде случав сводятся к составлению протокола об административном правонарушении, причем чаще всего состав такого правонарушения является «натянутым»: либо мелкое хулиганство, либо немедицинское потребление наркотических средств и т.д. Хотя очевидно, что в таких случаях реальная цель фактического задержания состоит в том, чтобы обеспечить доставление к следователю и провести проверку причастности лица к совершению преступления.
Пробелы в законодательстве в данной области порождают многочисленные факты формального отношения к исчислению сроков задержания, проявляющегося в том, что следователи (дознаватели) неточно устанавливают время и обстоятельства фактического задержания лица. Так, решением одного из районных судов Л., подозреваемому в совершении тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, имеющемуся в материалах дела, Л. был задержан 31.05.2021 в 23.40 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств». Однако протокол задержания Л. составлен 03.06.2021 в 00 час. 13 мин., время фактического задержания в котором указано 03.06.2021 00 час. 02 мин. Как видно из анализа обстоятельств по данному уголовному делу, 48-часовой срок задержания Л. истек 02.06.2021 в 23.40 час. Однако следователь с согласия руководителя следственного органа 04.06.2021 вынес постановление о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом вопрос о времени фактического задержания в судебном заседании не выяснялся, фактические обстоятельства задержания не исследовались, вследствие чего судом было признано исчисление срока содержания под стражей не с 31.05.2021, а с 03.06.2021, то есть с момента составления следователем протокола задержания12.
Выводы и заключение
Подводя итог вышеизложенному, полагаем, что нормативное регулирование задержания нуждается в дальнейшем усовершенствовании, прежде всего, посредством внесения изменений и дополнений в ст. 144 УПК РФ. В частности, считаем допустимым разрешить производство фактического (полицейского) задержания на этапе проверки сообщения о преступлении с обязательным составлением протокола, в котором фиксировалось бы точное время ограничения свободы передвижения.
Список литературы Полифункциональный характер задержания: дискуссия продолжается
- Россинский, С.Б. Размышления о правовой природе фактического задержания и доставления подозреваемого // Lex Russica: научный юридический журнал. Москва: Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2018. - № 8 (141). - С. 68-77.
- Rossinskij, S. B. Razmyshlenija o pravovoj prirode fakticheskogo zaderzhanija i dostavlenija podozrevaemogo [Reflections on the Legal Nature of Actual Detention and Delivery of a Suspect]. Lex Russica: nauchnyj yuridicheskij zhurnal. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj yuridicheskij universitet im. O.E. Kutafina (MGYUA) - scientific legal journal. Moscow: Moscow State Law University. O.E. Kutafin (MSUA). - 2018, - no.8 (141), - pp. 68-77. (in Russian).
- Смирнов, А.В., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. Под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2008. - 704 с.
- Smirnov, A. V., Kalinovskij, K. B. (Ed.) Ugolovnyj process [Criminal Procedure]. Saint Peterburg, 2008, - 331 p. (in Russian).
- Ряполова, Я.П. Процессуальные действия, проводимые в стадии возбуждения уголовного дела: правовые, теоретические и организационные основы: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва: Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, 2013. - 260 с.
- Ryapolova, YA. P. Procedural actions carried out at the stage of initiation of a criminal case: legal, theoretical and organizational bases: dissertation.. Candidate of Law Sciences: [Processual'nye dejstviya, provodimye v stadii vozbuzhdeniya ugolovnogo dela: pravovye, teoreticheskie i organizacionnye osnovy: dis.. kand. yurid. nauk]. Kutafin Moscow State Law University. Moscow, 2013, - 260 p. (in Russian).