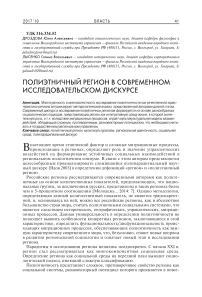Полиэтничный регион в современном исследовательском дискурсе
Автор: Дроздова Юлия Алексеевна, Лысенко Галина Васильевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 10, 2017 года.
Бесплатный доступ
Многогранность и многоаспектность исследования полиэтничности как качественной характеристики региона актуализируют методологический анализ, представленный авторами данной статьи. Современный дискурс в исследовании полиэтничных регионов формируется на основе разнообразных социологических подходов, представляющих регион как интегративную среду жизни, в которой значительную роль, в т.ч. вследствие миграционных процессов, играет мультикультуральная модель взаимодействия, обладающая сложным, противоречивым, разновекторным потенциалом, что необходимо учитывать в государственном/региональном управлении.
Полиэтничный регион, мультикультурализм, региональная идентичность, социальная среда, полипарадигмальный дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/170168618
IDR: 170168618 | УДК: 316.334.52
Текст научной статьи Полиэтничный регион в современном исследовательском дискурсе
В настоящее время этнический фактор и сложные миграционные процессы, происходящие в регионах, определяют роль и значение управленческих воздействий на формирование устойчивых социальных взаимодействий в региональном полиэтничном социуме. В связи с этим авторам представляется целесообразным проанализировать сложившийся полипарадигмальный научный дискурс [Ядов 2003] в определении дефиниций «регион» и «полиэтничный регион».
Российские регионы рассматриваются современными авторами как полиэтничные на основе количественных показателей, предполагающих, что национальные группы, за исключением русских, представлены в таких регионах более чем в 5-процентном соотношении [Молодежь… 2014: 7]. Однако методология, определяющая данный количественный показатель, не является транспарентной, и, основываясь на ней, можно все российские регионы, как и абсолютное большинство стран мира, считать полиэтничными социальными системами, что является следствием исторических, географических, управленческих, миграционных процессов. Данная универсальность в определении полиэтничности не позволяет выявить особенности конкретных регионов, заключающиеся в этой характеристике, определить функциональность/дисфункциональность происходящих миграционных процессов, обеспечивающих полиэтничность как важную характеристику современного мира, что, безусловно, ставит новые вопросы в развитии региональной социологии и означает новый этап в исследовании региона.
Парадигмы в исследовании региона менялись неоднократно. С начала XXI в. регион стал рассматриваться как многокомпонентная социальная среда. Определение региона как социальной среды на передний план выводит социологический подход, имеющий сложную классификацию.
Полиэтничность представляет сложное, противоречивое свойство региона как социальной системы, разновекторный потенциал которого проявляется в повсе- дневных практиках населения на определенной территории, поведенческих стратегиях населения, определяющих конфликтную/толерантную/солидарную региональную среду [Дроздова 2011]. Согласно субстанциональному подходу [Рязанцев, Завалишин 2006], регион представляет конфигурацию социальных взаимодействий, имеющую пространственно-временную локализацию. Территориальное поведение, структурирующее социальные практики на определенной территории, типологизируется по различным основаниям: по сферам общественной жизни, типу населенного пункта, масштабам территории и т.д. В контексте исследования региона как субстанции взаимодействий важной представляется типология поведения населения, основанная на рефлексии территории в сознании социального субъекта: это субстанциональное поведение, предполагающее рефлексию территории как среды обитания; экстракционное, когда территория рефлексируется как ресурс и капитал; патриотическое, свойственное, например, жителям Волгоградской обл., когда территория является ценностью, связанной с героической военной историей [Рязанцев, Завалишин 2006: 62-65]. Данная типология позволяет рассматривать толерантное полиэтничное, интернационалистское поведение, основываясь на разделяемых ценностях, представлениях, ментальных характеристиках, а не на национальных или индивидуальных интересах акторов.
Определение полиэтничного региона, согласно субстанциональному подходу, может основываться на таких признаках, как взаимодействие общественных групп, проживающих совместно; взаимная дополняемость хозяйственных и промышленных единиц, которые функционируют в рамках определенной территории; типология территориального поведения; совместность общих ценностей, связанных с историей, культурой, региональными традициями при сохранении национальных традиций, что обеспечивает успешную аккомодацию иноэтнич-ного населения региона, формирование и поддержание мультикультуральной модели взаимодействия. По мнению эксперта гранта РФФИ № 16-13-34011 «Миграционные риски в полиэтничном регионе: социолого-управленческий анализ», «сам термин мультикультурализм предполагает, начиная с семьи, начиная с локальных условий, а мы все обладаем разной культурной базой – …страте-гию неразделенности» (эксперт № 7, Санкт-Петербург, октябрь 2016), что позволяет, преодолевая определенный скептицизм, существующий относительно мультикультурализма, использовать в данной модели все рациональное, ценностное, гуманистическое, необходимое для развития полиэтничных регионов.
Структуралистский подход [Дюркгейм 1991, Зиммель 1996; Гидденс 2003] определяет регион как пространственный объект, структура которого существует до, во время и после взаимодействия с индивидом. Субъект попадает в поле региональных символов, «надындивидуальной реальности» социального пространства, которое обладает как объективными (экономико-политическими, материальными, физическими пространственно-временными), так и субъективными (традиционными, ментально-символическими, мифологическими, основанными на представлениях, в т.ч. и групповых, о территории) характеристиками. Данный подход позволяет рассмотреть регион как социальный контекст, пространственно-временной сектор, но данный подход не дает ответа на вопросы, связанные с изменением за последние годы отношения населения к многонациональному составу региона1 (см. табл. 1).
Как видим, полученные данные, с одной стороны, свидетельствуют о сниже нии числа безусловно положительно воспринимающих полиэтничность с 78,4%
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Многонациональный состав населения области, по Вашему мнению, это…», %
Феноменологический и коммуникативный подходы в исследовании «пространства и времени» [Филиппов 2000, Шютц 2003, Хабермас 2001, Бурдье 2007] определяют регион как социальное пространство, в котором, во-первых, происходит общественное взаимодействие, во-вторых, существует определенное видение и ощущение этого пространства его участниками, в-третьих, участники этого пространственного взаимодействия выделяют регион как смысл, структурирующий коммуникацию. Регион как полиэтничное пространство представляет ризому, связанную комплексными каналами коммуникации. Ризома как концепт множественной неупорядоченной полиэтничной реальности [Deleuze, Guattari 1976: 62] обеспечивает циркуляцию информации, воспроизводство смыслов, идей, дискурсов, практик. Метафора «ризома» предполагает синергетический сценарий в развитии региона, определяемый качеством и интенсивностью коммуникаций в дискурсивно самоорганизованных полиэтничных пространствах. Регион, региональное сообщество можно рассматривать как коммуникативное пространство, которое определяется нами как сфера распространения социальных форм организации общественной жизнедеятельности, функционирования социальных отношений в рамках региональной полиэтничной общности. Данный подход создает основу для определения значения региональной идентичности в полиэтничных регионах как смысла регионального взаимодействия, в основу которого положено соотнесение себя с территорией проживания, идентификация с ней, желание работать, реализовываться на ней. Активность акторов полиэтничного региона, независимо от национальностей, образует ризому как пространство повседневности, региональных упорядочен-ных/неупорядоченных коммуникаций.
Символическое пространство региона как текст и результат деятельности людей, функционирующих в определенной социальной ситуации, рассматривается и в дискурсивной теории [Филлипс, Йоргенсен 2008; Макаров 2003]. При этом символическое пространство полиэтничных регионов представляет определенную систему региональной коммуникации, позволяющую в процессе соци- ального взаимодействия выстраивать аппрезентационные отношения, основанные на возникновении общих смыслов, интерпретаций, дискурсов, которые отражают как разделяемый опыт реальности повседневности, в т.ч. и национальный [Кармадонов 1998], структурирующий и нормирующий образы, социальные практики, традиции и ценности, так и вновь конструируемый региональными акторами (власть, СМИ, население), определяющий степень конгруэнтности, полиэтничности символических систем в регионе. С точки зрения дискурсивной теории полиэтничность – не заданная реальность, а формирующаяся социальная реальность. В связи с этим представляются интересными данные опроса мигрантов, прибывших в регион1, согласно которым 34,7% респондентов «воспринимают традиции и правила коренных жителей региона и стараются им следовать», 42,9% опрошенных «стараются сохранить свои традиции и правила»; 4,8% участников опроса «не хотят соблюдать традиции и правила коренных жителей региона»; 2% респондентов «игнорируют традиции и правила жителей региона и навязывают свои»; 15,6% затруднились с ответом. Следовательно, дискурс поли-этничности не является однозначно воспринимаемым принимающим и прибывающим населением как положительный региональный контекст и определяет проблемность управления.
Авторы конструктивистского подхода [Зиммель 1996, Андерсон 2016, Бергер, Лукман 1995; Hopf 2000] считают, что все пространства (регионы, государства, местности) являются как дискурсивными, так и материальными конструктами. Регион представляет конструируемое, воображаемое, мыслимое пространство, границы которого определяются не физическими, административно-территориальными категориями, а региональной идентичностью как полиэтничным феноменом: чувством принадлежности к своему региональному сообществу, осознанием практических возможностей самореализации в данном пространстве-времени и разделяемыми и принимаемыми взаимозависимостью, историческим опытом, культурным наследием, религией и языком. Регион предстает как конструкт социальных взаимодействий, разворачивающихся на фоне локального пространственно-временного контекста, включающего территорию, ее природные, социально-экономические ресурсы, рефлексию ценности территории как малой родины, доверие взаимодействующих акторов, солидаризирующихся на основе региональных полиэтничных идей, ценностей и норм, определяющихся продолжительной интеграцией их на протяжении длительного времени [Добрякова 1999: 130-131]. Таким образом, конструктивистский подход рассматривает регион через обозначение границ, воображаемых и определяемых сетями взаимодействий институциональных и индивидуальных акторов.
В контексте исследования полиэтничности региона интересен управленческий подход [Щедровицкий; Галумов 2003; Котлер 2005; Лысенко 2010, Золина 2011], позволяющий понять механизм формирования и динамику полиэтнично-сти. В основе данного подхода находится мотивирующая идея территориального объединения людей для совместной деятельности и сотрудничества. Управление создаваемой общностью, легитимация социального порядка на основе большей преданности, когерентности, гражданской активности, близости между согражданами, рационализм и технологичность конструируемых акторами управления ценностей и представлений, возрастание значимости традиционно-национальных представлений морального порядка на уровне семейных отношений и интернациональное воспитание сограждан – вот основные формирующиеся в процессе управления характеристики региональных полиэтничных сообществ в современную эпоху.
Таким образом, определение полиэтничности региона носит во многом дискуссионный характер и в научном сообществе остается противоречивым в связи со спорностью оснований, предлагаемых различными учеными для определения такой сложной системы, какой является регион, и запоздалым развитием регио-налистики в России. В контексте нашего исследования важным представляется определение региона, с одной стороны, как динамической самоорганизующейся, самовоспроизводящейся, саморазвивающейся системы, а с другой – конструируемой, управляемой, контролируемой, функционально-регулируемой системы, включающей физическую территорию и ее ресурсы, социальное пространство, территориальную социальную общность, модели поведения и взаимодействия, представления, органы государственного и местного (само)управления.
Сложность организации и развития полиэтничного региона требует особенно высокой степени координации в его управлении, учета разнообразных интересов, ценностей, символов, смыслов, потребностей и правильного выбора приоритетов в их удовлетворении, формирования солидарных связей между представителями различных народов на основе многофакторного анализа полиэтничного социального пространства.
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 16-13-34011 «Миграционные риски в полиэтничном регионе: социолого-управленческий анализ».
Список литературы Полиэтничный регион в современном исследовательском дискурсе
- Андерсон Б. 2016. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма (пер. с англ. В. Николаева). М.: Кучково поле. 416 с
- Бергер П., Лукман Т. 1995. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум. 323 c
- Бурдье П. 2007. Социология социального пространства (пер. с фр.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко). М.: Институт экспериментальной социологии; СПб: Алетейя. 288 с
- Галумов Э.А. 2003. Международный имидж России: стратегии формирования. М.: Известия. 450 с
- Гидденс Э. 2003. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический Проект. 528 с
- Добрякова М.С. 1999. Исследование локальных сообществ в социологической традиции. -Социс. Социологические исследования. № 7. С. 125-133
- Дроздова Ю.А. 2011. Солидарность как основание формирования региональной идентичности. -Социально-гуманитарные знания. № 4. С. 334-342
- Дюркгейм Э. 1991. О разделении общественного труда. Метод социологии (пер. с фр. А.Б. Гофмана). М.: Наука. 576 с
- Зиммель Г. 1996. Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования. -Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист. 607 с
- Золина Г.Д. 2011. Имидж региона в системе социальной и информационной политики. Краснодар: Изд-во КубГУ. 138 с
- Кармадонов O.A. 1998. Семантика политического пространства: опыт кросскультурного транссимволического анализа. -Журнал социологии и социальной антропологии. Т. I. Вып. 4. С. 78-90
- Котлер Ф. 2005. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. 384 с
- Лысенко Г.В. 2010. Информационно-коммуникативные аспекты взаимодействия «власть -общество» в социальном пространстве региона: социологический анализ: монография. Волгоград: Изд-во ВАГС. 280 с
- Макаров М.Л. 2003. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис». 280 с
- Молодежь в полиэтничных регионах Южного федерального округа: экспертный доклад (под общ. ред. В.А. Тишкова). 2014. М.; Ростов н/Д. 84 с
- Рязанцев И.П. Завалишин А.Ю. 2006. Территориальное поведение россиян (историко-социологический анализ). М.: Академический проект; Гаудеамус. 456 с
- Филиппов А.Ф. 2000. Социология пространства: общий замысел и классическая разработка проблемы. -Логос. № 2(23). С. 113-151. Доступ: http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_2/09.html (проверено 07.09.2017)
- Филлипс Л., Йоргенсен М.В. 2008. Дискурс-анализ. Теория и метод. (пер.с англ.). 2-е изд., испр. Харьков: Гуманитарный центр. 352 c
- Хабермас Ю. 2001. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука. 382 с
- Шютц А. 2003. Смысловая структура повседневного мира: Очерки по феноменологической социологии. (сост. А.Я. Алхасов; пер с англ. А.Я. Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой). М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 336 с
- Щедровицкий Г.П. Организация, руководство, управление. Доступ: https://sadykov.org/files/lib/organizaciya_schedrovickiy.pdf (проверено 10.09.2017)
- Ядов В.А. 2003. Возможности совмещения теоретических парадигм в социологии. -Социологический журнал. № 3. С. 5-19
- Deleuze G., Guattari F. 1976. Rhizome. Introduction. Paris. 117 p
- Hopf Т. 2000. Constructivism All the Way Down. -International Politics. Vol. 37. No. 3. P. 369-378