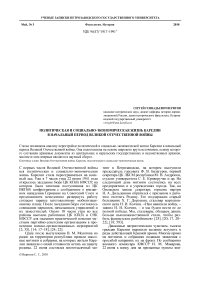Политическая и социально-экономическая жизнь Карелии в начальный период Великой Отечественной войны
Автор: Веригин Сергей Геннадьевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (108), 2010 года.
Бесплатный доступ
Великая отечественная война, карелия, политическая и социально-экономическая жизнь
Короткий адрес: https://sciup.org/14749711
IDR: 14749711
Текст статьи Политическая и социально-экономическая жизнь Карелии в начальный период Великой Отечественной войны
С первых часов Великой Отечественной войны вся политическая и социально-экономическая жизнь Карелии стала перестраиваться на военный лад. Уже в 7 часов утра 22 июня 1941 года открылось заседание бюро ЦК КП(б) КФССР, на котором была зачитана поступившая из ЦК ВКП(б) шифрограмма с сообщением о внезапном нападении Германии на Советский Союз и предложением немедленно развернуть работу согласно заранее заготовленному мобилизационному плану. После заседания бюро состоялось совещание наркомов, начальников управлений и их заместителей. Около 10 часов утра во все районы выехали работники ЦК КП(б) и СНК КФССР для оказания практической помощи местным партийно-советским организациям в проведении военно-организационных мероприятий [2; 35], [14; 17–18], [24; 22].
Сразу после выступления В. М. Молотова по радио на территории республики прошли массовые митинги и собрания, на которых жители Карелии заявляли о своей готовности встать на защиту родины. 22 июня состоялся многотысячный ми
тинг в Петрозаводске, на котором выступили председатель горсовета Ф. В. Балагуров, первый секретарь ЦК ЛКСМ республики Ю. В. Андропов, студент университета С. Е. Криворучко и др. На следующий день митинги состоялись на всех предприятиях и в учреждениях города. Так, на Онежском заводе секретарь горкома партии Н. А. Дильденкин обратился с призывом к рабочим отстоять Родину. Его поддержали старый большевик Х. Г. Дорошин, сталевар мартеновского цеха Н. И. Колчин. «Нам навязали войну, – заявил Н. И. Колчин, – и мы будем вести ее до полной победы. Мы, сталевары, обещаем давать больше высококачественной стали, чтобы разбить фашистских разбойников» [25], [20; 17, 20– 22], [18; 593].
Движимые патриотическим чувством, тысячи граждан Карелии выразили желание вступить в ряды действующей Красной армии. Многие прямо на митингах и собраниях подавали заявления с просьбой направить их на фронт. По сообщению военного комиссара КФССР И. М. Макарова, 22 июня к концу дня на призывные пункты яви- лось 60 % подлежащих призыву в армию, а поздно вечером 23 июня мобилизация военнообязанных первой очереди в основном завершилась [18; 594].
Только в первый месяц войны свыше 10 тыс. жителей республики подали заявления о добровольном вступлении в Красную армию. Вместе с мужчинами в армию добровольно уходили и многие девушки-комсомолки. Первый секретарь ЦК ЛКСМ КФССР Ю. В. Андропов писал в 1942 году в журнале «Смена»: «Нередко уходили сразу целыми организациями (так сделали комсомольцы больницы города Беломорска), иногда по очереди. Один за другим, но в результате оказывалось – все ушли на фронт» [16; 21]. Всего за 1941– 1945 годы Вооруженные силы страны добровольно и по мобилизации получили из Карелии около 100 тыс. человек, которые сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны.
Одновременно с проведением мобилизации военнообязанных развернулась большая работа по формированию истребительных батальонов, частей народного ополчения и партизанских отрядов. Истребительные батальоны в республике, как и в стране в целом, стали формироваться согласно принятому СНК СССР специальному постановлению от 24 июня 1941 года «Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов» для организации необходимой охраны в прифронтовой полосе военных и народно-хозяйственных объектов, а также борьбы с вражескими диверсантами. Создание истребительных батальонов в республике в основном завершилось в начале июля 1941 года. По данным на 7 июля 1941 года, всего насчитывалось 38 батальонов с общей численностью состава 4 325 человек. К осени 1941 года общая численность бойцов-истребителей увеличилась до 5 641 человека. Общее руководство истребительными батальонами возлагалось на секретаря ЦК КП(б) КФССР А. С. Варламова, заместителя председателя СНК В. В. Стефанихина и наркома госбезопасности М. И. Баскакова. Истребительные батальоны несли охрану населенных пунктов, мостов и особо важных объектов, поднимались по боевой тревоге и выходили на преследование и ликвидацию обнаруженных вражеских десантов и диверсионных групп [18; 595].
26 июля 1941 года приказом наркома НКВД КФССР М. И. Баскакова была организована учеба бойцов сформированных истребительных батальонов. В нерабочее время они изучали материальную часть оружия, обучались стрельбе, тактике и т. д. Была разработана и утверждена программа боевой и политической подготовки личного состава истребительных батальонов. Первоначально бойцы обучались и использовались без отрыва от производства. Они трудились на своих предприятиях и только в случае необходимости выходили на боевые операции. Но уже с августа 1941 года каждый месяц стали проводить 3-дневные сборы с отрывом от производства и учебно-боевые тревоги с выходом в поле для решения тактических и специальных задач. Постановлением СНК и ЦК КП(б) КФССР от 27 июля 1941 г. весь личный состав истребительных батальонов был переведен на казарменное положение, что позволило лучше организовать боевую и политическую учебу, повысить мобилизационную готовность батальонов [33; 34–35].
Создаваемые истребительные батальоны намечалось использовать для охраны населенных пунктов и промышленных объектов, для борьбы с вражескими диверсиями и воздушными десантами противника. Однако летом и осенью 1941 года в силу сложившейся тяжелой обстановки на фронте истребительные батальоны сражались вместе с частями Красной армии под Колатсель-гой, Ведлозером, Крошнозером, Медвежьегорском и в других местах [21; 152]. Как правило, истребительные батальоны действовали против превосходящих сил противника, несли тяжелые потери, но они с честью выполнили свой долг перед Родиной.
Еще одной формой патриотического подъема населения Карелии в период войны стало создание частей народного ополчения. Инициатива формирования ополченческих подразделений родилась в конце июня 1941 года у жителей Ленинграда. В начале июля к организации народного ополчения приступили трудящиеся Москвы. Председатель ГКО И. В. Сталин в речи по радио 3 июля призвал к созданию народного ополчения в каждом городе, которому угрожало нашествие врага. 5 июля 1941 года ЦК КП(б) и СНК КФССР приняли постановление «О создании отрядов народного ополчения». Руководство ополчением возлагалось на секретаря ЦК Компартии А. С. Варламова, заведующего военным отделом ЦК Н. Ф. Карахаева и военного комиссара республики И. М. Макарова. Народное ополчение состояло из добровольцев, пожелавших с оружием в руках защищать свою родину. К началу августа 1941 года в республике уже действовало 3 полка, 32 батальона и 5 отдельных рот ополчения, в которых состояло свыше 22 тыс. бойцов. Ополченцы несли охрану важных объектов, дорог, мостов и т. п., а в первые месяцы войны использовались и в качестве резерва для пополнения войск на фронте [18; 597], [27; 6–7], [26; 39].
В городах и районах республики организацией отрядов народного ополчения занимались первые секретари горкомов и райкомов партии, председатели исполкомов Советов депутатов трудящихся и военные комиссары. Так, в Тунгудском районе этим делом занимались первый секретарь райкома партии М. И. Климушков, председатель райисполкома П. С. Акимов и военком Е. И. Ха-хаев; в Пудожском районе – первый секретарь райкома партии А. З. Алешин, председатель райисполкома П. К. Бугнина и военком А. А. Нифан-тов. Для оказания практической помощи на местах республиканские руководящие органы напра- вили своих представителей в районы. Например, первый секретарь ЦК ЛКСМ Ю. В. Андропов принял активное участие в создании ополчения в Пряжинском, Ведлозерском, Петровском и Олонецком районах [26; 40].
В начале войны, когда ситуация на Карельском фронте была крайне тяжелой и ощущался явный недостаток в личном составе воинских подразделений Красной армии, народное ополчение стало важным источником пополнения действующих советских войск на севере страны. К концу 1941 года наступление немецких и финских войск на Карельском фронте было остановлено, обстановка окончательно стабилизировалась и отряды народного ополчения влились в военно-учебные пункты, созданные согласно постановлению ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» от 17 сентября 1941 года. Принятие этого постановления в начале Великой Отечественной войны было вызвано необходимостью непрерывного пополнения Красной армии боевыми резервами. Все население, способное носить оружие, следовало обучить военному делу.
20 сентября 1941 года бюро ЦК Компартии республики разработало практические мероприятия по выполнению постановления по организации всеобуча. Районные комитеты партии утвердили командиров и политруков учебных подразделений и на всех предприятиях и в учреждениях организовали регулярное проведение воинских занятий. Всего за первые два года войны на пунктах всеобуча и в массовых оборонных организациях прошли обучение 14 365 автоматчиков, снайперов и минеров. Часть из них получили направление в действующую армию [18; 597].
Трудящиеся Карелии с первых дней Великой Отечественной войны включились в патриотические движения в помощь фронту. Они подхватили инициативу рабочих Москвы и других крупных промышленных центров страны по добровольному сбору личных средств в Фонд обороны. Рабочие и служащие ежемесячно вносили в него часть заработка, сбережения, драгоценности, облигации государственных займов. Они внесли в Фонд обороны Родины, по далеко не полным данным, свыше 20 млн руб. деньгами и около 1 млн руб. облигациями [18; 630].
Наряду с изменениями в политической и социальной сферах республики с первых дней Великой Отечественной войны стала перестраиваться на военный лад и экономика Карелии. Начавшаяся война коренным образом изменила содержание и направление деятельности партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций по руководству промышленностью, строительством, транспортом и сельским хозяйством. Главное внимание в их работе было нацелено на перестройку всех отраслей народного хозяйства на военный лад для удовлетворения нужд фронта.
Ядром административно-командной системы управления экономикой, созданной в 1930-е годы, являлась Коммунистическая партия, под руководством которой работали все государственные и общественные организации. Условия военного времени требовали централизации руководства, утверждения железной дисциплины во всех звеньях государственного аппарата. В этой связи значительно повышалась роль партийных организаций республики, и прежде всего бюро ЦК КП(б) КФССР, в решении сложных экономических задач. Коммунисты выносили на партсобрания наиболее важные вопросы перестройки хозяйственной жизни, стремились активнее влиять на этот процесс. Так, 15 июля 1941 года состоялось собрание актива Петрозаводской городской партийной организации. На нем были определены конкретные меры по строительству оборонительных рубежей на подступах к Петрозаводску. Руководство этими работами было возложено на секретаря ЦК КП(б) КФССР А. С. Варламова, заместителя председателя СНК республики В. В. Стефани-хина и секретаря Петрозаводского горкома партии Н. А. Дильденкина [6; 1].
Перестройка экономики на военный лад потребовала от партийных организаций республики изменить формы и методы работы, сделать упор на применение административного ресурса. Как и по всей стране, в Карелии создаются чрезвычайные органы – политотделы МТС и совхозов. В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) принимаются меры по улучшению деятельности политорганов на транспорте, учреждается институт партийных организаторов (парторгов) ЦК КП(б) в леспромхозах, на лесопунктах и лесобиржах. В целях повышения оперативного влияния на работу промышленных предприятий республики по выполнению планов и обеспечению нужд фронта партийные организации усилили контроль за деятельностью администрации предприятий.
В перестройке экономики в начальный период Великой Отечественной войны огромную роль сыграло то обстоятельство, что в довоенный период была создана мощная промышленная и военная база, утверждена плановая система хозяйствования. Основная часть средств производства находилась в руках государства, что позволяло сконцентрировать все материальные и финансовые ресурсы и направить их на удовлетворение потребностей фронта.
Руководство республики уже в первые дни войны перераспределило материальные и финансовые средства с учетом складывающейся обстановки. 5 июля 1941 года было принято постановление СНК КФССР «О выделении средств Управлению делами СНК на особые нужды», согласно которому из республиканского бюджета за счет уменьшения ассигнований на другие, менее важные статьи, Управлению делами СНК КФССР было выделено 110 тыс. руб. для проведения оборонных мероприятий [9; 37].
Военная обстановка потребовала внести изменения и в систему планирования. 11 июля 1941 года было принято постановление СНК КФССР «Об уточнении плана производства на III квартал и июль-месяц 1941 г.», утвердившее новый план производства валовой продукции по наркоматам, районам и кооперативной промышленности республики в целях лучшего обеспечения нужд фронта [9; 55–56]. Правительство Карелии, учитывая сложную обстановку на фронте и отступление советских войск от границы вглубь территории республики, приняло решение о проведении структурной перестройки экономики. В частности, был ликвидирован трест «Сердобольлес», а его предприятия и леспромхозы включены в состав треста «Южкарел-лес». Заместителям председателя СНК КФССР М. Я. Исакову и М. Ф. Иванову и председателю Госплана республики Б. С. Альперовичу было поручено проверить наличие и потребность в рабочей силе в каждой отрасли промышленности, произвести перераспределение высвобождающихся кадров между отраслями, обеспечив в первую очередь те отрасли и предприятия, которые работали на удовлетворение нужд фронта [9; 58]. Кроме того, в целях успешного выполнения заданий для фронта правительство республики предложило наркоматам и ведомствам ввести с 12 июля 1941 года удлиненный рабочий день продолжительностью 11 часов.
Чрезвычайные военные условия заставили руководство республики принять решение о сокращении управленческого аппарата. По постановлению СНК КФССР «О сокращении управленческого аппарата центральных учреждений Карело-Финской ССР» от 22 августа 1941 года аппарат наркоматов был сокращен на 361 человека [9; 92]. Значительно повышались требования к кадрам. Одними из главных методов работы с кадрами становились административные: снятие с работы, выговоры и отдача под суд. Все эти решения позволяли начать перестройку экономики Карелии на военный лад с учетом складывающейся обстановки на фронте.
С первых дней Великой Отечественной войны Карелия становится прифронтовой республикой, первоочередная задача которой – создание оборонительных сооружений, способных помочь частям Красной армии в отражении агрессии на Северо-Западе страны. Большую помощь фронту оказало население Карелии летом и осенью 1941 года на строительстве оборонительных сооружений, военных аэродромов и других объектов. Люди почти круглосуточно работали в лесах, жили в палатках и землянках, испытывали острый недостаток в одежде, обуви и пище. В сентябре – октябре 1941 года на оборонительном строительстве трудилось свыше 20 тыс. жителей Карелии [3; 55]. Возведение оборонительных рубежей развернулось вдоль всей линии фронта и включало 7 полевых строительств. Рабочие объединялись в отделения, взводы, батальоны. Каждое полевое строительство и каждый батальон имели штаб. Во главе подразделений стояли командиры и политработники.
Большую политическую работу среди строителей оборонительных рубежей проводили партийные организации республики. ЦК КП(б) КФССР создал политотдел Оборонстроя, начальником которого был назначен секретарь Кондопожского райкома партии А. Я. Ястребов. 80 партийных работников, в том числе 11 секретарей райкомов партии, были утверждены заместителями начальников строительных участков по политической части.
В своих воспоминаниях первый секретарь ЦК КП(б) республики Г. Н. Куприянов называет особо отличившихся на оборонном строительстве: работницу артели «Кустпромшвей» Анну Григорьевну Ерофееву, домашнюю хозяйку Марию Федоровну Артюшину, помощника машиниста депо станции Петрозаводск Егора Алексеевича Платонова, работницу треста кафе-столовых Марию Петровну Родину, рабочих Онежского завода Алексея Николаевича Кузнецова и Григория Васильевича Захарова, работницу музея Наталью Михайловну Сарафанову и многих других. Все они перевыполняли нормы на земляных работах в 1,5–2 раза [23; 52]. При этом необходимо сказать, что бóльшая часть гражданского населения, занятого на строительстве оборонительных сооружений, была мобилизована в порядке трудовой повинности и невыполнение норм выработки грозило им принятием административных мер.
Надо отметить и довольно высокий процент заключенных среди работавших на строительстве оборонительных сооружений для Карельского фронта. Так, в ноябре 1941 года в составе 6-го управления Оборонстроя насчитывалось 10 450 человек, из которых заключенные составляли больше половины – 6 438 человек [29; 35].
Итогом самоотверженного труда жителей республики стало то, что в кратчайшие сроки были построены тысячи блиндажей и дзотов, вырыты сотни окопов и противотанковых рвов на огромном протяжении фронта от Баренцева моря до Ладоги. Опираясь на оборонительные рубежи, советские войска смогли оказать более упорное сопротивление противнику, сдержать его продвижение вглубь страны. Трудящиеся республики также оказали большую помощь войскам Карельского фронта в строительстве аэродромов и шоссейных дорог. В короткие сроки были сооружены несколько аэродромов, причем некоторые из них – на топких, болотистых местах. На строительстве аэродромов летом 1941 года трудились свыше 2 тыс. жителей Карелии, в основном это были женщины и молодежь [19; 97].
В первые месяцы войны перед Карелией стояла и другая ответственная задача – в короткий срок закончить строительство железнодорожной линии Сорокская – Обозерская протяженностью 357 км, которая проходила по малообжитому западному побережью Белого моря и соединяла Кировскую и Северную железные дороги. В декабре 1941 года немецкие и финские войска захватили участок Кировской железной дороги от станции Масельгская до станции Ло-дейное Поле. С этого момента и до конца войны на Севере железнодорожная ветка Сорокская – Обозерская была единственным звеном, связывавшим г. Мурманск и северный участок Кировской железной дороги с остальной железнодорожной сетью страны.
Строительство этой железнодорожной линии начали еще в период Зимней войны. 30 декабря 1939 года нарком НКВД СССР Л. П. Берия подписал приказ № 001546 «О строительстве ж. д. линии Сорокская – Обозерская», по которому на строительство направлялось 50 тыс. заключенных вместе с рабочим инструментом, инвентарем и предметами лагерного обихода [1; 288– 289]. К развернутому строительству этой линии приступили только в феврале 1940 года, поэтому к началу Великой Отечественной войны сквозное движение не было открыто. Лишь на отдельных участках ходили рабочие поезда и балластные вертушки со скоростью 5–10 км в час. Рабочих рук и механизмов явно не хватало. Ввиду того что в военный период дорога приобрела стратегическое значение и промедление ее достройки грозило тяжелыми последствиями, ЦК КП(б) КФССР и СНК республики приняли срочные меры по оказанию помощи строителям. На этот участок были направлены несколько тысяч рабочих, необходимые материалы, тракторы, автомашины и другая техника. На сооружении дороги трудились лучшие кадры железнодорожников-строителей, использовались заключенные Беломорско-Балтийского комбината (ББК), привлекалось и население республики. В сентябре 1941 года железнодорожная линия Сорокская – Обозерская вступила в строй. В течение всей войны она обеспечивала снабжение Карельского фронта и Северного флота военным снаряжением и подкреплениями из центральных областей страны. Через Мурманский порт, северный участок Кировской железной дороги, а затем Со-рокскую – Обозерскую линию в центральные районы СССР шли военные грузы союзников по антигитлеровской коалиции.
С началом Великой Отечественной войны были предприняты попытки организовать собственное производство отдельных видов оружия и боеприпасов для нужд фронта. В ноябре 1941 года было учреждено специальное совещание для рассмотрения данных вопросов в составе председателя Президиума Верховного Совета республики О. В. Куусинена, председателя СНК КФССР П. С. Прокконена, секретаря ЦК КП(б) КФССР П. С. Солякова. Постановлением ЦК КП(б) и СНК КФССР в декабре 1941 года создается Управление военной промышленности республики во главе с заместителем председателя СНК М. Ф. Ивановым. Однако в условиях прифронтовой полосы в неприспособленных мастерских развернуть производство вооружения в достаточном количестве и должного качества не удалось. В начале 1942 года предприятия военной промышленности прекратили выпуск вооружения [18; 599], [7; 127].
На производство продукции для фронта переходили многие предприятия республики. Одним из первых перестроил свою работу Онежский машиностроительный и металлургический завод. Наряду с увеличением выпуска снарядов – основного вида своей оборонной продукции – завод стал выполнять и более сложные военные заказы: в короткие сроки коллектив предприятия освоил выплавку высококачественной стали, идущей на нужды авиационной промышленности. В мастерских Сегежского ЦБК и Кировской железной дороги, на Повенецком судоремонтном заводе начался выпуск пистолетов-автоматов, минометов, мин, гранат.
Производство нескольких десятков видов оборонной продукции освоили лесозаводы. Промкомбинаты и артели промкооперации выпускали саперный инструмент, армейские котелки и т. п., ремонтировали оборудование и чинили обувь для бойцов фронта. Работники Кировской железной дороги начали оборудовать бронепоезда и бронеплощадки.
Помимо изготовления вооружения и ремонта боевой техники, гражданские предприятия республики поставляли Карельскому фронту целый ряд другой продукции, и прежде всего лыжи, которые в условиях Севера играли большую роль в выполнении боевых задач. Вновь начала выпускать армейские лыжи Петрозаводская лыжная фабрика, уже имевшая опыт выполнения военных заказов в период Советско-финляндской войны 1939–1940 годов. В октябре – ноябре 1941 года Кемский и Шальский лесозаводы, быстро освоив новое производство, дали фронту 50 тыс. пар лыж, еще 10 тыс. пар лыж были изготовлены в это же время на предприятиях Медвежьегорского и Беломорского районов Карелии.
Экономика прифронтовой республики своевременно реагировала на все потребности и запросы Красной армии. Когда в начале зимы 1941–1942 годов на Карельском фронте возникла острая нужда в маскхалатах, на их изготовление были мобилизованы все пошивочные мастерские Карелии. В дело пошли наличные хлопчатобумажные ткани, а также простыни, которые добровольно собирало население. В течение зимы 1941–1942 годов первоочередные задачи снабжения войск фронта маскхалатами были в основном разрешены.
С начала войны стала осуществляться перестройка сельского хозяйства республики. Несмотря на все трудности и проблемы этой отрасли экономики, бойцы действующей армии получали необходимые продукты питания, которые могли дать в тот период труженики села Карелии.
Перестройка народного хозяйства Карелии на военный лад шла полным ходом, однако за- вершить ее полностью не удалось. Отступление Красной армии летом и осенью 1941 года потребовало провести эвакуацию населения республики и перебазировать на восток промышленные предприятия, имущество колхозов и совхозов тех районов, которые оказались под угрозой оккупации противником.
Конкретные задачи по проведению в СССР эвакуации населения, оборудования промышленных предприятий, имущества колхозов и совхозов были определены в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 года «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества» и в директиве ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 года «Партийным и советским организациям прифронтовых областей». Основные положения директивы были изложены в выступлении по радио председателя ГКО и СНК СССР, секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина [22; 37–40], [30; 9–17].
В Карелии непосредственное руководство эвакуацией было возложено на Республиканскую комиссию по эвакуации, созданную по решению ЦК КП(б) КФССР и приступившую к работе в начале июля 1941 года в составе секретаря ЦК Компартии республики П. В. Солякова, заместителя председателя СНК М. Ф. Иванова и секретаря Президиума Верховного Совета КФССР Т. Ф. Вакулькина. Комиссия принимала решения об эвакуации, определяла ее сроки для населения и промышленных предприятий, утверждала планы и графики эвакуации, распределяла транспорт и т. д. [18; 602], [5]. На местах эвакуацией занимались районные и городские комитеты партии и исполкомы местных Советов. Для лучшей организации эвакуации Республиканская комиссия рассматривала и утверждала планы по каждому крупному и среднему предприятию в отдельности, затем план в целом по району или городу и, наконец, по группе прифронтовых районов.
С самого начала войны объективно возникла потребность повышения роли местных советских и хозяйственных органов в управлении и планировании работы промышленных предприятий. И хотя существовавшая административно-командная система требовала безусловного подчинения приказам и указаниям центра, обстоятельства заставляли проявлять больше инициативы, брать на себя ответственность, самостоятельно принимать решения, иногда вступавшие в противоречие с указаниями центральных хозяйственных органов . Уже в первые месяцы войны, в ходе работы по эвакуации оборудования и имущества промышленных предприятий, колхозов и совхозов Карелии в тыловые районы страны, Республиканской комиссии по эвакуации пришлось вставать на путь прямых нарушений некоторых приказов и распоряжений общесоюзных наркоматов. Так, в начале войны НКВД СССР отдал приказ по ГУЛАГу эвакуировать вглубь страны все лесные предприятия ББК, а затем и весь комбинат. Однако Республи- канская комиссия по эвакуации 19 июля 1941 года приняла решение запретить Управлению ББК демонтировать и вывозить телефонные линии, так как они были нужны в то время и фронту, и республике.
В июле 1941 года комиссия запретила также демонтаж и эвакуацию оборудования электростанций из Медвежьегорска и Кеми, вывоз оборудования типографии, деревоотделочного комбината и механических мастерских из Медвежьегорска [12; 57–58], считая, что эти предприятия должны продолжать работу.
Наркомлес СССР в начале августа 1941 года издал приказ об эвакуации всех деревообрабатывающих предприятий республики, за исключением Шальского лесопильного завода (Пудожский район), из прифронтовой полосы. Учитывая, что эти предприятия должны были давать значительную продукцию для фронта в зимних условиях (лыжи, теплушки, бани и др.), правительство республики и Республиканская комиссия по эвакуации задержали эвакуацию оборудования Кемского и Беломорского лесопильного заводов, их транспортного парка и рабочих [12; 58–59]. Как показали дальнейшие события, это было правильное решение, хотя оно и нелегко далось руководителям Карелии. После стабилизации Карельского фронта в конце декабря 1941 года все эти предприятия активно работали в условиях прифронтовой полосы в течение всего периода войны.
Эвакуация населения из приграничных районов Карелии началась уже с первых дней войны. По решению Республиканской комиссии эвакуации подлежали, прежде всего, детские учреждения и дети до 16 лет вместе с родителями. Трудоспособное население оставалось на уборке урожая и оборонных работах. Однако позже, в связи с продвижением противника вглубь советской территории, началась эвакуация и взрослого населения, проходившая в очень сложных условиях. Вражеские самолеты обстреливали поезда на железных дорогах, бомбили пароходы и баржи на Онежском, Ладожском и других озерах, шоссейные дороги, по которым в тыл эвакуировалось мирное гражданское население. В результате бомбежек погибло много женщин и детей [18; 602].
С 1 июля 1941 года, на основании указания НКВД СССР, началась эвакуация заключенных, работавших в системе ББК. В числе первых подлежали эвакуации «наиболее опасные элементы»: осужденные за контрреволюционную деятельность, иностранные подданные, а также лица «определенных национальностей» (немцы, финны, венгры, румыны и др., то есть представители национальностей тех стран, которые выступили против СССР на стороне фашистской Германии). Водным и железнодорожным транспортом в Архангельскую, Вологодскую, Кировскую, Ярославскую и другие области было вывезено 24 880 заключенных [11; 58].
Там, где противник успел перерезать дороги, население уходило в советский тыл самостоятельно – окружными путями, по лесным дорогам и тропам. Так, организованно ушло в тыл немало колхозников Сегозерского, Ведлозерско-го, Кестеньгского и некоторых других районов республики. Многие жители Калевальского, Ре-больского и ряда других приграничных районов, где отсутствовали железнодорожные и водные пути, уходили в тыл пешком, оставляя свои дома и бросая имущество [28; 50].
В соответствии с положением об эвакуации рабочих и их семей, следующих вместе с предприятием, каждый рабочий имел право взять 160 кг груза на себя и по 40 кг на каждого члена семьи. На время эвакуации сохранялась средняя заработная плата за три месяца [31; 99]. На новых местах большинство эвакуированных предприятий при помощи местных органов власти восстанавливались и начинали выпуск оборонной продукции.
Так, первые эшелоны с оборудованием Онежского завода прибыли в Красноярск в августе 1941 года. Люди неделями не покидали строительную площадку, сутками не спали: рыли котлованы под фундаменты, воздвигали корпуса, строили котельную, проводили железнодорожную ветку. Уже в октябре 1941 года онежцы отправили на фронт первую партию снарядов, а в декабре 1941 года объем продукции завода в 1,5 раза превысил максимальный уровень производства мирного времени.
Значительную роль в эвакуации промышленного оборудования предприятий и населения сыграли железнодорожники Кировской железной дороги и водники Карелии. В течение июля – ноября 1941 года железнодорожники вывезли свыше 8 тыс. вагонов с промышленным оборудованием. Одновременно с этим они переправили на другие дороги страны более сотни вагонов и 127 паровозов. Остальные паровозы в течение всей войны эксплуатировались на северном, не захваченном противником, участке Кировской магистрали. Водники республики в летний период 1941 года перевезли в тыловые районы страны более 200 тыс. т ценных грузов и около 250 тыс. жителей.
Однако полностью транспортные проблемы при проведении эвакуации не были решены. На это неоднократно указывалось в решениях, отчетах и докладных записках Республиканской комиссии по эвакуации. Так, в ноябре 1941 года в отчете комиссии в Президиум Верховного Совета КФССР отмечалось, что главные трудности при эвакуации состояли в недостатке, а иногда и отсутствии необходимого количества железнодорожных вагонов и судов флота, средств автотранспорта. Все автохозяйства работали на нужды фронта, флот был отмобилизован в военные флотилии, а железнодорожный транспорт с перегрузкой работал для армии [12; 57–58].
Особую трудность представляла эвакуация в тыловые районы страны скота и сельхозмашин колхозов, совхозов и МТС. Животных приходилось гнать сотни километров, обеспечивая их в пути кормами и оказывая ветеринарную помощь. Тем не менее работники сельского хозяйства республики смогли переправить около 150 тыс. голов скота в Архангельскую, Вологодскую области и Коми АССР.
Эвакуация в Карелии в целом прошла успешно и в сжатые сроки. Всего, по неполным данным, из республики эвакуировалось свыше 530 тыс. человек. Трудящиеся Карелии выехали в Вологодскую, Архангельскую, Свердловскую, Горьковскую, Новосибирскую, Челябинскую и другие области, Коми, Башкирскую, Чувашскую, Удмуртскую, Татарскую республики. На новых местах они включились в трудовую деятельность по оказанию помощи фронту.
Вместе с тем не удалось выполнить план по эвакуации населения Карелии в полном объеме. Так, в Заонежском районе остались тысячи людей, которые не смогли из-за налетов авиации противника и ранних морозов декабря 1941 года, сковавших льдом западное побережье Онежского озера, вовремя эвакуироваться на восточный берег озера. Кроме того, бездеятельность проявили республиканские и местные органы власти, которые в течение лета и осени 1941 года не эвакуировали жителей Заонежского полуострова с западного берега Онежского озера на восточный. В дальнейшем население Заонежья испытало на себе все тяготы и лишения финской оккупации.
В советской и российской историографии Карелии периода Великой Отечественной войны до последнего времени отсутствовали точные данные о численности населения, которое осталось на территории оккупированного финнами За-онежского полуострова. Дело заключалось в том, что ученые не смогли обнаружить эти данные в архивах РК. И только знакомство с материалами финляндских архивов позволило закрыть еще одно белое пятно в истории Карелии военного периода. По данным одной из первых переписей населения Карелии, проведенной финскими оккупационными властями в марте 1942 года, на территории Заонежского полуострова проживало 18 295 человек [15].
Результаты работы по эвакуации были подведены 9 декабря 1941 года на заседании Президиума Верховного Совета КФССР, где отмечалось, что наряду с успехами в процессе эвакуации были и серьезные недостатки, вызванные не только объективными трудностями, но и субъективными причинами [10; 18].
Во время эвакуации удалось своевременно вывезти оборудование и имущество 291 промышленного предприятия Карелии, в том числе Онежского завода, Петрозаводской лыжной и слюдяной фабрик, Кондопожского и Сегежского ЦБК, Кондопожской ТЭЦ, Сунского, Соломенского, Ильинского, часть оборудования Кемского и Беломорского лесозаводов, целлюлозно-бумажных предприятий
Карельского перешейка и предприятий г. Выборга, эвакуировать рабочих и их семьи.
Как правило, предприятия до самого последнего момента продолжали работать и эвакуировались лишь в том случае, когда иного выхода не было и оборудование могло попасть в руки противника. Характерен в этой связи пример с Онежским заводом. Главный энергетик предприятия А. Н. Брызгалов в своих воспоминаниях писал: «Эвакуация основной части кадров и оборудования не приостановила напряженной работы на заводе. Оставшиеся станки были сосредоточены в механическом цехе и использованы для обработки авиационных деталей. Металлурги и прокатчики делали обшивку для бронепоездов, которые оснащали рабочие паровозных и вагонных депо Кировской железной дороги. Завод до последних дней продолжал отгружать металл авиационным и танковым предприятиям нашей страны. Таким образом, после эвакуации остался работать технологически комплексно оснащенный “малый” завод с группой металлорежущих и заготовительных цехов со всеми вспомогательными службами» [17; 60].
Основные промышленные предприятия Карелии вывозились в тыл страны комплексно. Вместе с ними к концу 1941 года было эвакуировано 23 300 квалифицированных рабочих, инженеров и техников. Все это давало возможность быстро восстановить и развернуть производство на новых местах базирования.
В соответствии с планом эвакуации оставшееся оборудование выводилось из строя. К примеру, при эвакуации Онежского завода с оборудования были сняты все приборы и арматура, после чего они были закопаны в разных местах на территории завода и в случае необходимости могли в дальнейшем использоваться по назначению. Печи, здания и другие сооружения подлежали повреждению подрывниками по специально разработанному плану.
Оборудование 36 предприятий Карелии, которые до последнего момента работали по обслуживанию фронта, пришлось уничтожить. В городах и селах республики оставались специальные группы для проведения работ по уничтожению недвижимого имущества, что делалось в самый последний момент по указанию командования [12; 63–64]. Таким путем в прифронтовых районах республики были уничтожены 7 электростанций, газовый завод в Выборге, мыловареный, маргариновый заводы и хлебокомбинат в Петрозаводске, хлебокомбинаты в Сортавале, Олонце и другие предприятия.
Однако полностью уничтожить на месте все оборудование и имущество предприятий и организаций республики, которое не успели эвакуировать, не удалось. Главный энергетик Онежского завода А. Н. Брызгалов по этому поводу замечает: «В Петрозаводске “малому заводу” (то оборудование, которое осталось работать после эвакуации. – С. В.) пришлось работать недолго, потому что город окружали вражеские войска. Железная дорога между Петрозаводском и Ленинградом была перерезана. Пришло распоряжение – завод закрыть, принять меры к эвакуации оставшегося персонала. Много ценного оборудования – прокатный стан, самоходные электрифицированные металлургические ковши, молоты, паровые котлы, прессы, грузоподъемные устройства, множество станков механических цехов – онежцы вынуждены были оставить на месте, так как другого выхода уже не было» [17; 60].
Часть оборудования предприятий и организаций республики, главным образом то, которое транспортировалось пароходами БОПа и Обо-ронстроя, попала в руки финнов. Так, около Ме-гоострова (северная часть Онежского озера) финские войска захватили 19 судов: пароходы «Восток», «Металлист», «Свияжск», им. Розы Люксембург, моторный катер «Дзержинец» и речной трамвай № 2, принадлежавшие БОПу, а также пароходы «Шолопасть», «Волгарь», «Астраханка», «Рыбница» и моторный катер «Водник», принадлежавшие Оборонстрою [8; 19].
Многие недостатки в процессе эвакуации были вызваны тем, что в сложной обстановке начального периода войны руководители ряда наркоматов, городов и районов растерялись, а некоторые поддались панике. Руководство Калевальского (Ухтинского), Сегозерского, Ведлозер-ского, Прионежского и Заонежского районов не смогло четко и вовремя организовать эвакуацию людей, вывоз скота, зерна и различных товаров. Руководителей Калевальского района, после того как финны в начальный период военных действий на Севере Карелии заняли три населенных пункта, охватила паника, и они начали отъезд раньше, чем последовал приказ, не организовав работу по вывозу в тыл населения и отводу скота. Эта паника перекинулась затем и на жителей района [12; 64].
Неорганизованно прошла эвакуация в июле 1941 года из г. Сортавалы. В специальном сообщении НКВД КФССР в ЦК Компартии республики «О недостатках в проведении эвакуации г. Сортавала» отмечалось, что «в результате созданной, не вызывавшейся сложившейся обстановкой, поспешности в городе возникла паника, приведшая к причинению государству крупного материального ущерба. Руководящие работники городских учреждений в служебных столах и шкафах побросали много служебных документов. Председатель горсовета тов. Лезин забыл в столе штамп и печать горсовета, а работники горсовета и ГК КП(б) бросили пишущие машинки. После выезда из города руководителей и аппаратов торгующих организаций Военторга, Карелторга, Леспромторга, Карелпотребсоюза и других хозяйственных организаций оказались брошенными сотни тонн муки, десятки тонн крупы, кондитерские изделия, в большом количестве жиры, сахар, консервы, табак, папиросы, промтовары, вино, водка и т. д.» [29; 17].
Ряд наркоматов плохо заботились о сохранности подлежащего эвакуации имущества и его своевременном вывозе. 200 саней, изготовленных предприятиями Наркомместпрома в Заонежском и Шелтозерском районах, остались невывезен-ными и достались финнам. Отдельные наркоматы (стройматериалов, местной промышленности и др.) в середине декабря 1941 года не знали, где и в каком состоянии находится эвакуированное с их предприятий оборудование [8; 65].
Руководство республики отмечало недостатки и в работе центральных хозяйственных органов. Так, почти полную безучастность к делу эвакуации своих предприятий проявил Наркомат бумажной промышленности СССР. Эвакуация ЦБК из прифронтовых районов Карелии проходила без его работников, только по инициативе республиканских и местных органов управления. Представители этого наркомата и его главков ни разу не появились в республике [8; 59].
Однако, несмотря на все трудности и проблемы в проведении эвакуации в Карелии, учитывая постоянно меняющуюся обстановку на северо-западном участке фронта летом и осенью 1941 года и быстрое продвижение финских войск вглубь советской территории, ее итоги можно считать вполне удовлетворительными. К концу 1941 года из 328 эвакуированных предприятий (без ББК и Кировской железной дороги) 139 уже работали в тыловых районах страны. Остальные находились в стадии монтажа.
Оставшееся на оккупированной финскими войсками территории Карелии оборудование промышленных предприятий было незначительным. Несмотря на все попытки, финским властям так и не удалось организовать промышленное производство в сколько-нибудь значительных масштабах.
К концу 1941 года экономика Карелии, как и всей страны, была перестроена на военный лад. Этот процесс имел следующие особенности.
Во-первых, перестройка осуществлялась в условиях отступления советских войск во второй половине 1941 года от государственной границы вглубь территории страны. В результате многим предприятиям Карелии процесс перестройки завершить не удалось, и они эвакуировались в восточные районы СССР. Часть предприятий пришлось уничтожить.
Во-вторых, в первые месяцы войны немецким (на севере республики) и финским войскам удалось оккупировать две трети территории Советской Карелии, в экономическом отношении более развитой по сравнению с районами, оставшимися вне зоны оккупации. В незанятых противником районах республики до войны производилось менее одной пятой промышленной продукции, в 1942 году здесь проживало примерно 75 тыс. человек, или 11 % населения Карелии довоенного периода.
В связи с временной оккупацией финскими войсками столицы КФССР г. Петрозаводска (финские войска вошли в город 1 октября 1941 года) государственные и партийные органы республики переехали сначала в г. Медвежьегорск, а затем в г. Беломорск, ни на один день не прекращая своей деятельности, направленной на руководство экономикой Карелии, на мобилизацию всех ее ресурсов для оказания всемерной помощи фронту.
В-третьих, промышленные предприятия, учреждения и организации, колхозы и совхозы Карелии, оставшиеся на неоккупированной территории, длительное время (с декабря 1941 года до середины 1944 года) находились в непосредственной близости к фронту. Им часто приходилось работать в условиях вражеских бомбежек, под угрозой нападений диверсионных отрядов противника. Все это создавало дополнительные сложности для проведения необходимых работ во всех отраслях экономики и представляло опасность для жизни советских тружеников.
Таким образом, с первых дней Великой Отечественной войны население Карело-Финской ССР, оказавшееся в сложных прифронтовых условиях, в той или иной форме активно участвовало в защите своего края, демонстрируя стойкость, мужество и патриотизм. В конечном итоге это стало важным фактором, обеспечившим перелом в войне Советского Союза против войск Германии и Финляндии на северо-западном участке фронта.
Работа подготовлена при поддержке гранта РГНФ 2010 г. по проекту «Народ, разделенный границей» № 10-01-0631 a/ф Совместного конкурса научных проектов 2010–2012 гг. по совместной научно-исследовательской программе «История России и Финляндии (1809–2009 гг.).
Список литературы Политическая и социально-экономическая жизнь Карелии в начальный период Великой Отечественной войны
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 37.
- Карельский государственный архив новейшей истории (далее -КГАНИ). Ф. 5425. Оп. 1. Д. 185.
- КГАНИ. Ф. 8. Оп. 2. Д. 19.
- КГАНИ. Ф. 8. Оп. 4. Д. 17.
- КГАНИ. Ф. 8. Оп. 11. Д. 648.
- КГАНИ. Ф. 8. Оп. 11. Д. 748.
- Национальный архив Республики Карелия (далее -НА РК). Ф. 1394. Оп. 3. Д. 306.
- НА РК. Ф. 1394. Оп. 7. Д. 13.
- НА РК. Ф. 1394. Оп. 7. Д. 46.
- НА РК. Ф. 1394. Оп. 7. Д. 51.
- НА РК. Ф. 1394. Оп. 7. Д. 69.
- НА РК. Ф. 1394. Оп. 7. Д. 71.
- НА РК. Ф. 1394. Оп. 7. Д. 73.
- НА РК. Ф. 3435. Оп. 3. Д. 3.
- Vaestotoimisto/ItakarSE, Т 2970/12, SA.
- Андропов Ю. В. Избранные речи и статьи. 2-е изд. М.: Политиздат, 1983. 320 с.
- Брызгалов А. Н. Онежский завод. Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1957. 255 с.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 944 с.
- История экономики Карелии: В 3 кн. Кн. 2: Экономика Карелии советского периода (1917-1991 гг.)./Л. И. Вавулинская, С. Г. Веригин, О. П. Илюха, С. Н. Филимончик. Петрозаводск: ПетроПресс, 2005. 246 с.
- Карелия в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945: Док. и материалы. Петрозаводск: Карелия, 1975. 447 с.
- Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М.: Наука, 1984. 369 с.
- Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М.: Политиздат, 1970. 494 с.
- Куприянов Г. Н. Во имя великой Победы: Воспоминания. Петрозаводск: Карелия, 1985. 270 с.
- Ленинское знамя. 1941. 22 и 23 июня.
- Макуров В. Г. Народное ополчение и всеобщее военное обучение населения Карелии в годы Великой Отечественной войны//Подвигу жить в веках: Материалы военно-ист. конф., посвящ. 60-летию освобождения Карелии от фашистских захватчиков. Петрозаводск: Verso, 2004. С. 39-42.
- Макуров В. Г. Формирование народного ополчения Карелии в годы Великой Отечественной войны//Война и память народа: Материалы науч. конф. преподавателей и студентов КГПУ, посвящ. 60-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации (21-23 апреля 2004 г.). Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 2004. С. 6-7.
- Морозов К. А. Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Петрозаводск: Карелия, 1983. 239 с.
- Неизвестная Карелия: Док. спецорганов о жизни республики, 1941-1956 гг. /Сост. С. С. Авдеев, А. В. Климова, В. Г. Макуров; науч. ред. В. Г. Макуров. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1999. 306 с.
- Сталин И. В. О Великой Отечественной войне. М.: Госполитиздат, 1950. 208 с.
- Улитин С. Д. Европейский Север России в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 288 с.
- Харитонов С. Ф., Звягин Ю. К. Мурманская. Кировская. Октябрьская. Петрозаводск: Карелия, 1996. 157 с.
- Чумаков Г. В. Истребительные батальоны Карелии в годы Великой Отечественной