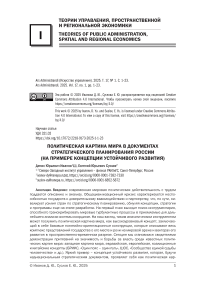Политическая картина мира в документах стратегического планирования России (на примере концепции устойчивого развития)
Автор: Денис Юрьевич Иванов, Евгений Юрьевич Суслов
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Теории управления, пространственной и региональной экономики
Статья в выпуске: 1 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: современная мировая политическая действительность с трудом поддается описанию и анализу. Общецивилизационный кризис характеризуется неспособностью государств к доверительному взаимодействию и партнерству, что, по сути, нивелирует усилия стран по стратегическому планированию, обнуляя концепции, стратегии и программы еще на этапе разработки. На первый план выходит поиск инструментария, способного транскрибировать мировые турбулентные процессы в приемлемые для дальнейшего анализа системы координат. На наш взгляд, таким аналитическим инструментом может послужить политическая картина мира, как высокоуровневый концепт, заключающий в себе базовые понятийно-ориентационные конструкции, которые описывают весь комплекс представлений государства о его месте и роли на мировой арене и векторах его развития в пространственно-временном разрезе. Сегодня мы становимся свидетелями демонстрации притязаний на значимость и борьбы за власть среди известных политических картин мира: западная картина мира, евразийская, европейская, коалиционные и китайские концепты (БРИКС, «Один пояс – один путь», ШОС, «Сообщество единой судьбы человечества» и др.). Яркий пример – концепция устойчивого развития, которая, будучи наднациональным стратегическим документом, проявляет себя как политическая картина мира. Несмотря на всеобщее принятие, она получила избирательную имплементацию в национальных стратегических нормах и остается примером научных споров об источниковом происхождении и принадлежности к западной модели мироустройства. Цель: проанализировать место, роль и функции политической картины мира в системе документов стратегического планирования в России (на примере концепции устойчивого развития). Методы: исторический анализ, сравнительные методы, контент-анализ. Результаты: структурными элементами политической картины мира являются базовые общецивилизационные и политические категории: культура, мораль и право, политический порядок, идеологии, нации, государства, история, языки и т. д. Концепция устойчивого развития обладает структурными категориями, сходными с концептом «политическая картина мира». Следует зафиксировать тенденцию политизации концепции устойчивого развития и ее противоречивый характер, который проявляется, с одной стороны, во всеобщем ее принятии мировым сообществом, а с другой – в зарождающемся дискурсе об источниковом происхождении и «опасном» соответствии ее структурных элементов компонентам, образующим национальные политические картины мира, и, как следствие, необходимости адаптации целей устойчивого развития к особенностям национальных политических картин мира. Выводы: система стратегического планирования и институты выработки стратегической политики России являются картиноформирующими институтами, а документы стратегического планирования содержат в себе структурные элементы, составляющие политическую картину мира. Концепция устойчивого развития в целом встроена в документы стратегического планирования России. Несмотря на расхождение по таким категориям, как вопросы войны и мира, безопасности, соблюдения суверенитета, развития в обществе идей справедливости, патриотизма и волонтерства, концепция устойчивого развития выглядит базовым ядром рассмотренных документов стратегического планирования и формирует существенную часть современной политической картины мира России.
Политическая картина мира, концепция устойчивого развития, концепции, стратегии, стратегическое планирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147247369
IDR: 147247369 | УДК: 321.02 | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-1-1-23
Текст научной статьи Политическая картина мира в документах стратегического планирования России (на примере концепции устойчивого развития)
Эта работа © 2025 Иванова Д. Ю., Суслова Е. Ю. распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите
This work © 2025 by Ivanov, D. Yu. and Suslov, E. Yu. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit by/4.0/
В современном турбулентном мире стратегические документы быстро теряют свою актуальность, что заставляет лиц, принимающих политические решения, оперировать более высокоуровневыми сравнительными категориями, такими как друг-враг, союзник-противник, мир-война и т. д. (Иванов, 2023, с. 21). Такие дихотомические понятия формируют комплекс представлений государства о желаемых форматах развития в виде политической картины мира (Гаман-Голутвина и Сморгунов, 2023, с. 9). Существенные сдвиги и противоречия в понимании странами друг друга говорят не столько о различиях во взглядах и подходах к распутыванию мирового клубка проблем, сколько об отсутствии общих точек, составляющих национальные картины мира (Мельвиль и др., 2023, с. 75). Стремление ведущих стран отстоять и навязать свою политическую картину мира обнуляет правовые нормы и договоренности и ставит знак равенства между картиной мира государства и политическим будущим и выживанием страны. Под данным углом зрения картины мира ведущих государств выступают как элементы политического противоборства или союзничества.
В первом приближении может показаться, что высокая энтропия мировых политических и экономических процессов носит общесистемный характер и затрагивает лишь сферу внешнеполитического планирования России. Более скрупулезный анализ обнажает существенный пласт проблемных вопросов, лежащих в сфере внутриполитических процессов.
Попытки снизить время реакции политической системы России на внешние раздражители привели к нивелированию роли стратегических документов и к экспериментированию с управленческими технологиями. Основной целью политического руководства становится поиск, разработка, выстраивание и имплементация оптимальной системы политических институтов для эффективного государственного управления. В качестве пробы пера выступило административное реформирование, призванное сделать систему государственного управления более гибкой и современной. Следом за административной реформой на повестке дня появились «национальные проекты» и «майские указы» – новые программные и сюжетные ориентиры развития страны. Проектное управление, как элемент трансфера корпоративных практик в систему государственного управления, стало последним в этой цепочке «менеджерских» методик и лишь еще больше расшило классическую вертикальную систему управления, создав параллельные неформальные политические институты. В итоге так называемое управление по результатам полностью заменило собой управление по стратегическим приоритетам. Утрачивается взаимосвязь между политической картиной мира, концепциями и стратегиями, с одной стороны, и системой государственного управления – с другой. Да и сама система политических институтов перестает отвечать стратегическим интересам и не может адаптироваться к новым вызовам.
Кризис каскадирования сказался и на Целях в области устойчивого развития, принятых Организацией Объединенных Наций в 2015 году в итоговом документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»1. Одновременного встраивания целе-
Иванов Д. Ю., Суслов Е. Ю. Политическая картина мира в документах стратегического планирования России вых показателей в государственные документы планирования не произошло. Ситуация стала выравниваться лишь с принятием Федерального закона о стратегическом планировании2, когда началась адаптация всей системы стратегического планирования к Целям устойчивого развития путем их декомпозиции до программ и прогнозов долгосрочного социально-экономического развития, Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (Стрельникова, 2017, с. 100).
Исследовательские усилия, направленные на изучение связи концепта «политическая картина мира» со стратегическими документами государства, еще не приобрели системный характер. В основном мы видим подробные описания понятия «политическая картина мира» через призму его субъективного восприятия (Гуссерль, 2000; Самаркина, 2021; Шестопал, 2021; Шюц, 2004). Анализ стратегий, концепций, программ и иных плановых документов и вовсе представляет собой некий плавильный тигель, результативные выводы которого замыкаются в границах предмета стратегического управления и политического планирования (Комаров и др., 2021).
Разрыв силовых линий мировоззренческих установок государства с институциональными источниками, которые их конструируют и транслируют, еще больше актуализирует вопросы научного осмысления политической картины мира страны. Этот концепт может послужить аналитическим инструментом для определения вектора государственного развития в стремительно меняющемся мире, где документы стратегического планирования устаревают в момент разработки. Картина мира обладает свойством редуцирования сложной политической действительности, где «редукция есть специфически идеологическая техника порождения смысла, с помощью которой “мир” получает … интерпретацию» (Матц, 1992, с. 5).
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
В научных публикациях существуют серьезные лакуны в осмыслении генезиса, обосновании и формулировании концепта «политическая картина мира».
Составление картины мира есть опредмечивание мира, а позиция индивида и его отношение к этой картине мира представляет собой мировоззрение. Поскольку «картина», согласно М. Хайдеггеру, это «конструкт опредмечивающегося представления», а позиция человека выражается мировоззрением, то картина мира находит свое развертывание в размежевании «принципиальных, крайних позиций» (Хайдеггер, 2008, с. 276). Чем сильнее выкристаллизовываются новые концепты картин мира, тем сильнее множественные отклики на них. То есть в субъективных отношениях к концептам картин мира можно разглядеть политическое различение.
Рассматривая проблемы современной цивилизации, О. Шпенглер также задается вопросом формулировки концепта «картина мира». Исследо- ватель видит мир как историю, как «понятый, наблюденный и построенный на основании его противоположности, мира как природы» (Шпенглер, 2024, с. 26). Под картиной мира он понимает совокупность исторических образов, символов, которые имеют свой целевой характер и область применения. Шпенглер констатирует, что картина мира может использоваться в качестве модели для анализа «явлений духовно-политического порядка» и «иллюстрации политического характера эпохи» (Шпенглер, 2024, с. 26). Образы и символы могут иметь, например, религиозный, социальный, культурный характер, и если свести их в определенную систему, то через ее призму возможно выстраивать причинно-следственные связи происходящего и давать оценку. В первом приближении такая формулировка концепта «картина мира» может показаться ретроспективной и делающей невозможным построение образов будущего. Тем не менее исследователь подчеркивает справедливость данной модели и для «мира становящегося», открывая возможность для «человеческого миротворчества» через анализ исторического опыта.
Э. Гуссерль рассматривал повседневный мир через субъективное восприятие базовых смыслов времени, пространства, места, вещей, интерсубъективности (Гуссерль, 2000). Как справедливо замечает И. В. Самар-кина, концепт жизненного мира Э. Гуссерля «стал предпосылкой и основой познания, осуществляемого целостным субъектом – человеком познающим, в нашем случае – познающим политический мир» (Самаркина, 2021, с. 88). Сложность такого познания кроется во множественном характере миров. Как тут не вспомнить политического философа К. Шмитта, который однозначно постулирует, что «политический мир – это не универсум, а плюривер-сум» (Шмитт, 2016, с. 330).
Социолог А. Шюц, критикуя М. Вебера за отсутствие различения между «познанием себя и познанием другого», задается вопросом о необходимости «понимания Чужого» (Шюц, 2004, с. 693). Постигать социальный и политический мир он предлагает через изучение картины мира «Другого», заключающей в себе намерения, мотивы, цели и предполагаемые действия. Представление себя на месте «Другого» и ориентация на его действия и мотивы делают возможным понимание основ этих действий и распутывание иерархических взаимоотношений. С познанием «достаточного количества мотивов и элементов» есть все «шансы заполнения недостающих звеньев» картины политического мира (Шюц, 2004, с. 110). В современной интерпретации И. В. Самар-киной «политическая картина мира является результатом интериоризации политического мира как части жизненного мира личности, группы, макросообщества», а структуру политической картины мира «составляют визуальнокогнитивные образы, организованные в многоуровневую систему» (Самар-кина, 2021, с. 90).
Главным недостатком рассмотренных выше подходов к описанию концепции картины мира является проблема фиксации картины мира в субъект-объектной системе координат, что является препятствием для понимания ее полного структурного дизайна.
На авторский взгляд, современным ответом на данную проблему выступает теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. С позиций ком- муникативной теории основными структурными компонентами картины мира выступают государство, культура, общество и личность. Рассматривая системно три мира – объективный, социальный и субъективный, Ю. Хабермас обосновывает идею о том, что в коммуникативных проявлениях отношений актор – общество – мир ключевое значение играют понятия взаимопонимания, предполагающего приемлемость, и согласия, предполагающего признание. Взаимопонимание обозначает общность ситуативных дефиниций жизненного мира, то есть эти дефиниции должны накладываться друг на друга. Если такой общности дефиниций достичь не удается, то, цитируя немецкого классика, «акторы должны попытаться при помощи средств стратегической деятельности, используемых с ориентацией на взаимопонимание, достичь совместного определения ситуации или же... выторговать такое определение» (Хабермас, 2022, с. 542).
Для настоящего исследования интерес также представляет система отсчета (компонентная модель) теория социального действия Т. Парсонса, состоящая из акторов, ситуации действия и ориентации акторов на ситуацию, где: акторы – это индивиды, коллективы (часть общества), в том числе имеющие институциональные признаки; ситуация действия – это часть внешнего мира, на которую актор ориентирован и в которой он действует; ориентация акторов на ситуацию характеризуется действиями, связывающими акторов с ситуацией (планы, намерения, принятие/неприятие). Важно подчеркнуть, что Т. Парсонс говорит о релевантности теории действия и политологии, где данные компоненты могут быть применены для исследовательских целей политической науки, поскольку широкий набор компонентов общей теории действия позволяет комбинировать их в схемы действий в соответствии с конкретными эмпирическими интересами. Применительно к политической науке, по мнению исследователя, единицами схем действий могут выступать схемы властных отношений, борьбы за власть, политических групп и институтов (Парсонс, 2002). В такой логике политическая картина мира выглядит как представленная политическими акторами и институтами ситуативная репрезентация политических процессов. Такая картина мира обладает дескриптивными и аналитическими возможностями, через ее призму возможно рассмотреть ситуацию или событие.
Вызовы времени поднимают на новый уровень вопросы осмысления понятия политической картины мира, ее структурного наполнения, методологического окружения и места в системе стратегического планирования современной России. В качестве прикладной модели предлагается концепция устойчивого развития, которая продолжительное время находится в фокусе научного-исследовательского дискурса. Можно зафиксировать широкую палитру исследований отраслевых направлений устойчивого развития, например экономического, цифрового (технологического), экологического, социального (Атаева и Орешников, 2024; Волков, 2022; Линдерс, 2020; Сопилко и др., 2022). Но политическое осмысление концепции устойчивого развития пока носит имплицитный характер (Курочкин, 2020). Очевиден источ-никовый характер данной концепции, которая имеет статус наднационального стратегического документа, но связь концепции устойчивого развития со стратегическими и политическими установками на государственном уровне изучена не до конца. Представляется, что концепция устойчивого развития может обладать признаками политической картины мира. В данном случае особый научный вызов заключается в необходимости доказать наличие общих структурно-функциональных корреляций между двумя концептами и их связь с документами стратегического планирования.
В настоящем исследовании под политической картиной мира мы понимаем выраженные в политических институтах образы и представления государства о желаемых векторах экономического, социального, технологического, экологического развития, содержащих и заключающих в себе позиционирование в пространственной и временной системе координат.
Для изучения процесса становления политических картин мира авторами был выбран метод исторического анализа. Применение коммуникативной теории Ю. Хабермаса позволило не только снять ограничения субъект-объектного подхода, но и поэтапно, в строгой логической последовательности сформировать концепт политической картины мира и его структурно-функциональную композицию.
В рамках сравнительного метода были обнаружены общие структурные элементы концепции устойчивого развития и политических картин мира, что позволило рассмотреть концепцию устойчивого развития под новым – политическим – углом зрения. В качестве предметной области исследования была выбрана сфера стратегического планирования, заключающая в себе концепции, стратегии, программы и указы по всем вопросам развития государства, поскольку именно эта сфера является эксплицитным выражением политической картины мира страны. Контент-анализ документов стратегического планирования дал возможность судить о степени встроенности и близости концепции устойчивого развития к политической картине мира России.
Одной из главных причин применения политической картины мира в качестве аналитической модели является неочевидность экономических методов рассмотрения предмета исследования, особенно в современных реалиях общецивилизационных трансформаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Структурно-функциональная композиция концепта «политическая картина мира»
Существует мнение, что политическая картина мира является ответом на усложнение социальной и политической дифференциации общества и ее зарождение связывается многими исследователями с Новым временем (Хабермас, 2015; Хайдеггер, 2008; Шпенглер, 2024). В античное время и Средние века говорить о картине мира не приходится по причине односложности ситуативных аспектов, которые являются интуитивно понятными для всех акторов. По мнению Ю. Хабермаса, мы имеем случай, когда общество буквально растворяется в жизненном мире «в силу своих семейственных социальных структур и мифических структур сознания» (Хабермас, 2022, с. 580).
Ви́дение мира в таких обществах находит свое согласование в опосредованных языком взаимодействиях между участниками, например родственниками и неродственниками или «своими» и «чужими», тем самым образуя устойчивые опорные структуры. Исследователь при этом акцентирует, что это не исключает соперничества, споров, латентной враждебности, но исключает открыто стратегическую деятельность, поскольку общественные отношения выстроены на примитиве предписаний и запретов.
Исторический анализ общественного и государственного развития показывает, что именно усложнение политической организации государства и дифференциация общества приводят к зарождению политических картин мира. Если следовать данной логике с позиций теории систем, усложнение социальной организации должно приводить к примитивизации жизненного мира, дроблению его на множество картин мира, то есть, цитируя Ю. Хабермаса, «чем сложнее становятся системы обществ, тем провинциальнее становятся жизненные миры» (Хабермас, 2022, с. 596). Но ученый выдвигает обратный тезис: увеличение сложности «зависит от структурного дифференцирования жизненного мира, и эти структурные перемены, как бы ни объясняли их динамику, подчиняются, в свою очередь, своенравию коммуникативной рационализации» (Хабермас, 2022, с. 596). Такой провокационный тезис говорит о прямом влиянии декомпозированного до множества картин жизненного мира на сложность политической организации общества и государства.
В поиске основополагающих компонентов политической картины мира в первом приближении будет логичным опереться на структурнофункциональную методологию. В трудах Э. Дюркгейма центральное место занимает общество как элемент социальной интеграции, ограниченный нормами и ценностями, который и формирует жизненный мир (Дюркгейм, 2019). Т. Парсонс в теории действия ставит на центральное место понятия социальной системы и личности внутри социального мира и одновременно вводит такой вспомогательный элемент, как культура. По мнению Т. Парсонса, культура не связана с действием, «лежит в другой плоскости» и существует «в качестве совокупности артефактов и в качестве систем символов» (Парсонс, 2002, с. 205).
Отношения акторов к тому или иному миру или мирам характеризуются через понятие деятельности. Ю. Хабермас с опорой на теорию «трех миров» К. Поппера и др. определяет четыре вида действия: телеологическое (стратегическое), нормативное, драматургическое и коммуникативное. Стратегическая деятельность состоит по меньшей мере из двух целенаправленно действующих субъектов, осуществляющих свои цели путем ориентации на решения других акторов и воздействия на эти решения.
Примечательно, что Ю. Хабермас не рассматривает структуру картин мира, он в своих трудах фиксирует лишь композицию жизненного мира, делая поправку на то, что картины мира (формальные миры и концепты миров) развиваются по тем же законам. Жизненный мир он видит как совокупность философского и сциентистского понимания действительности, а под картинами мира понимает различные отраслевые представления о мире, например политические (Хабермас, 2022, с. 8). Взяв коммуникативную теорию Ю. Хабермаса, можно поэтапно и в строгой логической последовательности сформировать концепт политической картины мира и его структурнофункциональную композицию.
В качестве точки отсчета раскроем субъект-объектный характер политической картины мира, фактически подразумевая под объективным политическим миром мир политических фактов и событий, а под субъективным миром совокупность внутренних переживаний индивидуума о политических фактах и событиях. Под социальным миром видится многообразие легитимных интерперсональных взаимоотношений. Тут вскрывается недостижимость в совместимости политических картин мира, поскольку политические намерения и мотивы отделены от политических действий и их последствий, а субъективные чувства и переживания – от их нормативно установленных, стереотипизированных проявлений. Взаимопонимание находит себя в коммуникациях в пределах ситуативного горизонта политического мира. Политический мир, очерченный таким горизонтом, состоит из формального каркаса, который наполнен устоявшимися формальными мирами и концептами миров, только лишь претендующими на значимость. Формальный мир представляет собой совокупность устойчивых, легитимно регулируемых норм, институтов, представлений о событийных и ситуативных политических горизонтах и векторах развития. Концепты миров вбирают в себя проблемные и ситуативные контексты, миры, претендующие на значимость; данные концепты содержат прагматически мотивированное толкование политических ситуаций и событий, на основании которых акторы и институты могут разработать свои стратегии и планы действий, требующие приведения к согласованности с формальным миром. Чем сильнее выкристаллизовываются новые концепты картин мира, тем сильнее множественные отклики на них. То есть в субъективных отношениях к концептам картин мира также можно разглядеть политическое различение.
Проведенный анализ позволяет нам упорядочить и визуально зафиксировать структурно-функциональную композицию политической картины мира (табл. 1).
Таблица 1 / Table 1
Структурно-функциональная композиция политических картин мира / Structural and functional composition of political pictures of the world
|
Жизненный мир |
|
|
Жизненный мир окружает ситуативный горизонт: ситуации, события, темы, планы, планы действий |
|
|
Формальные политические картины мира – совокупность норм, институтов, устойчивых представлений о политических событиях, ситуативном горизонте и векторах развития |
Концепты политических картин мира – картины мира, претендующие на значимость (содержат прагматически мотивированное толкование политических ситуаций и событий, на основании которых акторы могут разработать свои стратегии и планы действий) |
|
Структурные элементы политической картины мира и их функции |
|
|
Политический порядок |
Идеологические функции |
|
Мораль и право |
Нормативные функции; функция локализации открытых конфликтов. Обеспечение взаимопонимания, политического консенсуса, безопасности и мира. В противном случае – насильственное противоборство, война |
|
Культура, традиции, ценности и символы |
Компенсаторный механизм для согласованного (мирного) существования различных политических картин мира в жизненном мире |
|
Язык |
Коммуникативная среда процессов достижения взаимопонимания, в ходе которых участники, относясь к некоему миру, выдвигают взаимные притязания, которые могут быть приняты или оспорены |
|
Общество, государство, политические акторы, институты |
Функции артикуляции и агрегации политических картин мира |
|
Коммуникации |
Средства коммуникативного обмена |
|
Стратегии, намерения, мотивы, цели |
Функции стратегического планирования |
|
История, природа, территория |
Функции базовых элементов |
Источник: таблицы 1–3 составлены авторами.
Проанализировать структурно-функциональный дизайн концепта «политическая картина мира» предполагается на примере концепции устойчивого развития. Для этого целесообразно провести сравнительный структурный анализ двух концептов на предмет сходимости.
Концепт устойчивого развития как политическая картина мира
Изначально концепция устойчивого развития предметно анализировалась с позиций экономических наук. Вопросы реальности исполнения, встраивания в документы стратегического планирования, декомпозиции до конкретных целевых показателей являлись главными в научном дискурсе. С нарастанием сложности общемировых процессов и в ситуации системного кризиса данный концепт все чаще попадает в фокус политических исследований. В обстановке противостояния и борьбы за власть различных политических картин мира содержательный анализ целей устойчивого развития3 показывает, что концепция устойчивого развития выводит на поверхность новые вопросы: источник происхождения концепции («западные» политические институты?), отнесение ее к конкретной модели развития («западная» модель развития?), деление стран по политическим режимам (демократиче- ский и иные). То есть в данной концепции заметны признаки политического различения (Курчеев и Демидов, 2020; Лапкин, 2023; Сопилко и др., 2022). Под таким углом зрения концепция устойчивого развития сама приобретает черты политической картины мира и начинает претендовать на значимость или даже на власть.
В частности, А. В. Курочкин обращает внимание, что реализация демократических ценностей в условиях тотальной цифровизации и урбанизации обнаруживает «глубинное противоречие идейной и методической повестки ... носящей отчетливо технократический характер …, с потребностями горожан в устойчивом развитии городской экосистемы и расширении их участия в решении локальных и общегородских проблем» (Курочкин, 2020, с. 450). И ответ, разрешающий данное противоречие, политолог предлагает искать в концепции устойчивого развития. Устойчивое развитие видится им как некий баланс динамических равновесий, формируемый коммуникативным пространством основных политических институтов и основанный на взаимопонимании, разделении смыслов и интересов различными группами стейкхолдеров (Курочкин, 2020, с. 457). Таким образом, в устойчивом развитии можно усмотреть некую консенсусную или интегральную политическую картину мира, которая вырабатывается государственными и негосударственными институтами и посредством процедур общественного согласования и принятия становится господствующей для большинства.
На подобное противоречие указывают и другие исследователи, подмечая, что государственным институтам при осуществлении стратегического планирования свойственны «попытки пересмотреть формулировки целей и задач устойчивого развития в пользу тех или иных приоритетов» и такие усилия «являются закономерными и объясняются как многообразием подходов к пониманию глобального развития, так и различием интересов» (Линдерс, 2020, с. 128). Особое внимание политическим институтам следует уделять рассинхронизации показателей развития на местном и региональном уровнях, поскольку местные власти в угоду интересам гражданских сообществ и негосударственных институтов вынуждены идти на корректировки целей развития (Yaw Ahali, 2022, p. 66).
Есть выводы о расбалансировке системы стратегического управления на всех уровнях в большинстве стран Европы при достижении целей устойчивого развития из-за смещения ресурсов и фокуса внимания лиц, принимающих решения, на иные политические и социально-экономические ориентиры (Lopatkova, 2021, p. 25). Особый интерес представляет мнение о негативном влиянии глобальных наднациональных проектов на систему государственного управления, где устойчивые позиции занимают исключительно государства-суверены (Лапкин, 2023, с. 174). Можно сделать вывод, что надгосударственные структуры при навязывании глобальных проектов ослабляют национальные политические картины мира путем подмены таких элементов, как стратегии, нормы, ценности, символы, коммуникации. При таком положении вещей в случае «слабости», неустойчивости политической картины мира государства может и вовсе произойти ситуация, когда в притязаниях на значимость и власть верх одержит наднациональная картина мира.
Чтобы исключить такую потерю независимости политической картиной мира России, отечественные исследователи особую значимость в определении государства устойчивого развития придают суверенности его статуса. Как вариант, государство устойчивого развития представляет собой «политико-территориальный, суверенный функциональный механизм гражданского общества, наделенный публичной властью и способный обеспечить его устойчивое развитие в рамках системы формально определенных, общеобязательных социально ценностных норм естественного и позитивного права» (Курчеев, 2010, с. 15). На авторский взгляд, такая формулировка выглядит противоречивой, поскольку допускает подмену национальных структурных элементов политической картины мира (право, ценности, нормы) на так называемые «общеобязательные и формально определенные». Справедливо заметим, что с внесением в Конституцию России в 2020 году поправок относительно приоритета государственных норм над международными такое противоречие исключено.
Заслуживает внимания подход отдельных авторов, фиксирующих ускоренные процессы регионализации, в рамках которых происходит объединение государств и образование наднациональных институтов на фундаменте общих представлений о политическом, экономическом, социальном, экологическом и технологическом развитии. В результате такой глокализации исследователи отмечают солидарность государственных институтов в реализации целей устойчивого развития, так что можно говорить о встраивании этих целей в политическую картину мира государства (Сопилко и др., 2022).
По мнению отдельных исследователей, государство устойчивого развития должно представлять собой евразийский проект и отдельную цивилизационную модель, которая впитает в себя структурные элементы из различных картин мира: из «западной» – права и свободы; из «восточной» – политический порядок (Курчеев и Демидов, 2020, с. 753–754).
Можно заметить, что концепт устойчивого развития обладает сходными структурными элементами с концептом «политическая картина мира». Многие исследователи фиксируют политизацию концепции устойчивого развития и ее противоречивый характер, который проявляется, с одной стороны, во всеобщем ее принятии мировым сообществом, а с другой – в зарождающемся дискурсе об источниковом происхождении и «опасном» соответствии ее структурных элементов компонентам, образующим национальные политические картины мира, и, как следствие, необходимости адаптации целей устойчивого развития к особенностям национальных политических картин мира.
Концепция устойчивого развития в системе документов стратегического планирования
Для анализа встроенности концепции устойчивого развития в документы стратегического планирования необходимо провести анализ корреляции целей устойчивого развития с целями документов стратегического планирования России, которые в том числе задаются целью обеспечения устойчивого развития России (табл. 2). Их можно сгруппировать по источникам иниции- рования и разработки: Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации и др. Участники стратегического планирования являются также институтами, формирующими политическую картину мира государства.
Учитывая обширный перечень таких документов и глобальный масштаб параметров, характеризующих концепцию устойчивого развития, целесообразно ограничиться документами стратегического планирования федерального уровня, к коим относятся Концепция внешней политики Российской Федерации4, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации5, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»6.
Таблица 2 / Table 2
Сравнительный анализ целевых показателей концепции устойчивого развития и документов стратегического планирования России / Comparative analysis of target indicators of sustainable development concept and Russian strategic planning documents
|
Цели устойчивого развития |
Концепция внешней политики РФ |
Стратегия национальной безопасности РФ |
Национальные цели развития РФ |
|
Ликвидация нищеты |
– |
– |
– |
|
Ликвидация голода, продовольственная безопасность |
– |
– |
– |
|
Здоровый образ жизни |
+ |
+ |
+ |
|
Качественное образование |
– |
+ |
– |
|
Гендерное равенство |
– |
– |
– |
|
Водные ресурсы и санитария |
+ |
+ |
+ |
|
Доступ к источникам энергии |
– |
– |
– |
|
Экономический рост и занятость |
+ |
+ |
+ |
|
Инфраструктура и инновации |
+ |
+ |
+ |
|
Сокращение неравенства |
– |
+ |
– |
|
Экология городов |
+ |
+ |
+ |
|
Рациональное потребление и производство |
– |
– |
– |
|
Борьба с изменением климата |
– |
– |
– |
4 Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. Указом Президента Рос. Федерации от 31.03.2023 № 229. URL: (дата обращения: 14.07.2024).
5 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. Указом Президента Рос. Федерации от 02.07.2021 № 400. URL: document/607148290 (дата обращения: 09.07.2024).
6 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. Федерации от 07.05.2024 № 309. URL: (дата обращения 12.07.2024).
|
Цели устойчивого развития |
Концепция внешней политики РФ |
Стратегия национальной безопасности РФ |
Национальные цели развития РФ |
|
Водные морские ресурсы |
+ |
+ |
+ |
|
Защита экосистемы суши |
+ |
+ |
+ |
|
Открытое общество и государство |
+ |
+ |
+ |
|
Глобальное партнерство |
+ |
+ |
— |
Примечание: темно-серая заливка и знак «+» – наличие целей устойчивого развития в документах стратегического планирования России; знак «–» – отсутствие целей устойчивого развития в документах стратегического планирования России.
Как видно из таблицы 2, лишь шесть целей устойчивого развития вовсе не представлены в выбранных для анализа документах стратегического планирования. Для более объективного подхода целесообразно провести сравнительное исследование целевых установок концепции устойчивого развития и российских стратегических документов на предмет их особенностей. Это позволит лучше понять различия в политических картинах мира и выявить актуальные и неактуальные цели для политической картины мира России (табл. 3).
Таблица 3 / Table 3
Сравнительный анализ целевых показателей, характеризующих различия в политических картинах мира / Comparative analysis of target indicators characterizing differences in political pictures of the world
|
Ключевые цели (поле тегов), характеризующие различия в политических картинах мира |
|
|
Концепция устойчивого развития (цели, не нашедшие отражения в документах стратегического планирования России) |
Документы стратегического планирования России (цели, не нашедшие отражения в концепции устойчивого развития) |
|
– Ликвидация нищеты; – ликвидация голода, продовольственная безопасность; – гендерное равенство; – доступ к источникам энергии; – сокращение неравенства; – рациональное потребление и производство; – борьба с изменением климата |
Политические вопросы: – добрососедские отношения; – предотвращение и урегулирование военных конфликтов; – обеспечение безопасности, вопросы применения военной силы; – содействие мирному диалогу; – деление на «друзей» и «врагов» (Россия – «недружественные страны, инспирируемые США»); – вопросы суверенитета; – укрепление гражданского самосознания, патриотизма, защита традиционных духовно-нравственных ценностей; – оборона страны; |
|
Ключевые цели (поле тегов), характеризующие различия в политических картинах мира |
|
|
– укрепление государственного, культурно-ценностного, сетевого, информационного и экономического суверенитета; – патриотизм. Социально-экономические вопросы: – приоритет человека; – безопасность государства и общества; – безопасная общественная среда; – общественная справедливость; – волонтерство и добровольчество. Экологические вопросы: – адаптация к изменениям климата7. Технологические вопросы: – технологическое лидерство; – роботизация |
|
Из представленного в таблице 3 сравнительного анализа можно заметить, что для современной России наиболее значимы вопросы войны и мира, безопасности, соблюдения суверенитета, развития в обществе идей справедливости, патриотизма и волонтерства; ставка государства сделана на максимальное вовлечение гражданина и общества в вопросы государственного развития. Концепция устойчивого развития, напротив, в перечне своих целей вышеназванные целевые установки не отражает. На авторский взгляд, избегание таких важных вопросов, как соблюдение мировой безопасности, уважение суверенитета, право на выбор самостоятельного пути развития, существенно снижает ценность концепции устойчивого развития как политической картины мира, претендующей на мировую значимость. По всей видимости, неактуальная расстановка целевых приоритетов, которые не соответствуют современной общемировой политической конъюнктуре и реалиям, и приводит к дискурсу относительно полноты/неполноты включения целей устойчивого развития в национальные документы стратегического планирования.7
Тем не менее результаты проведенного анализа показывают, что концепция устойчивого развития в целом встроена в документы стратегического планирования России. Документы самого разного уровня (концепции, стратегии, программы, указы) и их разделы разной отраслевой направленности (внешняя и внутренняя политика, социально-экономическое, экологическое, технологическое развитие) заключают в себе цели устойчивого развития. Можно утверждать, что нарастающая тенденция негативного политического дискурса вокруг источникового происхождения концепции устойчивого развития, необходимости инкорпорирования ее целей в стратегические документы и обязательности их исполнения, а также рассмотрение ее как инстру- мента давления ведущих западных стран на развивающиеся страны и с точки зрения перспектив ее реализации национальными организациями не умаляют влияния и политического веса данной концепции в системе стратегического планирования. Напротив, концепция устойчивого развития выглядит базовым ядром рассмотренных документов политического планирования и формирует существенную часть современной политической картины мира России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Элементами клубка современных противоречий являются базовые общецивилизационные категории: культура, идеология, нация, государство, история, язык и т. д. Соответственно разрешить данные противоречия и порожденные ими конфликты можно через призму анализа высокоуровневых концептов, таких как политические картины мира.
Исследовательский вызов, актуализировавший необходимость детального описания концепта «политическая картина мира», заключался не столько в поиске основных смысловых и ценностных элементов, составляющих картину мира, сколько в построении структурной модели, связывающей все коммуникативные узлы в единое целое.
Система стратегического планирования и институты выработки стратегической политики являются картиноформирующими институтами и, как демонстрируют итоги проведенного анализа, содержат в себе структурные элементы, составляющие политическую картину мира.
В целом мы можем констатировать принятие в нашей стране целей устойчивого развития, поскольку они, в основной своей части, получили отражение в документах стратегического планирования в России. Концепции, стратегии, программы и указы не только заключают в себе общие целевые формулировки концепции устойчивого развития, но и получили реальное выражение в конкретных показателях. Тем не менее нельзя игнорировать нарастающую исследовательскую и политическую дискуссию о суверенности политической картины мира современной России, поиске оптимальных самостоятельных моделей, путей и форматов развития и глобального взаимодействия.
Концепция устойчивого развития выступает в качестве платформы политической борьбы как сторонников глобального мира, так и приверженцев суверенного развития. Данная платформа представляет собой одновременно арену противостояний для идеологического, цифрового, экономического и экологического господства. Из проведенного анализа очевидно, что «западная» картина мира не получила институционального положительного отклика в России, поскольку она предполагает формат политического господства и неравные условия взаимодействия.
Построение стратегических документов должно основываться на демократических процедурах, добровольности участия всех государственных и негосударственных институтов и учете мнений всех заинтересованных сторон. Эти принципы в той или иной степени выводятся из определения системы стратегического планирования как механизма, обеспечивающего взаимодействие всех участников. Плюралистичность политических картин мира, включенная М. Хайдеггером и Ю. Хабермасом в свои концепции как некое аксиоматическое положение, является непременным условием разработки стратегического курса государства, так как в данной сфере непрерывно приходится согласовывать интересы различных институтов и акторов, с тем чтобы сформировать эффективную систему политических взглядов на внутренние и внешние события и отношения.
Список литературы Политическая картина мира в документах стратегического планирования России (на примере концепции устойчивого развития)
- Атаева А. Г., Орешников В. В. Методологические основы государственного управления социальным развитием территориальных социально-экономических систем // Ars Administrandi (Искусство управления). 2024. Т. 16, № 1. С. 1–19. https://doi.org/10.17072/2218-9173-2024-1-1-19. EDN: LHMNNE.
- Волков В. А. Политическая экология как проект: между идеологией и политической религией // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 481. С. 77–83. https://doi.org/10.17223/15617793/481/9. EDN: NRYJLK.
- Гаман-Голутвина О. В., Сморгунов Л. В. Политическое в пространстве турбулентного мира // Полис. Политические исследования. 2023. № 1. С. 7–10. https://doi.org/10.17976/jpps/2023.01.02. EDN: AMJPQY.
- Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. М.: АСТ, 2000. 752 с.
- Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. М.: Юрайт, 2019. 308 с.
- Иванов Д. Ю. Теоретические предпосылки формирования концепта «политическая картина мира» // Общество: политика, экономика, право. 2023. № 10. С. 20–24. https://doi.org/10.24158/pep.2023.10.2. EDN: EORLIF.
- Комаров В. М., Акимова В. В., Коцюбинский В. А. и др. Сравнительный анализ подходов к разработке долгосрочных государственных стратегий в России и мире // Вопросы государственного и муниципального управления. 2021. № 1. С. 56–74. EDN: BVLYZP.
- Курочкин А. В. Социально-политические компоненты в проектировании стратегий развития умных городов как базис их устойчивого развития // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2020. Т. 16, № 4. С. 448–461. https://doi.org/10.21638/spbu23.2020.402. EDN: OAESHX.
- Курчеев В. С. Посткризисное устойчивое развитие государства и права // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2010. T. 6, № 2. С. 5–16. EDN: NCGUXP.
- Курчеев В. С., Демидов Г. К. Об общих понятиях идеи устойчивого развития страны, устойчивого развития сельских территорий и концепции государства устойчивого развития // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий: материалы V Всерос. (нац.) науч. конф. / Отв. ред. Н. В. Гаврилец. Новосибирск: Изд. центр Новосиб. гос. аграр. ун-та «Золотой колос», 2020. С. 750–754. EDN: BJFEYX.
- Лапкин В. В. Территориальное государство и сложное общество: императив коэволюции в пространстве политики // Полис. Политические исследования. 2023. № 5. С. 172–191. https://doi.org/10.17976/ jpps/2023.05.11. EDN: NRKPJP.
- Линдерс А. М. Р. Вопросы цифрового развития и цели устойчивого развития ООН // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2020. № 3. С. 124–129. EDN: XHYAER.
- Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна // Полис. Политические исследования. 1992. № 1–2. С. 130–142. EDN: EQVPFV.
- Мельвиль А. Ю., Мальгин А. В., Миронюк М. Г. и др. «Политический атлас современного мира 2.0»: к постановке исследовательской задачи // Полис. Политические исследования. 2023. № 2. С. 72–87. https://doi.org/10.17976/jpps/2023.02.06. EDN: BZYWWX.
- Парсонс Т. О структуре социального действия / Пер. с англ. В. Чесноковой, Г. Беляевой. М.: Академический Проект, 2002. 880 с.
- Самаркина И. В. Политическая картина мира сообществ «ВКонтакте»: опыт анализа субъективного пространства политики в условиях сетевого общества // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2021. Т. 17, № 1. С. 87–102. https://doi.org/10.21638/spbu23.2021.107. EDN: VQUZFY.
- Сопилко Н. Ю., Кубасова Е. И., Мясникова О. Ю. Развитие интеграции Евразийского экономического союза для достижения целей устойчивого развития в контексте роста качества жизни населения // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2022. № 1. С. 115–125. https://doi.org/10.28995/2073-6304-2022-1-115-12. EDN: IFLYGD.
- Стрельникова Т. А. Переход от идеологии «Цели развития тысячелетия» к «Целям устойчивого развития»: программы ООН и российский опыт // Региональная власть, местное самоуправление и гражданское общество: механизмы взаимодействия: сб. науч. тр. / Под ред. В. Л. Чепляева, О. Н. Фомина, О. Ю. Абакумова и др. Саратов: Поволж. ин-т управления им. П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС, 2017. С. 99–101.
- Хабермас Ю. От картин мира к жизненному миру / Пер. с нем. Д. Мироновой]. 2-е изд. М.: Идея-Пресс, 2015. 127 с.
- Хабермас Ю. Теория коммуникативной деятельности / Пер. с нем. А. К. Судакова. М.: Весь мир, 2022. 878 с.
- Хайдеггер М. Время картины мира. Исток художественного творения: избранные работы разных лет / Пер. с нем. А. В. Михайлова. М.: Академ. Проект, 2008. 527 с.
- Шестопал Е. Б. Образы «других стран» в современной картине мира российских граждан // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2021. № 2. С. 65–74. https://doi.org/10.22204/2587-8956-2021-104-02-65-74. EDN: LQTPHE.
- Шмитт К. Понятие политического / Пер. с нем. под ред. А. Ф. Филиппова. СПб.: Наука, 2016. 568 с.
- Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории: гештальт и действительность / Пер. с нем. Н. Гарелина. М.: Эксмо, 2024. 672 с.
- Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. В. Г. Николаева, С. В. Ромашко, Н. М. Смирновой. М.: РОССПЭН, 2004. 1054 с.
- Lopatkova Ya. A. Achieving sustainable development: A baseline analysis of Western and Eastern European countries // R-economy. 2021. Vol. 7, № 1. P. 18–27. https://doi.org/10.15826/recon.2021.7.1.002.
- Yaw Ahali A. Developing local content policy in pursuit of sustainable development goals // Вестник МГИМО-Университета. 2022. Т. 15, № 5. С. 64–78. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2022-5-86-64-78. EDN: YQLGDL.