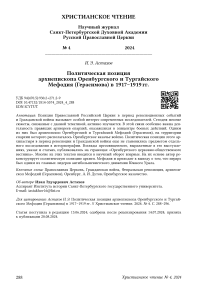Политическая позиция архиепископа оренбургского и тургайского Мефодия (Герасимова) в 1917-1919 гг.
Автор: Астахов И.Э.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История русской церкви в советской России
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
Позиция Православной Российской Церкви в период революционных событий и Гражданской войны вызывает особой интерес современных исследователей. Сегодня многие сюжеты, связанные с данной тематикой, активно изучаются. В этой связи особенно важна деятельность правящих архиереев епархий, оказавшихся в эпицентре боевых действий. Одним из них был архиепископ Оренбургский и Тургайский Мефодий (Герасимов), на территории епархии которого располагалось Оренбургское казачье войско. Политическая позиция этого архипастыря в период революции и Гражданской войны еще не становились предметом отдельного исследования в историографии. Взгляды преосвященного, выраженные в его выступлениях, указах и статьях, публиковались на страницах «Оренбургского церковно-общественного вестника». Многие из этих текстов вводятся в научный оборот впервые. На их основе автор реконструирует политическую позицию архиеп. Мефодия и приходит к выводу о том, что иерарх был одним из главных лидеров антибольшевистского движения Южного Урала.
Православная церковь, гражданская война, февральская революция, архиепископ мефодий (герасимов), оренбург, а. и. дутов, оренбургское казачество
Короткий адрес: https://sciup.org/140308470
IDR: 140308470 | УДК: 94(470.5):930.2+271.2-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_288
Текст научной статьи Политическая позиция архиепископа оренбургского и тургайского Мефодия (Герасимова) в 1917-1919 гг.
20.08.2024.
Февральская революция 1917 г. создала абсолютно новые условия общественнополитической жизни в России. Для того чтобы вписаться в новые условия, Св. Синод выступил в поддержку Временного правительства. В то же время и епархиальные архиереи стали предпринимать попытки адаптироваться к новым реалиям. Последовавшие затем Октябрьский переворот и события Гражданской войны вынуждали архиереев налаживать отношения с различными политическими силами.
В отечественной историографии вопрос о политической позиции духовенства в период революции и Гражданской войны сегодня активно изучается. Существуют статьи, посвященные как духовенству в целом [Бирюкова, 2019], так и отдельным его представителям [Петров, 2023]. Политическая позиция духовенства и взаимодействие представителей Церкви с антибольшевистскими силами также становилось предметом изучения историков [Ганин, 2008]. Однако многие темы еще только ждут своего исследователя. Например, не подвергалась подробному анализу политическая позиция в период революции и Гражданской войны такой важной фигуры, как архиепископ Оренбургский и Тургайский Мефодий (Герасимов), хотя этот вопрос и затрагивался в современных исследованиях [Банникова 2015]. В рамках данного исследования будет рассмотрена политическая позиция иерарха в период от Февральской революции до того, как архипастырь покинул Челябинск и Южный Урал летом 1919 г.
Политическая позиция архиеп. Мефодия в этот период чаще всего выражалась в выступлениях, реже в распоряжениях по епархии. Речи и распоряжения печатались в епархиальном журнале «Оренбургский церковно-общественный вестник», который выходил в 1917-1918 гг. Этот ценный исторический источник, который дает глубокую картину жизни Оренбургской епархии, Церкви и России, до сих пор остается малоизученным.
На территории Оренбургского казачьего войска было одно из самых мощных антибольшевистских движений. Епископ Мефодий (Герасимов) возглавлял Оренбургскую епархию с 1914 г. К 1917 г. он обладал достаточным авторитетом в епархии. В имперский период он стоял на монархических позициях. Но в ходе революции 1905 г. вступался за священников, обвиненных в политической неблагонадежности (см.: [Банникова, 2015, 10–11]). С другой стороны, в период служения еп. Мефодия на Читинской кафедре одним из ближайших его сподвижников был архим. Ефрем (Кузнецов), известный как активный деятель правомонархического движения (см.: [Волнина, Биктимирова, 2011, 50]).
События февраля 1917 г. разрушили привычную жизнь Российского государства. 2 марта 1917 г. в Оренбург пришла весть об отречении Николая II, а 4 марта, в субботу, был получен манифест об отречении. Вечером того же дня был получен и отказ вел. кн. Михаила Александровича. Епископ Мефодий в тот же день дал консистории указание довести до городских причтов о замене поминовения на ектениях «Царствующего дома» на «Богохранимую державу Российскую». Указ был приведен в исполнение в тот же день (см.: [Нечаев, 2004, 34]). 5 марта 1917 г. было опубликовано воззвание еп. Мефодия к православному населению епархии. В нем он призвал паству к подчинению Временному правительству, как законному органу власти. Таковым, по его мнению, оно стало в связи с отречением Николая II и признанием нового органа власти со стороны Михаила Александровича. Правящий архиерей епархии призвал паству исполнять распоряжения Временного правительства «беспрекословно, не за гнев, а за совесть» [Российское духовенство, 2006, 63]. Вероятнее всего, в поддержке Временного правительства он видел возможность сохранения целостности России и залог победы в войне. Кроме того, владыка был выходцем из семьи бедного сельского священника, поэтому вполне мог разделять, хотя бы отчасти, некоторые демократические убеждения.
Архиерей старался не конфликтовать с новой властью. 15 апреля 1917 г. Оренбургский гражданский комитет направил еп. Мефодию письмо, в котором сообщалось, что часть священников продолжает поминать императора, а другие в проповедях восстанавливают людей против Временного правительства, ссылаясь даже на Апокалипсис. Уездный комитет просил архипастыря циркулярно предложить духовенству прекратить противодействие новому строю. Через два дня еп. Мефодий наложил резолюцию на письме, которая гласила: «Принять решительные меры против священников, продолжающих поминать царских лиц и тем более возбуждающих народ против новой власти» (цит. по: [Нечаев, 2004, 37]). Таким образом, с одной стороны, он пытался укрепить положение власти, а с другой — пытался не допустить конфликта этой власти с духовенством.
Месяц спустя, 20 мая 1917 г., перед открытием Оренбургского епархиального съезда, еп. Мефодий выступил с речью, в которой, отдавая должное закончившемуся историческому периоду России, заявил, что «сам теперь великий русский народ свободно, как захочет, устроит свой общественный и государственный порядок; сам теперь решит судьбу свою» [Первый свободный, 1917, 1]. Не выступая против монархии, еп. Мефодий заявил, что форма устройства государства в будущем зависит от народа. Собственную позицию архиерей к этому времени еще ни разу не обозначил.
С августа 1917 г. еп. Мефодий находился в Москве на заседаниях Поместного Собора. Там его и застал октябрьский переворот. Он стал свидетелем драматических событий, связанных с вооруженным восстанием большевиков. В то время он хранил молчание насчет политических событий и соблюдал нейтралитет (см.: [Банникова, 2015, 17]).
В Оренбург архиерей вернулся 13 декабря 1917 г. (Приезд, 1917, 4). К этому времени ситуация накалилась до предела. В губернском центре у власти были антибольшевистские силы. В конце декабря 1917 г. состоялись первые столкновения между частями атамана А. И. Дутова и Красной гвардии.
Еще до прибытия правящего архиерея в Оренбург часть духовенства поддержала А. И. Дутова. 7 ноября 1917 г. Оренбургская духовная консистория высказалась в поддержку Войскового правительства Оренбургского казачьего войска (см.: [Нечаев, 2004, 181]). Месяцем позже, 19 декабря 1917 г., по поручению собрания духовенства и мирян 2-го благочиннического оренбургского округа настоятель Георгиевского войскового собора прот. Иоанн Чернавский приветствовал А. И. Дутова (см. подр.: [Нечаев, 2004, 182-183]). В январе-феврале 1918 г. духовенство Верхнеуральского уезда во главе с настоятелем верхнеуральского собора прот. Михаилом Громогласовым начало собирать пожертвования в пользу атамана (см.: [Нечаев, 2004, 183]). Фактически, самое влиятельное духовенство епархии уже тогда заняло антибольшевистскую позицию и поддержало А. И. Дутова. Однако владыка Мефодий был более осторожен в своих действиях. 2 января 1918 г. в кафедральном соборе, в сослужении соборного и городского духовенства, он возглавил отпевание прапорщика В. И. Петрова и юнкера казачьего училища И. Портнягина, убитых в столкновениях с большевиками при попытке последних захватить Оренбург. Перед отпеванием епископ сказал слово, в котором отметил историческую роль интеллигенции в борьбе за народную свободу. Он вспомнил, какие жертвы понесла интеллигенция в этой борьбе, и отметил особенную тяжесть той неблагодарности, которой платит ей за это народ (Погребение, 1918, 4). В этой речи владыка выступил вполне в «февральском» духе. Епископ обвинил большевиков и их союзников в расправах над офицерами и в том, что они дают народу «страшную свободу», которая есть свобода от всякой совести (Мефодий Герасимов, 1918а, 1–2). По сути, еп. Мефодий впервые обозначил свою политическую позицию, показав, что морально он поддерживает антибольшевистские силы. Однако осторожная позиция в этот период в дальнейшем спасет ему жизнь.
Через несколько дней, 9 января 1918 г., в Георгиевском войсковом соборе еп. Мефодий совершил отпевание убитого в борьбе с большевиками агронома П. П. Лошкарева (Погребение жертвы, 1918, 4). Как отмечает Е. Н. Банникова, владыка Мефодий видел в казачестве силу, которая может защитить свободу и честь народа (см.: [Банникова, 2015, 18]).
Действительно, в то время только казачество могло противостоять наступлению большевиков. Однако в основной своей массе оренбургские казаки заняли нейтральную позицию, не поддержав А. И. Дутова. Это привело к тому, что он и его сторонники покинули губернский центр. Оренбург был занят красными в ночь на 18 января 1918 г. Через два дня еп. Мефодий был вызван на допрос, куда его препроводили революционные матросы. Его обвиняли в том, что в проповеди в беженской церкви он назвал большевиков бандой, дал карету Дутову и произносил над убитыми офицерами и юнкерами речь. Архипастырь ответил, что беженцам он говорил не о большевиках, а убеждал их воздерживаться от грабежей и погромов. Карета была предоставлена Дутову для перевозки его больных детей. Владыка также заявил, что его долг молитвенно напутствовать при погребении всех православных христиан, независимо от их политических убеждений. При этом подчеркнул, что как архипастырь он всегда против братоубийственной войны. Ответы удовлетворили матросов, и они, предложив чаю, отпустили его домой (Допрос, 1918, 3).
-
Е. Н. Банникова отмечает, что деятельность и позиция владыки Мефодия в период нахождения в Оренбурге красных неизвестна. Однако в это время нарастало его негативное отношение к новой власти (см.: [Банникова, 2015, 19]). Атмосфера начинает резко накаляться, и в регионе начинается полноценная война, в которой оренбургское казачество в основном принимает сторону А. И. Дутова. В это же время, в мае 1918 г., владыка был возведен в сан архиепископа. Однако в Оренбурге об этом узнают только в конце августа того же года (Возведение, 1918, 1).
-
3 июля 1918 г. в Оренбург вступили белые. В своей приветственной речи казакам и чехословакам архиеп. Мефодий четко обозначил свою резко антибольшевистскую позицию. Говоря о периоде власти большевиков, он заявил, что «пять месяцев мы жили под игом кровавой власти, пять месяцев эта страшная власть производила расправу, день и ночь совершала казни, утро и вечер омывалась кровью, пьянела кровью казненных, выслеживала, ловила, безжалостно убивала свои жертвы». Архипастырь понимал, что Гражданская война стала реальностью, и в ней антибольшевистские силы должны победить. Заканчивая свою речь, он почеркнул, что «тяжело поднимать меч на брата своего, но клятва ляжет на того, кто первый поднял его». По его мнению, большевики несли ответственность за начало Гражданской войны. Однако архипастырь призывал помнить, что «те, против кого мы взяли оружие для защиты себя, все же наши братья, и многие, весьма многие несчастные были вовлечены в братскую кровавую распрю нуждой и обманом». В конце владыка выражает твердую уверенность, что «обновление казачества да будет началом обновления всего русского народа, спасение Оренбурга да будет предвестием спасения всей России» (Мефодий Герасимов, 1918б, 1). Таким образом, архиеп. Мефодий сделал твердый выбор в пользу антибольшевистских сил и выразил свой историософский взгляд на происходящие события. В августе 1918 г. владыка предложит настоятелям храмов прочесть эту речь с амвона в особо торжественной обстановке для «ознакомления населения с истинным характером большевистской власти» (Мефодий Герасимов, 1918в, 1).
Через несколько дней, в воскресенье 7 июля 1918 г., по желанию православных оренбуржцев был проведен общегородской крестный ход на Форштадтскую площадь. В шествии принимали участие тысячи людей. На площади состоялся молебен об установлении мира и спокойствия в Оренбурге. По сообщениям газет, молебен случайно совпал с приездом в Оренбург А. И. Дутова. Владыка Мефодий обратился к атаману с приветственным словом, в котором отметил стойкость, с которой он и его сподвижники продолжали борьбу с «тою властью, которая залила себя в городе потоками крови». Как и несколькими днями ранее, архиерей отметил, что вина в развязанной войне лежит на большевиках, но призвал помнить, что многие люди оказались в рядах красных против своей воли (Всенародное моление, 1918, 3). Владыка, руководствуясь христианским мировоззрением, пытался предотвратить ожесточение между сторонниками разных путей развития России. Неслучайно об этом архипастырь говорил в приветственной речи руководителю белых в Оренбуржье. Видимо, он надеялся на общенациональное примирение после победы антибольшевистских сил, так как в этом видел возможность возрождения России.
Архиепископ Мефодий обратился к благочинным церквей с просьбой провести расследование всех случаев убийств и насилий над священно- и церковнослужителями и мирянами, совершенных большевиками, с подробным изложением обстоятельств произошедшего. Также архипастырь благословил хоронить погибших в борьбе с большевиками «героев казаков и лиц иного звания» в пределах церковной ограды, если на то согласятся прихожане (Мефодий Герасимов, 1918г, 1). Закрывая себе путь для отступления, владыка своим распоряжением подчеркивал сакральное значение и религиозный характер антибольшевистской борьбы.
Архиепископ Мефодий не препятствовал тому, чтобы в этот тяжелый период Церковь имела политический вес. 5 августа 1918 г. на объединенном благочинническом собрании было решено для выборов в Оренбургскую городскую думу выставить отдельный список от епархии, назвав его «Список объединенных приходов г. Оренбурга» (К предстоящим выборам, 1918, 4). Безусловно, такое ответственное дело было предпринято при согласии архиерея. По итогам первого участия Церкви в избирательной кампании в Оренбуржье из 21 кандидата в городскую думу было избрано 11 человек. Кроме того, из духовенства по списку партии Народной свободы был избран еще один человек. Это был определенный успех. Больше получило объединение социалистов — 50 мест; мусульмане — 17 мест; партия Народной свободы — 12 мест. Причем со стороны церковных кандидатов не велось практически никакой предвыборной работы (Добрый почин, 1918, 1).
Владыка обозначил свою позицию и по одному из самых важных вопросов церковно-государственной жизни. Он не поддержал отделение Церкви от государства. В статье, опубликованной в «Оренбургском церковно-общественном вестнике», он заявил, что объединение Церкви и государства — это правильный принцип, который может омрачиться лишь неправильными действиями людей. Он заявил, что государство существует только для того, чтобы обеспечить гражданам общую пользу и общее благо. Для верующих же граждан религия является жизненно необходимым благом. Однако владыка также отмечал, что поддерживать религию должно государство и в собственных интересах, так как «Религия укрепляет дух народа, составляет внутреннюю духовную мощь государства». Владыка утверждал, что отделение Церкви от государства — это признак надвигающейся на Церковь опасности, к которой нужно подготовиться. Так, он предлагал следующее: «1) Церковь должна быть признана правовым автономным, независимым от государства, учреждением, имеющим свой внутренний распорядок, свою церковную власть и свои церковные законы. 2) Признать неприкосновенной собственностью Церкви церковное имущество, как-то храмы и храмовое имущество, церковные и причтовые капиталы и разные доходные статьи. 3) Требовать обязательного преподавания Закона Божия и религиозного воспитания в школе под наблюдением церковной власти» (Мефодий Герасимов, 1918д, 1-3). Владыка видел в увеличении влияния Церкви один из способов возрождения России. Несомненно, подобные мероприятия значительно укрепили бы позиции Церкви. Однако все это в реалиях того времени так и осталось неосуществленным планом.
-
8 сентября 1918 г. в Оренбурге открылось чрезвычайное Епархиальное собрание. В этот же день в Уфе открылось Государственное совещание всех антибольшевистских сил. В ходе открытия церковного собрания архиеп. Мефодий предложил послать по телеграфу приветствие участникам Государственного совещания. Собрание приняло это предложение и пропело «многая лета» участникам уфимского совещания. Затем владыка возгласил многолетие «славному казачеству, братьям чехословакам и вообще всем вождям и воинам, подвизающимся на поле брани за свободу родины». Он также предложил послать приветствия и на местные фронты. Собрание поддержало это пением многолетия. Затем владыка провозгласил «вечную память» всем погибшим в междоусобной войне. Вечером того же дня, по предложению архиеп. Мефодия, от Оренбургской епархии были избраны делегаты на Государственное совещание
(Кононов, 1918, 1). Таким образом, архипастырь надеялся, что оренбургское духовенство донесет до участников совещания церковную позицию и усилит влияние Церкви.
Тогда же, в сентябре 1918 г., архиеп. Мефодий предложил благочинным предоставить ему сведения о патриотической деятельности духовенства во время господства большевиков (Мефодий Герасимов, 1918е, 1). Наконец, после праздничной литургии 21 сентября 1918 г. в кафедральном соборе владыка сказал приветственное слово представителям чехословацкого и польского народов. Отмечая заслуги чехословаков, архипастырь отметил, что они первые принесли «луч свободы», когда освободили от большевиков Самару. Владыка отметил, что народ по-прежнему остается добрым и богобоязненным, так как большевизм не проник глубоко в народные массы. Тем не менее в своей речи он оплакивал Россию: «Где великая Россия? — вопрошал архипастырь, — ее нет теперь. Россия теперь изъеденное червоточиной старое сухое дерево, готовое упасть и сгнить». Надежда только на «братьев-славян», говорил архиеп. Мефодий, ведь без них Россия погибнет (Приветственное слово, 1918, 1). По мнению архиерея, «братья-славяне» выполняют богоугодное дело. Кроме того, в этой речи ярко проявились панславистские убеждения владыки.
Осенью 1918 г. архиеп. Мефодий предложил настоятелям храмов прочитывать его проповеди на политические темы в особой торжественной обстановке, с необходимыми разъяснениями (Мефодий Герасимов, 1918ж, 1). Архипастырь по-прежнему продолжал произносить речи, в которых призывал на борьбу с большевизмом. Осенью 1918 г. им был отслужен молебен перед открытием Оренбургского казачьего войскового круга. Перед молебном он произнес слово, в котором возложил надежды о спасении России на казачество. «Станет казачество на защиту родной земли, пойдет и спасет свою родину мать», — утверждал владыка. Кроме того, он твердо заявил, что сейчас без страха и колебания абсолютно все должны встать на защиту России (Слово, 1918, 1). Таким образом, иерарх подтвердил свою позицию: силы, которые могут спасти Россию, — Церковь, казачество и славянские подразделения.
Хорошие отношения сложились у архиеп. Мефодия с А. И. Дутовым. К нему он обращался за помощью в церковных делах. В начале октября 1918 г. он просил атамана посодействовать в доставке воска из Владивостока на нужды Оренбургского епархиального свечного завода. Дутов откликнулся на просьбу архипастыря (Луч надежды, 1918, 4). К концу декабря 1918 г. 4 тысячи пудов воска уже находились в Челябинске (Воск прибыл, 1918, 4).
Осенью 1918 г. иерарх покинул Оренбург и в ноябре того же года принял участие в Сибирском церковном совещании в Томске. По итогам совещания было образовано Высшее временное церковное управление «епархиями Сибири, Приуралья и другими освобожденными от советско-большевистской власти частями России» [Банникова, 2015, 22].
После возвращения с собора, в конце 1918 г., владыка остановился в Челябинске. Вскоре до него доходит весть, что 22 января 1919 г. Оренбург снова взяли красные. Поэтому в Челябинск перебралась часть антибольшевистски настроенного духовенства. Здесь архипастырь начал устраивать церковную жизнь исходя из сложившейся ситуации. В начале 1919 г. он создал временное епархиальное управление в Челябинске. В феврале 1919 г. здесь был создан епархиальный совет (см. подр.: [Банникова, 2015, 23-24]). Именно в этот период Челябинская епархия постепенно становится самостоятельной де-факто, а не только де-юре.
В конце мая — начале июня 1919 г. в Челябинске прошли торжества по случаю годовщины освобождения города от большевиков. 29 мая 1919 г., в праздник Вознесения Господня, в Челябинском женском монастыре при огромном стечении народа владыка совершил благодарственный молебен по случаю освобождения Челябинска от большевиков. Данное богослужение предваряло архипастырское слово, в котором архиеп. Мефодий указал на разницу в теперешнем положении и за год до этого. Он призвал богомольцев приложить все усилия для помощи «нашей доблестной армии, борющейся за освобождение России, стонущей под игом большевистских властителей» [Бацан, 2018, 21–22]. Иными словами, он подчеркивал, что в руках людей была судьба России.
Торжества продолжились в воскресенье, 1 июня. Архиепископ Мефодий служил литургию в Челябинском Христорождественском кафедральном соборе. Затем он возглавил служение благодарственного молебна на Соборной площади. По центру города прошел военный парад. Позже владыка Мефодий также совершил на городских кладбищах панихиду «по вождям и воинам, за свободу Сибири и освобождение России жизнь свою положившим» [Бацан, 2018, 22]. Фактически, это были последние крупные мероприятия антибольшевистского характера в Челябинске, так как уже в конце июля 1919 г. в город вошли войска Красной армии. Незадолго до этого владыка Мефодий покинул его. Его скитания кончатся в Китае, где он станет одним из лидеров церковного зарубежья на Востоке.
Подводя итог, стоит отметить, что после Февральской революции архиеп. Мефодий, поддерживая новую власть, стремился сохранить мир в епархии. После октябрьского переворота он постепенно начал проявлять антибольшевистский настрой, при этом надеясь, что массового кровопролития можно избежать.
Ключевыми для него становятся месяцы, проведенные под властью большевиков. После перехода Оренбурга в руки белых он стал одним из лидеров антибольшевистского движения. В своих проповедях и публичных выступлениях он гневно критиковал большевиков, обвиняя их в развязывании Гражданской войны. В то же время он напоминал, что среди красных находятся такие же русские люди, часть из которых оказались втянутыми в войну по заблуждению или против своей воли. Таким образом, поддерживая антибольшевистскую вооруженную борьбу, он пытался наполнить ее христианским смыслом. Кроме того, в будущем он рассчитывал на общенациональное примирение. Исходя из сложившейся в регионе ситуации, спасение страны архиеп. Мефодий видел лишь в силе Церкви, казачества и славянских легионеров.
В 1918 г. иерарх становится одним из лидеров антибольшевистского лагеря на Южном Урале. Этот статус он сохранит и после потери Оренбурга белыми. В Челябинске архипастырь продолжил вести обширную церковную и антибольшевистскую работу. Он отмечал, что судьба России в руках ее жителей. Однако непримиримость владыки Мефодия по отношению к большевикам вынудила его уйти в эмиграцию.
Список литературы Политическая позиция архиепископа оренбургского и тургайского Мефодия (Герасимова) в 1917-1919 гг.
- Возведение (1918) — Возведение преосвященного Мефодия в сан архиепископа // Оренбургский церковно-общественный вестник (далее — ОЦОВ). 1918. № 28. С. 1.
- Воск прибыл (1918) — Воск прибыл // ОЦОВ. 1918. № 42. С. 4.
- Всенародное моление (1918) — Всенародное моление // ОЦОВ. 1918. № 21. С. 3.
- Добрый почин (1918) — Добрый почин // ОЦОВ. 1918. № 27. С. 1.
- Допрос (1918) — Допрос епископа Мефодия // ОЦОВ. 1918. № 7. С. 3.
- Кононов (1918) — Кононов Д., свящ. Епархиальное собрание // ОЦОВ. 1918. № 30. С. 1–2.
- К предстоящим выборам (1918) — К предстоящим выборам в Оренбург. Городскую думу // ОЦОВ. 1918. № 25. С. 4.
- Луч надежды (1918) — Луч надежды // ОЦОВ. 1918. № 33. С. 4.
- Мефодий Герасимов (1918а) — Мефодий (Герасимов), еп. Слово при погребении офицера и юнкера убитых во время братского междоусобия // ОЦОВ. 1918. № 3. С. 1–2.
- Мефодий Герасимов (1918б) — Мефодий (Герасимов), еп. Приветственное слово братьям казакам и славянам освободителям Оренбурга // ОЦОВ. 1918. № 21. С. 1.
- Мефодий Герасимов (1918в) — Мефодий (Герасимов), еп. О. о. настоятелям церквей епархии // ОЦОВ. 1918. № 26. С. 1.
- Мефодий Герасимов (1918г) — Мефодий (Герасимов), еп. О. о. благочинным и причтам епархии // ОЦОВ. 1918. № 24. С. 1.
- Мефодий Герасимов (1918д) — Мефодий (Герасимов), архиеп. К вопросу об отделении Церкви от государства // ОЦОВ. 1918. № 29. С. 1–3.
- Мефодий Герасимов (1918е) — Мефодий (Герасимов), архиеп. О. о. благочинным Оренбургской епархии // ОЦОВ. 1918. № 32. С. 1.
- Мефодий Герасимов (1918ж) — Мефодий (Герасимов), архиеп. О. о. настоятелям приходов епархии // ОЦОВ. 1918. № 33. С. 1.
- Слово (1918) — Слово, сказанное архиепископом Мефодием в кафедральном соборе, на молебне, пред открытием войскового круга // ОЦОВ. 1918. № 33. С. 1.
- Первый свободный (1917) — Первый свободный съезд духовенства и мирян Оренбургской епархии // ОЦОВ. 1917. № 14. С. 1–2.
- Погребение (1918) — Погребение жертв Гражданской войны // ОЦОВ. 1918. № 2. С. 4.
- Погребение жертвы (1918) — Погребение жертвы Гражданской войны // ОЦОВ. 1918. № 3. С. 4.
- Приветственное слово (1918) — Приветственное слово, сказанное архиепископом Мефодием представителям чехословацкого и польского народа в кафедральном соборе после литургии 8 сентября 1918 г. // ОЦОВ. 1918. № 32. С. 1.
- Приезд (1917) — Приезд преосвящ. Мефодия // ОЦОВ. 1917. № 52. С. 4.
- Банникова (2015) — Банникова Е. Н. Архиепископ Оренбургский и Тургайский Мефодий (Герасимов) // Мученики и исповедники Оренбургской епархии. 2‑е изд. Саракташ, СПб., 2015. Кн. V. С. 8–31.
- Бацан (2018) — Бацан С. В. Где Церковь, там и Дух Божий: очерки православной жизни Южного Урала. 1918–2018 гг.: живые страницы истории [к 100‑летию Челябинской епархии] / С. В. Бацан, О. М. Давыдов, А. В. Ермолюк. Челябинск, 2018. 111 с.
- Бирюкова (2019) — Бирюкова Ю. А. Участие духовенства в политических партиях и надпартийных организациях на белом Юге в период Гражданской войны // Новейшая история России. 2019. Т. 9. № 4. С. 880–899.
- Волнина, Биктимирова (2017) — Волнина Н. Н., Биктимирова Ю. В. Жизнь и служение забайкальских архиереев (1894–2014 гг.). Чита, 2017. 136 с.
- Ганин (2008) — Ганин А. В. Оренбургское казачество и Церковь в годы Гражданской войны. 1917–1922 гг. / Белая гвардия. 2008. № 10. С. 146–161.
- Нечаев (2004) — Нечаев М. Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917– 1922. Пермь, 2004. 335 с.
- Петров (2023) — Петров И. В. Священник Стефан Нежинцев — правый консерватор в Сибири и на Дальнем Востоке в 1919–1922 гг. // Омские социально-гуманитарные чтения. Материалы XVI Международной научно-практической конференции. Омск, 2023. С. 111–114.