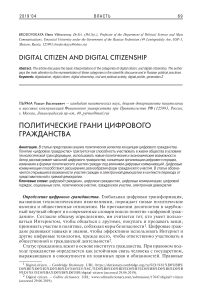Политические грани цифрового гражданства
Автор: Пырма Роман Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ политических аспектов концепции цифрового гражданства. Понятие «цифровое гражданство» трактуется как способность участвовать в жизни общества в условиях технологической трансформации, использовать новые политические и экономические возможности. Автор рассматривает масштаб цифрового гражданства, концепции организации цифрового порядка, изменения в формах политического участия граждан под влиянием цифровых коммуникаций. Цифровые коммуникации способствуют расширению разнообразия форм гражданского участия. В статье обозначаются открывшиеся возможности участия граждан в электронной демократии в контексте перехода от представительной к прямой демократии.
Цифровой гражданин, цифровое гражданство, цифровые коммуникации, цифровой порядок, социальные сети, политическое участие, гражданское участие, электронная демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/170171340
IDR: 170171340 | DOI: 10.31171/vlast.v27i4.6588
Текст научной статьи Политические грани цифрового гражданства
Определение цифрового гражданства. Глобальная цифровая трансформация, вызванная технологическими изменениями, порождает новые политические явления и общественные отношения. На протяжении десятилетия в зарубежный научный оборот и в современные словари вошло понятие «цифровой гражданин». Согласно общему определению, им считается тот, кто умеет пользоваться Интернетом, чтобы общаться с другими, покупать и продавать вещи, принимать участие в политике, соблюдая меры безопасности1. Цифровые граждане развивают навыки и знания, чтобы эффективно использовать Интернет и другие цифровые технологии, прежде всего, чтобы ответственно участвовать в общественной и гражданской деятельности2.
Статус гражданина лежит в основе института гражданства. При правовом подходе гражданство определяется как устойчивая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Правовые нормы регулируют отношения человека и государства, устанавливая границы свободы и ответственности1.
В свою очередь, политологический подход, заимствуя теоретические рамки других наук, расширяет сферу гражданства. В частности, неоинституциональная теория трактует институты как «правила игры» в обществе, созданные людьми и структурирующие их взаимоотношения [Норт 1997: 17-18]. Институты в рамках данной теории представляют собой «относительно долговечные и нормативные образцы социальных связей, которые считаются легитимными и обладают потенциалом для решения проблем и регулирования человеческих отношений» [Меркель, Круассан 2002].
В политической философии гражданство, с одной стороны, тесно связано с либеральными идеями индивидуальных прав человека и, с другой – с ком-мунитаристскими идеями его членства в сообществе и преданности государству [Кимлика 2010: 362-375]. Либеральная концепция гражданства возвышает интересы личности, обеспечивает ее права, а коммунитаристская концепция отдает приоритет общественным интересам. Между этими двумя позициями ведется научная дискуссия о должном статусе гражданина, его правах и обязанностях в государстве, методе организации общества.
Большинство исследователей исходят из того, что плодотворный общественный порядок нельзя устанавливать и поддерживать только принуждением. Желаемую политическую устойчивость может обеспечивать сотрудничество и самоограничение граждан. Одним из обоснованных объяснений успешности различных обществ считают выраженные гражданские добродетели, основанные на ценностях доверия, участия и справедливости. Данные добродетели конвертируются в социальный капитал, который формируется на основании традиций социального взаимодействия, норм взаимности и доверия между людьми, широкого распространения общественных ассоциаций, вовлечения граждан в политику для решения возникающих проблем [Патнэм 1996: 224]. Девальвация социального капитала происходит в ситуации, когда граждане разобщены, распадаются социальные структуры, такие как общественные ассоциации, церковь, политические партии, что в целом указывает на кризис гражданственности [Putnam 2000: 30-47]. Концепция цифрового гражданства призвана преодолеть кризисные явления, закладывая основы для преобразования данного института в соответствии с происходящими технологическими и общественными изменениями, которые в значительной степени взаимообусловлены.
Основоположником концепции цифрового гражданства стала Карен Моссбергер. В целом, по ее определению, цифровое гражданство – это возможность участвовать в жизни онлайн. Под цифровым гражданством понимается способность индивидов участвовать в жизни общества в условиях происходящей технологической трансформации. Согласно определению автора концепции, к цифровым гражданам относятся те, кто часто использует цифровые технологии для получения политической информации, выполняя свои гражданские обязанности, и для получения экономической выгоды в ходе трудовой деятельности [Mossberger, Tolbert, McNeal 2007]. Таким образом, характерными признаками цифрового гражданства являются присутствие в цифровой среде в качестве постоянного пользователя, потребление политической информации, гражданское участие, экономический интерес и профессиональная деятельность.
Цифровое гражданство рассматривается К. Моссбергер в трех аспектах участия в общественной жизни: это 1) включение в различные формы общения посредством использования цифровых коммуникаций, 2) воздействие Интернета на способность участвовать в качестве граждан в политике и 3) влияние Интернета на равенство возможностей на рынке труда. Достижение экономического благосостояния связывается с ростом доступности цифровых коммуникаций, от которой наибольшую выгоду получают молодежь, малообразованные слои общества и социальные меньшинства.
К. Моссбергер с соавторами строят свою концепцию на основе изысканий социолога Т. Маршалла, который определил гражданство как наделение всех членов политического сообщества последовательно возникшими вначале гражданскими, затем политическими и потом социальными правами, включая право на цивилизованную жизнь в соответствии с общественными стандартами. Так, с расширением прав гражданства происходило расширение класса граждан [Marshall, Bottomore 1992]. Исходя из этого, К. Моссбергер полагает, что в современном обществе использование Интернета становится способом осуществления политических, экономических и социальных прав граждан.
По мнению К. Моссбергер, использование Интернета имеет значительные преимущества для демократического участия, увеличения вероятности голосования и гражданской активности [Mossberger, Tolbert, McNeal 2008: 262-264]. Политика в режиме онлайн демонстрирует существенные преимущества для участия и предоставляет широкий доступ к правительству, возможность мобилизовать молодежь для активных общественных действий [Mossberger 2009]. Изменение отношений между гражданами и правительством часто декларируется как цель цифрового правительства, а новые инструменты, такие как социальные сети – как способные улучшить взаимодействие с гражданами посредством прямого диалога [Mossberger, Wu, Crawford 2013].
Масштаб цифрового гражданства . Стремительная динамика роста числа пользователей отправила в прошлое концепцию «сетевого клуба» для избранных. В настоящее время более обоснованно следует говорить о массовом цифровом обществе, в котором снимается проблема «цифрового разрыва», или «цифрового неравенства», т.к. цифровые коммуникации становятся общедоступными для населения [Norris 2001; Graham 2011]. По данным We Are Social и Hootsuite о глобальном состоянии цифровых технологий, на начало 2019 г. в мире были зарегистрированы 5,11 млрд уникальных мобильных пользователей, аудитория Интернета насчитывает 4,39 млрд чел., в социальных сетях зафиксированы 3,48 млрд участников при численности народонаселения мира 7,7 млрд чел. Сегодня 3,26 млрд пользователей заходят в социальные сети с мобильных гаджетов, на которые приходится почти половина времени нахождения в цифровом пространстве. В среднем по миру пользователи находятся онлайн в течение 6 ч 42 мин. каждый день. (Для сравнения: российские пользователи проводят в сети 6 ч 29 мин.) Согласно Internet Trends Report 2018, в мире средний взрослый человек тратил 5,9 ч в день на цифровые медиа по сравнению с 3 ч в 2009 г.1
Если сравнивать с данными пятилетней давности, то число интернет-поль-зователей во всем мире увеличилось более чем на 1,9 млрд, т.е. на 75% за 5 лет. Показательно, что первый миллиард интернет-пользователей набрался за 16 лет с момента запуска сети в 1989 г., второй миллиард присоединился всего за 6 лет, а сейчас Интернет прирастает со скоростью 1 млрд новых пользователей в 2,7 года. Обозначенные данные дают наглядное представление о возмож- ном масштабе мирового распространения цифрового гражданства. В России насчитывается 109,6 млн интернет-пользователей, уровень проникновения Интернета составляет 76%. При этом 85% всех онлайн-пользователей в России заходят в Интернет каждый день, т.е. относятся, согласно критериям, к категории цифровых граждан1.
Организация цифрового порядка. Цифровое гражданство затрагивает наиболее фундаментальные понятия политической теории – государство, суверенитет, гражданское общество, собственно сам статус гражданина. Цифровые коммуникации стирают границы между физическим и цифровым, локальным и глобальным мирами, что подталкивает к переосмыслению сущности основополагающих политических категорий. Политическая значимость концепции цифрового гражданства становится очевидной при рассмотрении проекции будущего общественного порядка.
В числе глобальных последствий цифровой трансформации исследователи обозначают распространение транснационального, или космополитического гражданства, введение кибергражданства для пользователей социальных сетей, утверждение корпоративного гражданства, а также приобретение цифрового подданства, формирование политических сообществ без территории. Л. Оргад полагает, что рост глобальной взаимосвязанности, идентичности и ответственности в совокупности могут привести к созданию международной юридической личности и цифровой идентичности как формы «глобального гражданства». Он считает, что одним из возможных результатов глобального гражданства станет появление децентрализованных «облачных сообществ», в которых граждане мира, имеющие общие интересы, могут быть политически организованными и сотрудничать с целью оказания влияния на международные решения [Orgad 2018].
Создатели цифровых платформ Э. Шмидт и Д. Коэн называют Интернет крупнейшим в истории анархистским экспериментом. В онлайн-пространстве каждое мгновение сотни миллионов людей взаимодействуют, создают и потребляют невообразимые объемы контента. Цифровое пространство фактически не имеет границ, в рамках которых действовали бы национальные законы. По убеждению адептов цифрового мира, в ситуации беспрецедентно высокого роста числа пользователей Интернета «многим традиционным институтам и иерархическим структурам придется измениться, или они безнадежно устареют, перестав соответствовать требованиям современного общества. Цифровые технологии коммуникации продолжат трансформировать общественные институты, что скажется на степени концентрации власти и приведет к ее перераспределению от государств и общественным организациям [Коэн, Шмидт 2013: 4]. Цифровые коммуникации создают пространство, где любому человеку независимо от уровня жизни или национальности предоставляются право голоса и право на изменение [Cohen, Schmidt 2010]. Д. Коэн и Э. Шмидт прогнозируют, что появление и мощь технологий связи – инструментов, которые соединяют людей с огромным количеством информации и друг с другом, – сделают XXI в. неожиданным. Правительства будут застигнуты врасплох, когда большое число их граждан, вооруженных практически только сотовыми телефонами, примут участие в мини-восстаниях против власти. Для средств массовой информации репортаж будет все больше становиться совместным предприятием традиционных информационных организаций и быстро растущего числа гражданских журналистов. Для граждан же доступ в Интернет означает обладание множе- ственными «личностями» как в физическом, так и в цифровом мире. Начнут возникать новые формы коллективной ответственности пользователей.
Идеалистическому представлению о свободном от власти цифровом мире «пользователей в облаках» противостоит видение более знакомого мира организованных сетевых структур и иерархий. Виднейший социолог современности Э. Кастельс указывает, что в сегодняшнем мире общественные отношения организованы по принципу сетей. Люди утратили связь с локальными сообществами и действуют с позиции сетевого индивидуализма, составляющего суть персонализируемого сообщества [Кастельс 2000: 62-63]. Он раскрывает структуру нового цифрового мира, утверждая, что «сеть определяется программой, которая задает цели и правила исполнения». В свою очередь, «программа состоит из кода, который включает оценку исполнения и критерии успеха или неудачи», а «однажды установленные и запрограммированные сети следуют инструкциям, занесенным в их операционную систему, и оказываются способными к самоформированию в рамках параметров, предписанных им целями и методами» [Кастельс 2016: 37].
Э. Кастельс полагает, что «в мире сетей возможность осуществлять контроль над другими определяют два основных механизма: способность создавать сеть (сети) и программировать/перепрограммировать работу сети (сетей) для достижения поставленных перед сетью целей и способность соединять и обеспечивать взаимодействие различных сетей» [Кастельс 2016: 63]. В цифровой среде первой властной позицией обладают «программисты», а второй позицией – «переключатели». Возможность программирования или перепрограммирования целей сети является первым источником власти, «поскольку однажды запрограммированная сеть будет работать эффективно и перенастраивать свою структуру и узлы, исходя из заданных для достижения целей». Вторым источником власти является контроль точек соединения между различными стратегическими сетями посредством переключения. «Программисты и переключатели – это те акторы и акторы-сети, которые в силу их позиции в социальной структуре обладают сетесозидающей властью, наивысшей формой власти в сетевом обществе» [Кастельс 2016: 65-66]. Сопротивление власти, согласно Э. Кастельсу, осуществляется через те же два механизма, которые и конституируют власть в сетевом обществе – программы сетей и переключатели между сетями. А целью различных форм коллективного действия в рамках социальных движений является, таким образом, введение новых команд и новых кодов в сетевые программы. Таким образом, переключение и программирование глобальных сетей становятся формами реализации власти в глобальном сетевом обществе цифровых граждан.
Как установление правил считается необходимым условием жизнедеятельности любого общества, так и принуждение является необходимым средством упорядочения отношений в цифровом сообществе. Они не могут сохранять устойчивость без применения санкций в случае отклонения от принятых норм поведения. В социальном плане наказание в цифровом обществе имеет иной характер, чем в реальном мире. В цифровом сообществе пользователь, нарушивший правила, может быть наказан посредством лишения цифрового гражданства. В цифровых сетевых сообществах также возможно введение штрафов, блокировка аккаунта, ограничение доступа к правам и информационным базам данных. В информационном обществе репутационный капитал является ценным активом и фактором для предоставления услуг и продуктов, поэтому одной из эффективных мер может стать система социального кредита, включая символические санкции или поощрения, меры персональной онлайн-дискре-дитации либо возвышения. Пока цифровое гражданство дает некоторые пре- имущества, в частности способность влиять и принимать решения, получать выгоду, оно будет представлять ценность, мотив принятия и сохранения статуса пользователя.
В цифровом обществе принуждение достигается без применения прямого физического насилия через программирование поведения и дизайн. Поскольку в цифровом обществе гражданство является виртуальным, принуждение осуществляется с помощью программного обеспечения. «Виртуальная личность», или «глобальная личность» запрограммирована на подчинение решениям сообщества или создателей платформы. В цифровой среде существуют интернет-протоколы, которые являются формой «сильного принуждения», т.к. программное обеспечение сложно обойти без специальных знаний и усилий. Интернет-коды, ограничения и блокировки пользователей действуют категорично и безжалостно, поэтому цифровое общество представляет собой форму «абсолютного принуждения» [Orgad 2018].
Политическое участие. Снижение гражданской активности, прежде всего молодежи, в традиционных формах участия стало центральной темой для ученых и политиков. Наблюдаемое явление часто рассматривают как признак кризиса в гражданстве и демократии. Однако Р. Далтон считает, что нормы гражданства переходят от модели гражданства, основанного на долге, к активному гражданству. Происходящие сдвиги в норме не размывают гражданское участие, а меняют и расширяют модели политического участия [Dalton 2008]. Большинство исследователей отмечают дрейф молодого поколения от традиционных форм участия (членство в партиях, участие в выборах и др.) к альтернативным формам, таким как онлайн-подписание петиций, присоединение к бойкотам и протестам, участие в демонстрациях [Sloam 2016]. Л. Джорба и Б. Бимбер исследовали влияние цифровых медиа на гражданство в аспекте политического участия, придя к неоднозначному результату, указывающему на смещение форм политической активности, прежде всего молодежи, в цифровую среду [Jorba, Bimber 2012; Bimber 2012].
Многие исследователи констатируют расширение участия граждан под влиянием цифровой среды. Репертуар политического участия в странах устоявшейся демократии быстро расширяется и охватывает такие виды деятельности, как голосование, демонстрации, волонтерство, бойкотирование, ведение блогов и флешмобы. Традиционные и современные формы могут быть интегрированы в многомерную модель политической активности, охватывающую следующие действия: (1) голосование, (2) участие в цифровой сети, (3) институционализированное участие, (4) протест, (5) гражданское участие [Theocharis, Van Deth 2018]. Данная модель позволяет соотносить общую гражданскую активность с ее отдельными видами.
Исследователи выявляют сильную зависимость между использованием социальных сетей и политической активностью. Особенно эффективно социальные медиа способствуют вовлечению молодежи в политическую деятельность и гражданское участие [Xenos, Vromen, Loader 2014]. Сайты социальных сетей, веб-сайты и тексты все чаще служат как проводником политической информации, так и главной общественной ареной, где граждане выражают политическую позицию и обмениваются своими политическими идеями, собирают средства и мобилизуют других, чтобы голосовать, протестовать и работать над общественными вопросами. Новые медиа вовлекают в гражданскую активность, т.к. имеют важные свойства интерактивности и акционности1.
Гражданское общество постепенно перемещается в онлайновый мир [Jensen, Danziger, Venkatesh 2007]. От информационного использования Интернета граждане переходят к его использованию в качестве средства социальной организации на основе координации действий. Интернет может выполнять множество функций общественных организаций, включая лоббирование выборных представителей, государственных чиновников и политических элит; налаживание связей с соответствующими ассоциациями и организациями; мобилизацию организаторов, активистов и участников с помощью уведомлений о действиях, информационных бюллетеней и электронных писем; сбор средств и набор сторонников; доведение сообщений до общественности через традиционные средства массовой информации.
Исследователи доказывают, что воспитание цифрового гражданства, содействие социальному и политическому участию с лучшим распространением информации и обсуждением среди граждан являются жизненно важными элементами здоровой демократической системы. Цифровые платформы в разных контекстах могут обеспечить большую вовлеченность и доступность для более широкого политического и социального участия. Использование социальных сетей организациями гражданского общества может (1) расширить политические возможности для защиты интересов, (2) установить связь с местным правительством и (3) предоставить больше возможностей для присутствия [Kaigo 2017].
Электронная демократия. Цифровые технологии открывают для граждан возможность участия в прямой демократии, поскольку снимают проблему масштаба в возможности участия большого числа граждан в принятии политических решений. Электронная демократия понимается как форма правления, в которой граждане имеют право участвовать в равной степени посредством цифровых коммуникаций в предложении, разработке и принятии законов [Curran, Nichols 2005]. Исследователи дают различные оценки электронной демократии, но большинство сходятся во мнении, что с помощью новых форм онлайн-общения может быть преодолен ряд кризисных явлений гражданства в современных либерально-демократических государствах, таких как спад электорального участия и гражданской активности, сужение возможностей для обсуждения политики.
В современном мире электронные демократические институты следуют формированию инициативной и совещательной моделей участия граждан. Инициативная модель предполагает выдвижение гражданами требований власти в виде петиций, которые набирают в Интернете значимое число голосов и приобретают официальный статус, требующий обязательного рассмотрения государственными органами. Совещательная модель предполагает более сложную горизонтальную и разнонаправленную интерактивность, когда выработка политических решений органов власти происходит при общественном обсуждении и с помощью опросов на площадках онлайн-форумов [Leighninger 2011].
Интернет помогает гражданскому участию, предоставляя новую возможность взаимодействия с правительственными учреждениями. Интернет воздействует на правительство двумя основными способами: расширяет возможности отдельных лиц и расширяет возможности групп людей. Электронная демократия предлагает широкому сообществу граждан больший доступ к политическим процессам и выборам. Интернет позволяет гражданам получать и размещать политическую информацию, а также дает возможность органам власти собирать мнения граждан в большем количестве. Развитие электронной демократии связано со сложными факторами, такими как политические нормы и давле- ние на институты власти со стороны граждан. Граждане оказывают давление на государственных чиновников, добиваясь принятия востребованных решений, упрощается доступ к чиновникам, принимающим решения, с помощью интерактивных форм общения.
Электронная демократия способна объединить граждан и привести к созданию электронного правительства. Электронное правительство повлечет за собой радикальное изменение, перестройку современного административного государства, поскольку регулярные электронные консультации избранных политиков и государственных служащих с гражданами станут стандартной практикой в принятии решений [Fountain 2001].
И хотя в обозримом будущем радикальный переход от представительной демократии к прямой маловероятен, уже сейчас происходит формирование «гибридной модели», которая использует Интернет для обеспечения большей прозрачности правительства и участия граждан в принятии решений.
Интеграция миров. Рассмотрение политических граней цифрового гражданства позволило выявить некоторые возможности и проблемы происходящей трансформации общественных отношений. Цифровые коммуникации предоставляют новые возможности для политической активности и обсуждения, увеличивая значение гражданского участия в общественной жизни. Интернет открыл мир информационных и коммуникационных платформ, став вторым пространством действия для людей. При этом происходит интеграция киберпространства с реальным пространством [Kellerman 2014].
Предвестник цифрового мира социолог М. Маклюэн утверждал, что двигателем истории является смена технологий, вызванная изменением способа коммуникации в сфере познания. Человеческое восприятие определяется скоростью передачи информации, а тип общественного устройства – господствующим типом коммуникации. Технологическое развитие средств передачи информации проводит к «расширению» человека и сужению пространства. Мир превращается в «глобальную деревню», в которой коммуникации не имеют границ [Маклюэн 2003; 2005].
По мнению российских исследователей, реальность и виртуальность сейчас уже не противопоставляются. Идея объединения реального и виртуального миров получает свое развитие в представлениях о цифровой культуре и цифровом гражданстве. При этом цифровая культура понимается как часть повседневной культуры информационного общества, которая также должна регламентироваться как правовыми, так и этическими правилами поведения и безопасности, принятыми в обществе. Исходя из этого, рассмотрение ответственности как компонента цифровой компетентности требует понимания прав и обязанностей «цифрового гражданина» и правил поведения в цифровом мире [Солдатова, Рассказова 2014].
По выражению Л. Оргада, можно построить теоретические модели цифрового гражданства, но существует множество неопределенностей – политических, технологических и психологических, – прежде чем оно станет реальным [Orgad 2018]. Последствия цифровой трансформации остаются неясными, но рано или поздно четвертая промышленная революция, преобразуя социальный дизайн общества наступающего будущего, неминуемо внесет свои коррективы в институт гражданства.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта 19-011-31291 опн.
Список литературы Политические грани цифрового гражданства
- Кастельс М. 2000. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ. 608 c
- Кастельс М. 2016. Власть коммуникации (пер. с англ. Н.М. Тылевич; под науч. ред. А.И. Черных). М. ИД ГУ ВШЭ. 564 с
- Кимлика У. 2010. Современная политическая философия: введение. (пер. с англ. С. Моисеева). М.: ИД ГУ ВШЭ. 592 с
- Коэн Д., Шмидт Э. 2013. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств (пер. с англ. С. Филина). М.: Манн, Иванов и Фербер. 368 с
- Маклюэн М. 2003. Понимание медиа. Внешние расширения человека. М., Жуковский: КАНОН-пресс Ц; Кучково поле. 464 с